Этический идеал – иррациональный человек, который не подчиняется рациональным требованиям, это человек абсурда.
Так, изображение зонтика не преследует обнаружения его прямого значения, его функции, т.е. зонтик не для защиты от дождя, солнца или ветра, а совсем для другого: это значит, что зонтик выступает в роли, отрицающей его первоначальную функцию. Происходит как бы, говоря гегелевским языком, «отрицание зонтиком самого себя». В этом парадоксальном, противоречивом поведении и заключается причина упоминавшегося выше «чувства абсурда».
Таким образом, с точки зрения философии сюрреализма, познание иррациональной реальности возможно лишь с помощью особого класса художественных эмоций — сюрреалистических переживаний (тех «абсурдных» чувств, о которых мы только что говорили). Поэтому между Камю и Шопенгауэром фактически нет расхождения: «бегством от абсурда» является не всякое, а только классическое искусство (а только его и знал Шопенгауэр); сюрреалистическое же искусство есть не бегство от абсурда, а проникновение в самую его суть. Поэтому сюрреалистическое изобразительное искусство играет ту же уникальную мировоззренческую роль, какую играла музыка в философии Шопенгауэра. Из всего сказанного становится ясно, что мировоззренческим идеалом сюрреализма должен быть мир иррациональных (парадоксальных, алогичных) явлений, напоминающий «театр абсурда» Ионеско. При этом следует отметить, что сюрреалистическая идеализация реального мира, в результате которой получается указанный мировоззренческий идеал, весьма своеобразна. Согласно философии сюрреализма, в мире реальных явлений «абсурдная» сущность проявляется неадекватно (несовершенно). Поэтому в реальном мире «абсурдные» явления встречаются редко. Но в идеальном мире ситуация должна быть существенно иной — все противоречия, заключенные в сущности вещей, обязаны совершенно четко проявляться (проступать, просвечивать) на «поверхности» явлений. Таким образом, переход от реального мира рациональных явлений к сюрреальному миру иррациональных явлений должен происходить путем последовательного устремления к нулю неадекватного проявления абсурдной реальности в наблюдаемом мире.
Абсурдная реальность должна получить свое адекватное проявление и в человеке. Очевидно, что продуктом иррационального мира может быть только иррациональный человек. Последний есть, прежде всего, существо в высшей степени загадочное и таинственное, начиная с внешности и кончая поведением и результатами деятельности. Эта особенность иррационального человека прекрасно выражена Магриттом в его знаменитой композиции «Большая война» (рис. 188). Еще более выразительно иррациональная тайна, окутывающая облик такого человека, передана в яйцеподобных и безликих головах персонажей «метафизических» картин Ки-рико (рис. 186), резюмированных Дали в виде огромной статуи с такой головой у входа в его музей в Фигуерасе. Яйцеголовость служит здесь символом особой (недоступной обычному смертному) мудрости2, а безликость символизирует непроницаемость личности, т. е. загадочность ее духовного облика (высшую таинственность).
1 С этим связано и ироническое название картины: Гегель на отдыхе, прогуливаясь с зонтиком, забавляется одним из милых его сердцу противоречий. Процесс создания «Каникул Гегеля» подробно описан Магриттом в письме к Сузи Габлик от 19 мая 1958 г. (см.; Бер-нар Ноэль. Магритт. М., 1995. С. 19-22). Работа над этой картиной отнюдь не сводилась к бретоновскому автоматизму: написанию картины предшествовали 150 подготовительных рисунков (!).
2 Согласно философии сюрреализма эта мудрость заключается как раз в осознании ограниченности рационального мышления и понимании значения, которое имеет понятие абсурда, для постижения иррациональной сущности вещей.
Обращаясь к миру реальных вещей, иррациональный человек должен начать, как мы с этим уже неоднократно встречались, преобразовывать их по своему образу и подобию. Это значит, что он должен подвергнуть их своеобразной иррациона-лизации. Мы только что продемонстрировали такую процедуру на примере деятельности Дали. Рассмотрим последовательно основные приемы этой иррациона-лизации.
1) Иррационализация атрибутов реальности. Ярким примером является приписывание противоположных, взаимоисключающих черт пространству и времени. С таким приемом мы уже встречались в «Вознаграждении льстеца» Кирико (рис. 183). Там же мы познакомились и с иррационализацией движения и покоя, когда они совмещаются вместе в одном объекте и невозможно определить, какой из этих атрибутов доминирует. Не менее гипнотизирующее впечатление производит и Иррационализация количества, когда предметы, имеющие маленькие размеры в повседневной жизни, резко увеличиваются, а имеющие большие — уменьшаются (например, «Личные ценности» Магритта). Однако наиболее впечатляющим является загадочное нарушение закономерности и причинности: тяжелые предметы, вопреки закону тяготения, сами собой повисают в воздухе (рис. 187), негорючие начинают пылать, а поставленные перед зеркалом отражаются не так, как того требуют законы оптики (рис. 188).
2) Противоестественное сочетание одних реальных вещей с другими реальными же вещами. То, что такой прием открывает путь для поиска необычной выразительности там, где ее меньше всего можно ожидать, впервые четко выражено графом Лотремоном в его романе «Песни Мальдоро» (1846-1870). В нем поставлена программа достижения такой выразительности, которая возникает «при случайной встрече швейной машины с зонтиком на хирургическом столе»[.
Крупнейший теоретик сюрреализма А. Бретон так пояснил суть этого приема:
«Тот особый свет, свет образа, к которому мы оказываемся столь глубоко восприимчивы, вспыхивает в результате своего рода случайного сближения двух элементов. Вся ценность образа зависит от красоты той искры, которую нам удалось получить; эта искра, следовательно, зависит от разности потенциалов двух проводников. Если такая разность чрезвычайно мала... то искры не возникает»2. Нетрудно понять, что именно на таком странном сочетании двух чуждых друг другу элементов основан художественный эффект «Каникул Гегеля», «Большой войны» и многих других картин Магритта.
3) Сочетание в прямой сюжетной связи реального и фантастического. Яркой иллюстрацией подобной композиции может служить «За секунду до пробуждения после облета шмеля вокруг плода граната» Дали (рис. 194). Реальная фигура Галы вместе с реальным гранатом, около которого гудит не менее реальный шмель, сливается в нечто единое со сновидением, которое видит Гала под воздействием звука, издаваемого шмелем.
1 Дали развил сюрреалистический абсурд дальше, представив его в форме «пения птиц на дне аквариума» — «Бред, растворенный у нас в крови, действует как проявитель: и на фотопленке проступает истина» (Дали С. Суждения об искусстве // Дружба народов. 1994. № 1. С. 236).
2 Бретон А. Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами. М., 1986. С. 65.
Абстракционистский идеал и метод
| Как уже отмечалось в начале предыдущего раздела, критика конструктивистских (рационалистических) тенденций в модернистском искусстве могла пойти и по пути, отличному от сюрреалистического — можно было потребовать отказа не от рациональной предметной реальности, а от предметной реальности вообще и замены ее, так сказать, некой беспредметной реальностью. Другими словами, можно было пойти не по пути «абсурдного» преобразования наблюдаемой реальности, а по пути бегства от этой реальности. Философским основанием для такого подхода были, главным образом, интуитивизм Бергсона с его учением о «жизненном порыве» как первооснове всего существующего, постигаемом только «интуицией», энергетизм Оствальда с его идеей о первичности энергии относительно материи (вещества) и антропософия Штейнера с ее концепцией скрытых экстраспиритуальных способностей человека. Понятие жизненного порыва в соединении с идеей первичности энергии относительно материи приводило к представлению о духовной энергии космоса, рождающей порядок из хаоса, как основе мироздания. Эта энергия не может адекватно проявиться в устойчивых вещественных предметах, которые благодаря их инертности и пассивности являются ее антиподом (ср. резкие выпады основателя абстракционизма как художественного направления Кандинского против материализма)'. Поэтому идеалом мироздания становится совокупность дематериализованных (десубстанциализиро-ванных) явлений, т. е. освобожденных от вещественного субстрата. В них указанная космическая энергия, так сказать, бьет ключом, проявляя себя явно. Символом этой энергии у Кандинского стала синяя лошадь2, а впоследствии круг.
Идеальный, чисто «энергетический» мир, естественно, формирует свой идеал человека. В качестве такого идеала выступает сверхдуховный, или экстраспириту-альный человек — сгусток скрытой психической энергии, удовлетворяющей (в духе антропософских представлений о человеке) следующим двум условиям: 1) эта скрытая психическая энергия является формой проявления указанной выше космической энергии; 2) благодаря этому у такого человека обнаруживаются совершенно невероятные (исключительные) и неожиданные (экстраординарные) духовные
1 Кандинский В. В. О духовном в искусстве. М., 1992. С. 11.
2 Лошадь — символ движения (ассоциация у Кандинского с его игрушечной лошадкой);
синий цвет — символ небесного происхождения энергии движения; круг — символ бесконечности и вечности.
способности, позволяющие ему осуществлять непосредственную связь с космосом1. Он проявляет эти способности и делает скрытую энергию явной в процессе своеобразной «беспредметной» деятельности — стирания противоположности между объективным и субъективным, реальностью и фантазией. При этом он создает такой объект, который как в глобальном, так и в локальном смысле не похож ни на какие реальные объекты. Согласно философии абстракционизма, создавая подобный объект, экстраспиритуальный человек обнажает действительную сущность мира как космической энергии духовного характера. Только «беспредметный» объект проявляет такую энергию явно. Предметность является маской, скрывающей истинный смысл этой энергии. Лишь беспредметность показывает творческий акт как таковой во всей его чистоте, не замутненный какой-то утилитарной целью, не продиктованный какими-то материальными интересами. С этой точки зрения высшая духовность достижима только в «беспредметной» деятельности.
Таким образом, абстракционистский синтез субъективного и объективного существенно отличается от сюрреалистического синтеза тем, что он идет до конца, охватывая как глобальные, так и локальные аспекты картины (изгоняя сходство с реальными предметами как из целого, так и из частей, тогда как второй ограничивается только целым (локальное сходство с реальными предметами здесь сохраняется). Таким образом, полный синтез объективного и субъективного, реального и фантастического может быть достигнут, согласно философии абстракционизма, только с помощью беспредметности. Это значит, что экстраспиритуальный человек подвергает все предметы, говоря философским языком, своеобразной акциден-циализации (десубстанциализации). Последняя совпадает с тем, что можно было бы назвать также эфемеризацией, но не в импрессионистическом смысле: теперь речь идет не о «растворении» предмета в световоздушной среде (при этом, как мы уже видели при анализе импрессионизма, предмет становится «зыбким» и «шатким», но тем не менее сохраняется), а об отделении свойств предмета от их «носителя». Теперь от предмета остаются только «абстрактные» свойства — форма, цвет и т. п. — которые могут комбинироваться с аналогичными свойствами других предметов. В результате на смену реальному предмету, существующему в пространстве и времени, приходит комбинация чистых линий, форм и цветовых пятен, не соответствующая, вообще говоря, никакому реальному объекту.
Из сказанного следует, что беспредметность в абстракционизме не означает неизобразительности: все графические и цветовые элементы, в конечном счете, заимствуются из каких-то реальных объектов, у которых они отражают какие-то свойства. Речь, стало быть, идет об отказе от изображения предметов, но не свойств. В то же время художник-абстракционист оказывается в положении Алисы в Зазеркалье: он видит формы и цвета без их носителей, подобно тому как Алиса видела улыбку Чеширского кота без кота.
Нетрудно заметить, что акциденциализация (обеспредмечивание) реальных предметов является частным случаем их идеализации: последовательно ослабляя «узы», связывающие свойства предмета в целостное единство, и грани, отделяющие один предмет от другого, можно шаг за шагом свести эти «узы» и эти грани к нулю.
1 Способности такого человека не сводятся только к экстрасенсорным: они гораздо шире.
Усы Дали символизируют способности, позволяющие ему осуществлять непосредственную связь с космосом'. Он проявляет эти способности и делает скрытую энергию явной в процессе своеобразной «беспредметной» деятельности — стирания противоположности между объективным и субъективным, реальностью и фантазией. При этом он создает такой объект, который как в глобальном, так и в локальном смысле не похож ни на какие реальные объекты. Согласно философии абстракционизма, создавая подобный объект, экстраспиритуальный человек обнажает действительную сущность мира как космической энергии духовного характера. Только «беспредметный» объект проявляет такую энергию явно. Предметность является маской, скрывающей истинный смысл этой энергии. Лишь беспредметность показывает творческий акт как таковой во всей его чистоте, не замутненный какой-то утилитарной целью, не продиктованный какими-то материальными интересами. С этой точки зрения высшая духовность достижима только в «беспредметной» деятельности.
Таким образом, абстракционистский синтез субъективного и объективного существенно отличается от сюрреалистического синтеза тем, что он идет до конца, охватывая как глобальные, так и локальные аспекты картины (изгоняя сходство с реальными предметами как из целого, так и из частей, тогда как второй ограничивается только целым (локальное сходство с реальными предметами здесь сохраняется). Таким образом, полный синтез объективного и субъективного, реального и фантастического может быть достигнут, согласно философии абстракционизма, только с помощью беспредметности. Это значит, что экстраспиритуальный человек подвергает все предметы, говоря философским языком, своеобразной акциден-циализации (десубстанциализации). Последняя совпадает с тем, что можно было бы назвать также эфемеризацией, но не в импрессионистическом смысле: теперь речь идет не о «растворении» предмета в световоздушной среде (при этом, как мы уже видели при анализе импрессионизма, предмет становится «зыбким» и «шатким», но тем не менее сохраняется), а об отделении свойств предмета от их «носителя». Теперь от предмета остаются только «абстрактные» свойства — форма, цвет и т. п. — которые могут комбинироваться с аналогичными свойствами других предметов. В результате на смену реальному предмету, существующему в пространстве и времени, приходит комбинация чистых линий, форм и цветовых пятен, не соответствующая, вообще говоря, никакому реальному объекту.
Из сказанного следует, что беспредметность в абстракционизме не означает •неизобразительности: все графические и цветовые элементы, в конечном счете, заимствуются из каких-то реальных объектов, у которых они отражают какие-то свойства. Речь, стало быть, идет об отказе от изображения предметов, но не свойств. В то же время художник-абстракционист оказывается в положении Алисы в Зазеркалье: он видит формы и цвета без их носителей, подобно тому как Алиса видела улыбку Чеширского кота без кота.
Нетрудно заметить, что акциденциализация (обеспредмечивание) реальных предметов является частным случаем их идеализации: последовательно ослабляя «узы», связывающие свойства предмета в целостное единство, и грани, отделяющие один предмет от другого, можно шаг за шагом свести эти «узы» и эти грани к нулю.
1 Способности такого человека не сводятся только к экстрасенсорным: они гораздо шире.
Художественный процесс и проблема идеала
Из всего сказанного очевидно следующее. Вся специфика процесса художественного восприятия состоит в том, что он обратен процессу художественного творчества, причем его заключительное звено — взаимодействие между образом и чувством, кодируемым этим образом, — представляет собой цепочку челночных движений от образа к чувству и обратно. Эти движения продолжаются до тех пор, пока эта цепочка (или, лучше сказать, спираль) не завершится полным сопереживанием.
Нетрудно заметить, что этот процесс является в некотором отношении зеркальным отражением процесса художественного творчества с той разницей, что там решающую роль играет серия «челночных» движений между образом и произведением (взаимодействие образа и материала). Характерно, что и там система таких движений завершается после конечного числа шагов нахождением уникальной материальной модели, адекватно выражающей соответствующее чувство.
Отметим, что этот процесс имеет статистический характер случайных колебаний (так сказать, «флуктуации»), при которых возможно, вообще говоря, как обогащение, так и обеднение первичного сопереживания. Ибо только корректный анализ обогащает эмоциональную палитру образа, а некорректный, напротив, обедняет ее.
1 Отметим, что грань между полным сопереживанием и сверхпереживанием очень условна и подчас трудноуловима, особенно когда это касается живописи старых мастеров. Без наличия дополнительных данных о творческом процессе провести ее четко нередко бывает затруднительно. Но это и не нужно, поскольку такая грань совершенно несущественна для понимания произведения. В обоих случаях мы имеем «понимание» с той только разницей, что при сверхпереживании у нас, так сказать, понимание с излишком.
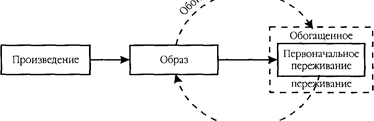
Схема 3. «Логика» художественного восприятия
История живописи показывает, что не только процесс художественного творчества влияет на процесс художественного восприятия, но и процесс художественного восприятия в целом оказывает обратное влияние на творчество. Это влияние проявляется в том, что не только зритель в своем «вчувствовании» должен учитывать самовыражение художника, включая его замысел и особенности стиля, но и художнику следует в своем самовыражении учитывать особенности зрительского «вчувствования», то есть вкусы того зрителя, для которого он творит. Хочет ли этого художник или нет, отдает ли он в этом себе отчет или не отдает — при любых условиях не следует забывать, что конечной целью художественного творчества является обмен обобщенной эмоциональной информацией между художником и зрителем.
Таким образом, как художественное творчество, так и восприятие являются в действительности лишь составными звеньями единого процесса, который удобно назвать художественным процессом. Этот термин обозначает именно специфическое единство художественного творчества и восприятия (то есть их взаимосвязь и взаимодействие). Здесь уместно обратить внимание читателя на следующее немаловажное обстоятельство. Художественный процесс лишь в простейшем случае выглядит как процесс передачи эмоциональной информации от индивидуального художника индивидуальному зрителю, В более же сложных случаях одно и то же художественное произведение оказывается посредником в передаче эмоциональной информации от творческого коллектива художников (художественного ансамбля) сопереживающему коллективу зрителей. В самом деле, бывают случаи, когда при создании картины возникает естественное разделение труда: один художник пишет, например, человеческие фигуры, а другой — пейзажный фон. В результате картина оказывается результатом совместного труда двух художников, творчество которых является самосогласованным. Кодирование общезначимых переживаний осуществляется ими совместно, ибо они в равной мере участвуют в создании единого художественного образа.
В еще большей степени это проявляется в музыкальном и литературном творчестве. Исполняемое музыкантом музыкальное произведение или читаемое актером литературное произведение отнюдь не является продуктом творчества только композитора или писателя (поэта): музыкант и актер благодаря собственной интерпретации музыкального или литературного текста становятся такими же творцами художественного произведения, как композитор и писатель. Поэтому сам
факт сопереживания зрителем или слушателем чувств, закодированных в произведении, совершенно не зависит от того, сопереживает зритель соответственно художнику-солисту, дуэту художников или художественному ансамблю. В главе IV мы увидим, к каким далеко идущим социальным последствиям приводит развитие такого коллективного художественного процесса.
Из анализа художественного творчества, данного в главе I, ясно, что главная загадка этого творчества состоит в следующем: как возможно на основании знания только объекта эмоционального отношения найти в гигантском множестве возможных умозрительных моделей ту единственную модель, которая дает адекватное выражение эмоционального отношения к объекту и в то же время может быть совсем не похожа на этот объект? Это более трудно, чем отыскать иголку в стоге сена или крупицу золота в огромной массе пустой породы. Парадоксально то, что подлинно талантливые художники каким-то образом находят такую модель. Если бы художественный образ был копией объекта эмоционального отношения, то никакой трудности бы не возникло; копирование исключило бы необходимость выбора. Но благодаря символическому характеру художественного образа (см. гл. I § 2) возникает потребность в кодировании, а это сразу ставит во всей остроте проблему выбора, причем из потенциально огромного множества вариантов. Главная тайна таланта заключается не столько в искусстве конструирования новых моделей, сколько именно в искусстве выбора из потенциально возможных моделей максимально выразительной. Недаром великий математик А. Пуанкаре говорил, что «творить — значит выбирать»'.
С одной стороны, поскольку объект эмоционального отношения имеет, как правило, мало общего с художественным образом, знание этого объекта не может играть роль селектора (вспомогательного ограничителя, эстетического фильтра) для отбора уникальной модели из множества возможных. С другой стороны, осуществить выбор путем последовательного перебора вариантов невозможно, ибо ввиду их огромного количества на это не хватит жизни не только одного художника, но и многих поколений художников.
Однако парадоксально не только художественное творчество, но и художественное восприятие. Из его анализа в этой главе не менее очевидно следует, что главная загадка (парадокс) художественного восприятия такова: как возможно без знания объекта эмоционального отношения достичь какого бы то ни было сопереживания? Поведение зрителя в этом отношении ничуть не менее загадочно, чем поведение художника: если художник неким «чудесным» способом извлекает из необозримого океана возможностей уникальный образ, то зритель восхищается этим образом, не имея ни малейшего представления об его идейном содержании. Причем и здесь мы встречаемся тоже с проблемой выбора. Придя на выставку, в музей, в художественный салон и т. п. зритель тоже выбирает понравившийся ему экспонат с той разницей, что художник выбирает из потенциальных произведений, а зритель — из актуально существующих. Но почему зритель предпочитает одно и игнорирует другое? Какова причина такого избирательного поведения?
1 В этом пункте научное и художественное творчество сближаются друг с другом настолько, что становятся практически неразличимыми (ср. приведенный афоризм Пуанкаре с поставленным в качестве эпиграфа в гл. I изречением Делакруа: «Талант — не что иное, как дар обобщать и выбирать*).
Правда, есть еще одно различие в поведении зрителя и художника. Дело в том, что, в отличие от художника, зритель всегда имеет дело со сравнительно небольшим количеством вариантов, не превышающим даже в крупнейших мировых собраниях нескольких тысяч. Поэтому он может действовать методом перебора (методом проб и ошибок), последовательно переходя от одного экспоната к другому. Но проблема, стоящая перед зрителем, не в том, как найти максимально выразительный образ для переживаемого чувства, а как пережить это чувство, не соприкасаясь с его источником в жизни.
История как творчества, так и восприятия убедительно свидетельствует о том, что ключ к решению обоих парадоксов надо искать в понятии идеала. Художник потому может найти уникальный образ в необозримом множестве, что он выбирает этот образ с помощью того же идеала, с помощью которого он в свое время выбрал объект эмоционального отношения (гл. I). Именно идеал, по-видимому, играет роль таинственного селектора при отборе. И он может сыграть эту роль только потому, что идеал художника во вдохновении (когда зарождается эмоциональное отношение к объекту) совпадает с его идеалом в процессе моделирования (когда конструируется и выбирается выразительная модель). Если же при переходе от вдохновения к моделированию идеал изменяется, тогда художник не может найти модель, адекватно выражающую соответствующее чувство, и терпит творческую неудачу.
Зритель же потому может сопереживать художнику без знания объекта эмоционального отношения (то есть идеи произведения), что его идеал совпадает с идеалом художника. В этом случае художественное произведение может вызвать эмоциональный отклик у зрителя просто потому, что оно соответствует, по крайней мере по нескольким формальным признакам, требованиям эстетического идеала зрителя. С другой стороны, художник, для того чтобы создать произведение, соответствующее вкусам зрителя, должен производить выбор образа с помощью идеала, совпадающего с идеалом зрителя.
Таким образом, анализ художественного процесса, проведенный в гл. I и II, позволяет сделать следующий очень важный для понимания сущности этого процесса вывод: именно совпадение эстетических идеалов зрителя и художника является, по-видимому, конечной причиной возможности сопереживания. И наоборот, расхождение идеалов делает сопереживание невозможным'.
Следовательно, подоплекой художественного процесса, его фундаментальной основой является существование эстетического идеала. Но чтобы выяснить точный смысл этого понятия, необходимо предварительно прояснить общее понятие идеала («идеала вообще»), чем мы и займемся в следующей главе.
1 Отсюда следует исключительное практическое значение теории художественного восприятия: тот, кто не усвоил этой теории, лишает себя возможности понять огромное множество шедевров мирового искусства и этим чудовищно обедняет свою эмоциональную жизнь.
В связи с этим следует отметить принципиальное значение для понимания природы идеологии вообще и закономерностей ее формирования и практического применения коммунистической и нацистской идеологии, оказавших столь сильное влияние на ход истории в XX в. Именно эти виды идеологии показали в полном объеме роль в истории общества нерелигиозных идеалов (в отличие от многочисленных случаев формирования и реализации религиозных идеалов, имевших место в прошлом). Тем самым появилась возможность исследовать закономерности формирования и реализации идеала вообще, частным случаем которого является религиозный идеал.
Эстетический идеал и его особенности
то конкретный тип идеального человека является мерой идеальных вещей определенного типа. Это значит, что такой идеальный человек определяет способ идеализации объектов этого типа. Тогда общее представление о таком способе идеализации становится эталоном для возбуждения и кодирования художественных эмоций определенного типа.
Как уже отмечалось в § 1 гл. I, художественные эмоции являются идеальными эмоциями. Последние отличаются от реальных чувств — они являются: 1) обобщен-
1 Существование противоположных способов идеализации человека не заключает в себе ничего странного, если мы учтем, что оно обусловлено существованием противоположных взглядов на сущность человека.
2 Вся специфика этического идеала, как ясно из сказанного, заключается именно в соответствии всех поступков той новой морали, которую он проповедует. Соответствие поступков старой морали есть не идеал, а определенная реальность.
ными (ср. § 1 гл. I) и 2) идеализированными. Если обобщение заключается в выделении в различных эмоциях сходных черт, то идеализация — в очищении этого комплекса сходных черт от некоторых компонентов (например, после обобщения сложного переживания, представляющего собой сплав положительных и отрицательных эмоций, можно отвлечься от негативного компонента и получить чисто положительное обобщенное переживание).'Именно обобщение и идеализация реальных эмоций делает понятной специфику художественных переживаний.
Возникает вопрос: почему общее представление о способе идеализации объектов определенного класса может стать эталоном для возбуждения и кодирования идеальных эмоций? Другими словами, почему оно является вспомогательным средством для возбуждения и кодирования именно художественных эмоций?
Очевидно, что способ идеализации объектов некоторого класса определяется их сущностью. Ведь, как мы уже видели, идеализация любого объекта есть переход от объекта как явления, не совпадающего с сущностью, к объекту как явлению, совпадающему с этой сущностью. С другой стороны, как уже отмечалось, сущность зависит, вообще говоря, от ее интерпретации'. Последняя же, в свою очередь, определяется реальной сущностью того человека, который интерпретирует.
«Благородный» человек видит все в «благородном» свете, а «сатанинский» — в «сатанинском». Таким образом, способ идеализации объектов диктуется как художнику, так и зрителю его представлением об идеале человека, т.е. его этическим идеалом:
«В эпохи, когда начинает формироваться более высокий нравственный облик какого-нибудь народа, всегда именно поэты, т. е. творцы эпоса, являются людьми, которые выдвигают идеальный образ человека и человеческой добродетели, становящийся образцом, на который люди должны ориентироваться и по которому они действительно судят о поступках. Такие поэты являются подлинными воспитателями, формирующими духовный облик целых поколений»2.
В то же время мы выяснили, что последовательная идеализация человека приводит неизбежно и к идеализации его эмоций. Следовательно, способ идеализации человека предполагает специфический способ идеализации человеческих переживаний. Но тогда благодаря посреднической роли идеального человека возникает тесная связь между способом идеализации объектов и способом идеализации эмоций. Идеальный человек определенного типа способен переживать только идеальные эмоции определенного типа. Поэтому он идеализирует все объекты таким образом, чтобы они возбуждали только идеальные эмоции этого же типа.
Именно указанное довольно тонкое обстоятельство делает понятным, почему способ идеализации объектов может стать эталоном для возбуждения и кодирования художественных эмоций. Здесь требуется, однако, одна оговорка: он сможет сыграть роль указанного эталона лишь при условии, что не только художник, но и зритель склонен прибегать к такой же идеализации объектов. Но это будет возможно опять-таки при условии, что зритель руководствуется тем же этическим идеалом человека, что и художник.
1 Речь идет, разумеется, не об объективной сущности, а о наших понятиях о последней.
2 Гартман Н. Эстетика. М, 1958. С. 390.
| Итак, эстетический идеал как эталон для возбуждения и кодирования художественных эмоций представляет собой практически не что иное, как представление о том, каким должно быть художественное произведение, чтобы оно соответствовало определенному (заданному, фиксированному) этическому идеалу человека'. |
Поскольку описанное представление играет роль той формы, по которой «отливается» выразительная умозрительная модель (художественный образ), то оно напоминает невидимку, всегда скрывающуюся за кадром. При рассматривании картины на стене музея зритель так же не замечает присутствия эстетического идеала, как посетитель ювелирного магазина не обнаруживает в его витрине литейной формы, с помощью которой было отлито понравившееся ему ювелирное изделие. Сказанное делает понятным, почему эстетический идеал так труден для анализа и точного определения.
Эстетический идеал, как и всякий идеал, представляет собой систему определенных нормативов. Другими словами, он задает художественный канон. Без таких нормативов, предъявляющих совершенно конкретные требования к художественному образу (и художественному произведению), эстетический идеал не приносил бы никакой практической пользы, оставаясь туманным, ни к чему не обязывающим пожеланием, бесплодно витающим в «чистых пространствах прозрачной мысли» (Гегель).
Всякий эстетический идеал содержит нормативы двух типов: содержательные и формальные. Содержательный норматив представляет собой априорную установку носителя идеала, прежде всего, относительно того, художественное произведение какого жанра он предпочитает: одно- или многофигурную сцену, портрет, ню, интерьер, пейзаж, натюрморт и т.д.2 Во-вторых, это может быть установка относительно сюжета, предпочтительного для данного жанра. Например, один художник может предпочитать бытовые сцены, а другой — батальные; один — портреты исторических личностей, а другой — простых людей; один — женские ню, а другой — мужские; один — городские пейзажи, а другой — сельские и т. п.
Таким образом, от эстетического идеала зависит то, будет ли сюжетом картины пышность или скромность, веселье или грусть, наслаждения высших классов или страдания низших, героическое или прозаическое, добродетель или порок, эротика или мистика и т.д. и т.п. Любопытно, что нормативы могут касаться самых неожиданных деталей картины («мелочей»): изображать ли персонажей преимущественно одетыми или раздетыми; если одетыми, то в современной одежде или старинной; уделять ли главное внимание одежде или лицу; вводить ли в пейзаж такие элементы, чтобы он мог быть местопребыванием богов, или такие, которые подходят только для обычных людей; компоновать ли натюрморт без участия песочных часов, чтобы он -выражал радость бытия, или с участием, чтобы он акцентировал внимание на бренности бытия, и т. п. У достаточно сложных идеалов содержательные нормативы могут быть очень сложными. Так, например, идеал кубистов включал в себя в качестве обязательного норматива требование создать такой объект, которого нет в природе3.
1 В § 3 гл. III будут приведены многочисленные примеры практического употребления описанного понятия эстетического идеала в истории живописи.
2 Содержательный норматив может охватывать сразу несколько «любимых» жанров: скажем, только историческая сцена и героический портрет; или охотничий пейзаж и такой же натюрморт и т. п.
3 «Создать новые объекты, которые нельзя сравнить с каким-либо реальным объектом» (Грис; цит. по: W e r t e n b a k e r L. The World of Picasso. N. Y, 1971. P. 60.
Особенно четкие установки давали многие идеалы относительно пространственного и временного описания реальности. Если идеал европейских художников Ренессанса (XVI в.) требовал соблюдения центральной перспективы, обеспечивавшей стереоскопичность изображения, то идеал иранских и индийских миниатюристов того же века настаивал на следовании параллельной (аксонометрической) перспективе, придававшей изображению плоский (чисто декоративный) характер. Если идеал реалистов XIX в. нацеливал на изображение современных художнику сюжетов, то идеал романтиков того же века ориентировал почти исключительно на эпизоды из далекого прошлого.
Чтобы нагляднее представить систему содержательных нормативов, образуемых разными идеалами, полезно сравнить требования, предъявлявшиеся к портрету и пейзажу в эпоху кватроченто (Италия, XV в.), с соответствующими требованиями в эпоху чинквеченто — Италия, XVI в.' (см. табл.4).
Таблица 4 Противоположный характер идеалов портрета раннего и высокого Возрождения
| Нормативы портрета | в стиле кватроченто («угловатая жеманная стройность») | в стиле чинквеченто («величавое благородство») |
| Возраст | Экстремальный (преимущественно молодой или старый) | Средний (наивысший расцвет) |
| Выражение лица | Жеманное, нервное, лукавое | Достоинство, спокойствие, серьезность |
| Одежда | Прилегающая, с обилием украшений | Свободная, с простыми линиями и пышными рукавами |
| Движения | Угловатые, быстрые, грациозные | Широкие царственные жесты |
| Аксессуары | Молитвенник и чётки | Веер и меч |
| Формы | Худощавые и нежные | Массивные и могущественные |
Совершенно аналогично обстоит дело и с системой нормативов в случае пейзажа.
Таблица 5 Противоположный характер идеалов пейзажа раннего и высокого Возрождения
| Нормативы пейзажа | в стиле кватроченто | в стиле чинквеченто |
| Рельеф местности | Резко очерченный, зазубренный | Закругленный, волнистый |
| Наличие растительности | Бедная | Пышная |
| Характер растительности | По преимуществу хвойные породы | По преимуществу лиственные породы |
| Время года | По преимуществу весна | По преимуществу лето |
| Цветы | Весенние | Летние |
I My тер Р. История живописи в XIX в. Т. 2. С. 28.
Таким образом, эстетический идеал благодаря своим нормативам фактически вводит своеобразную художественную цензуру: допустимы только такие художественные образы, которые согласуются с нормативами данного идеала, и безусловно должны быть исключены все те, которые им противоречат. Следовательно, свобода художественного творчества (и восприятия) гарантируется идеалом только в его собственных рамках. Это значит, что идеал по самой своей природе не может не требовать тотальной идеологизации как художественного творчества, так и восприятия. Каждый художник (и каждый зритель), когда он последовательно руководствуется своим идеалом, становится (и должен быть) непримиримым к инакомыслящим. История живописи заполнена бесконечными дискуссиями, доходящими до агрессивных столкновений между художниками различных направлений. Представители Ренессанса ведут борьбу против средневековых художников; представители барокко — против представителей Ренессанса; классицисты — против художников барокко; романтики — против классицистов; реалисты — против романтиков; символисты — против реалистов и т. д. С этой точки зрения история искусства, подобно истории человечества, есть «война всех против всех». Очевидно, что поскольку эстетический идеал через систему своих нормативов довольно жестко регламентирует как художественное творчество, так и восприятие, то ни о какой «абсолютной» свободе как творчества, так и восприятия не может быть и речи.
Таким образом, над художественным процессом в целом испокон веков висит дамоклов меч диктатуры идеала. Каждый художник и каждый зритель, как это ни грубо звучит, является «цепным псом» своего идеала. Истоки этой диктатуры, если учитывать только европейскую традицию, мы находим уже в «Государстве» Платона. Как известно, Платон выражает возмущение поведением Гомера, который порой так непочтительно изображает «сильных мира сего» — правителей и даже богов. Чего стоит, например, квалификация предводителя греков Агамемнона, которую Гомер вкладывает в уста Ахилла: «Пьяница жалкий с глазами собаки и сердцем оленя». Еще хуже обстоит дело, когда Гомер переходит к описанию сцен, где олимпийские боги, включая самого Зевса, дают волю разгулу своих эротических страстей. Чтобы исключить подобное глумление над «сильными мира сего», в идеальном государстве Платона вводится строгая цензура на приписывание богам и правителям человеческих пороков с тем, чтобы не запятнать образ положительного героя, который должен служить образцом для подражания. Разрешается изображение только нравственных поступков, возбуждающих мужество и уважение к «сильным мира сего».
1 Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч. М., 1966. Т. 5. С. 227. Любопытно, что Пикассо, Брак, Фальк и др. впервые продемонстрировали красоту даже тусклого «грязного» цвет? в противовес утверждению Канта, что смешанные цвета «некрасивы, ибо не чисты».
2 Миронов AM. История эстетических учений. Казань, 1913. С. 197.
Таким образом, в одном и том же сюжете закодированы разные чувства. Это объясняется тем, что художники выбирали свои модели, руководствуясь существенно разными эстетическими идеалами: Эль Греко — маньеристическим, а Санфедиче — барочным. Между тем, в основе первого лежит идеал, близкий к средневековому идеалу мистического человека, отрешенного от всего земного, в основе второго — идеал, близкий к эпикурейскому идеалу гедонистического человека, тяготеющего к земным удовольствиям.
Что касается реакции зрителя на каждое из этих изображений, то, как мы уже видели в предыдущих главах, все будет зависеть от того, каков его эстетический идеал. Если он совпадает с идеалом Эль Греко, тогда зритель будет сопереживать маньеристическому изображению; барочное же вызовет у него раздражение и возмущение. Он наверняка обвинит ученика Солимены в безнравственности. Напротив, если он придерживается того же идеала, что и ученик Солимены, тогда он будет сопереживать барочному изображению и решительно отвергнет маньеристическое. Раздражение вызовет трактовка образа у Эль Греко. Он может даже обвинить художника в ханжестве. Нельзя поэтому не согласиться с Гегелем, что «из каждого подлинно художественного произведения можно извлечь мораль (через сопереживание. — В. Д.); однако при этом играет большую роль, кто именно (т. е. с помощью какого идеала. — В.Б) извлекает эту мораль (курсив везде Гегеля. — u£.)»1.
Таким образом, моральное воздействие картины на зрителя зависит от сопереживания: предотвращение греха («Магдалина» работы Греко) или вовлечение во грех («Магдалина» Санфеличе) будет зависеть от того, состоялось сопереживание или нет. А сопереживание, как мы уже видели, возможно лишь при совпадении эстетического, а следовательно, и этического идеалов зрителя и художника. Если же они не совпадают, то сопереживание невозможно и возникает контрпереживание, которое оставит человека нейтральным в моральном отношении (не побудит его ни на моральный, ни на аморальный поступок).
Отсюда следует, что художественное произведение может оказать моральное воздействие только на морального человека, а аморальное — только на аморального. Никакие аморальные изображения не могут поколебать людей с твердой моралью; и никакие моральные — предотвратить аморальные поступки лиц, лишенных такой морали. Иное дело люди с неустоявшейся моралью: таких можно «качнуть» в ту или другую сторону, поскольку они могут быть подвержены частичному сопереживанию при восприятии как «Магдалины» Эль Греко, так и «Магдалины» Санфеличе.
Итак, проблема связи эстетического и этического идеалов является ключевой для понимания роли философии в формировании и восприятии художественного произведения. Хотя на публицистическом уровне она рассматривалась неоднократно, но на научном — совершенно недостаточно. Ее принципиальное значение может быть кратко резюмировано следующим образом.
В основе всякого художественного процесса лежит некоторый эстетический идеал. Без такого идеала художник творчески беспомощен, а зритель духовно слеп.
1 Гегель Г. Ф. В. Соч. Т. XII. С. 56. Как мы увидим в § 3 данной главы, мораль можно извлечь даже из совершенно «абстрактных» картин.
Эстетический идеал играет роль своеобразной «литейной формы», или «матрицы», по которой «отливается» художественный образ, т. е. выразительная умозрительная модель. Отсюда следует, что эстетический идеал не следует путать с художественным образом, что делается довольно часто. Ведь эстетический идеал в принципе нельзя «изобразить», а можно только косвенно «воплотить» (т.е. реализовать). Поэтому ни Аполлон Бельведерский, ни Венера Милосская, строго говоря, не могут быть «эстетическим идеалом», а являются художественными образами, выбранными из множества возможных с помощью античного эстетического идеала.
И подобно тому, как в процедуре создания ювелирного изделия фигурирует еще одно действующее лицо — мастер, изготовивший литейную форму, который остается в тени,— так и в процедуре создания художественного образа тоже существует скрытое действующее лицо — идеальный человек, или, что то же, этический идеал. Он тоже обладает своеобразной селективной функцией: с его помощью из множества возможных эстетических идеалов выбирается вполне определенный — тот, который соответствует этому этическому идеалу. Этический идеал объясняет происхождение эстетического идеала*.
Итак, для достижения сопереживания необходимо совпадение эстетических идеалов зрителя и художника, а для этого необходимо совпадение их этических идеалов. Это значит, что зритель и художник должны идеализировать человека как такового одинаковым образом и поэтому должны руководствоваться одинаковыми идеалами человека. Но последнее будет возможно только в том случае, если совпадают их мировоззренческие идеалы, т. е. если они имеют, в конечном счете, одинаковое (или, по крайней мере, близкое) мировоззрение. В частности, «благородному» художнику будет сопереживать только «благородный» зритель, а «сатанинскому» — «сатанинский». Следовательно, философия играет решающую роль как в художественном творчестве, так и в художественном восприятии благодаря тому, что она определяет этический, а через него и эстетический идеал как художника, так и зрителя.
Дата: 2019-11-01, просмотров: 375.