Предисловие ко второму тому
Во второй том монографии входят три ее тематических раздела: четвертый, характеризующий своеобразие активности бессознательного в условиях измененных состояний сознания (сон нормальный, сон гипнотичеcкий); пятый, посвященный проблеме проявлений бессознательного в клинической синдроматике, и шестой, в котором обсуждается роль бессознательного психического в структуре художественного восприятия и творчества.
Объединение этих очень, казалось бы, по-разному ориентированных направлений мысли в рамках одного и того же тома может показаться на первый взгляд искусственным, лишенным какой-либо оправдывающей подобное объединение общей идеи. Однако это не так. Чтобы эту объединяющую идею точнее определить, следует обратиться к одному из наиболее своеобразных разделов общей теории бессознательного: к концепциям, согласно которым активность бессознательного, неустранимо участвуя в формировании повседневного поведения и повседневной речи, сохраняет вместе с тем функцию порождения и специфических для нее форм выражения, оказывается способной звучать - при наличии определенных условий - также на особом "языке", не идентичном языку собственно сознания, т. е. формализованной, логически организованной, рационально построенной речи.
Хорошо известно, что эта проблема "специфического языка" бессознательного занимает в психоаналитической литературе довольно видное место. Ее корни уходят еще в старые работы З. Фрейда, в которых впервые было указано на существование закономерных связей между активностью бессознательного и специфическими формами осознаваемой речевой продукции (оговорками, очитками, остротами и т. п.). В дальнейшем эта идея была значительно расширена в связи с ее использованием в психосоматической медицине (рассмотрение определенных заболеваний и клинических синдромов как символического "языка тела", в котором находят свое выражение несознаваемые формы психической деятельности, душевные движения, по тем или другим причинам лишенные возможности экспрессии в поведенческих актах и нормальном общении). Наконец, в самые последние годы, главным образом в результате работ Ж. Лакана, были предприняты попытки еще более углубить идею связи бессознательного с речью. Эти попытки предпринимаются под характерным лозунгом "назад к Фрейду". Но в действительности они представляют собою не движение вспять, возвращающее нас к известным исходным утверждениям Фрейда, а скорее резко заостряют эти утверждения и дают им, если не всегда достаточно убедительное, то, во всяком случае, нередко весьма эффективное дальнейшее развитие. Ибо для Лакана выражение бессознательного в речи - это отнюдь не более или менее случайный (как для Фрейда) прорыв "языка бессознательного" сквозь ткань, сквозь преграды и завесы рационально контролируемых вербализаций. Для Лакана отношения между бессознательным и речью гораздо более сложны и интимны, ибо для него "бессознательное структурировано как язык", а "бессознательное Субъекта - это речь Другого".
Мы не будем сейчас задерживаться на этих парадоксально звучащих, нелегко постигаемых утверждениях. Соображения и материалы, позволяющие их в какой-то степени расшифровывать, содержатся во вступительной статье редакции ко второму тематическому разделу монографии и во многих статьях этого раздела, и, возможно, читателю они уже знакомы. Для нас представляют сейчас основной интерес не столько те общие интерпретации, которые дают идее специфического "языка бессознательного" психоанализ и другие сходно ориентированные концепции, сколько сама эта идея, степень ее обоснованности, доводы и факты, позволяющие ей - невзирая на всю силу и резкость критики, которой она неоднократно подвергалась - упорно не сходить со сцены на протяжении десятилетий. Важно также разобраться, если мы с этой идеей в той или другой степени согласимся, в качественном разнообразии форм, которые "язык бессознательного" может в разных условиях принимать. Попытки ответов именно на эти вопросы и стоят в центре внимания многих авторов, труды которых составляют в совокупности настоящий, второй том монографии.
Стремление, например, понять сновидения как психическую продукцию, в которой на основе особых принципов находят свое выражение не только те содержания душевной жизни, которые в состоянии бодрствования ясно осознавались, но и содержания, в этом состоянии вытеснявшиеся, породило литературу поистине безбрежную. Тонкие подчас наблюдения оказываются смешанными в ней с домыслами, фантастикой, мифами, и отфильтровывание в этом разнородном материале того, что может рассматриваться как элемент строгого научного знания, дело нелегкое. И тем не менее уйти от проблемы отражения в сновидениях - отражения на их "специфическом языке" - активности бессознательного было бы недопустимым. Те, кто к подобной позиции ухода от трудной проблемы призывают, должны ясно понимать, что они предлагают всего лишь движение по линии наименьшего сопротивления. При этом надо учесть, что именно здесь, в проблеме связи сновидения с бессознательным, накоплено уже немало данных о формах и даже закономерностях и функциональной роли, которыми динамика подобных связей объективно характеризуется.
Сходным, принципиально, образом обстоит дело и с выражением бессознательного в клинических картинах. Широко известная концепция "языка тела", постулирующая тенденцию бессознательного к символическому выражению в патологических синдромах, обоснованно подвергается серьезной критике во многих статьях пятого раздела, однако сам факт глубокого влияния душевной жизни во всей ее структурной сложности, т. е. ее как осознаваемых, так и неосознаваемых компонентов, на течение болезней неоспорим. Задача здесь заключается в том, чтобы уточнить так долго ускользающие от нас объективные законы этих влияний. Решая же эту задачу, мы тем самым лучше поймем не только психофизиологические механизмы, на основе которых реализуется связь бессознательного с "телом", но и формы, в которых бессознательное дает о себе знать как о клиническом факторе, т. е. определим, на каком же специфическом для него "языке" оно в условиях клиники иногда громко и открыто, иногда тихо и завуалированно говорит.
Наконец, - художественное творчество. Во вступительной статье к шестому разделу мы пытаемся подробно обосновать, почему отнюдь не является преувеличением даже такая решительная формулировка, как "бессознательное пронизывает все творчество, присутствует на всех этапах художественного восприятия". Вместе с тем явилось бы грубой ошибкой, упрощающим толкованием "сведение" художественного творчества только к активности бессознательного (довольно часто провозглашаемый тезис буржуазной эстетики), т. е. стремление исчерпать создание художественных образов лишь теми элементами психики, лишь теми мотивами и ценностями, которые, определяя душевную жизнь художника, остаются им неосознанными. Легко, однако, понять, что такое синтезирующее и одновременно разграничивающее понимание ролей, выполняемых в актах художественного творчества сознанием и бессознательным, вновь возвращает нас к проблеме специфических особенностей выражения бессознательного в искусстве, т. е. по существу к "языку", на котором оно в искусстве говорит.
Эти соображения объясняют, как нам кажется, логическую связь, существующую между такими, казалось бы, далекими друг от друга проблемами, как сновидения, клинический синдром и генез художественного образа. Если мы попытаемся подойти к этим проблемам с позиций теории бессознательного, то оттенок парадоксальности их взаимосвязи утрачивается и, напротив, возникает представление об их смысловой увязанности и даже более того - об их взаимной дополнительности. Такое понимание и было положено в основу отбора материалов, составляющих второй том монографии. Как читатель увидит, во всех тематических разделах этого тома усилия авторов большинства статей направлены на возможно более точное определение тех особенностей "языка бессознательного", на котором последнее говорит в условиях сновидного снижения уровня бодрствования, болезни и попыток художника материализовать творимые им образы.
В четвертом тематическом разделе особое внимание обращается при этом на функциональную роль сновидений и на связанную с ними активность "невербального мышления". Как важный элемент этой роли рассматривается тенденция к нейтрализации ("примирению") мотивационных конфликтов. Во многих статьях пятого раздела критически обсуждается проблема "психологической специфичности" клинических синдромов и их отношения к функции символического выражения вытесненного. В материалах шестого раздела анализируются процессы, способствующие формированию "правды искусства", понимаемой как черта творчества, особенно зависящая от неосознаваемых факторов последнего.
Легко заметить, что все это - проблемы одного и того же по существу общего плана - форм выражения бессознательного, его своеобразной феноменологии, и поэтому неудивительно, что в процессе их анализа можно во многих случаях подметить сходство и направлений и целей. Означает ли это, однако, что проблема "языков" бессознательного исчерпывается этим ее феноменологическим аспектом? Думать так, значило бы совершить серьезную ошибку.
Когда психоанализ говорит о специфическом языке бессознательного, то - безотносительно к тому, идет ли речь о "языке сновидений", "языке тела" или "языке искусства". - в основу теории всех этих проявлений кладется "постулат символики", согласно которому одной из характернейших особенностей бессознательного является порождение им символических фигур, образов, за которыми скрыты неосознаваемые переживания. Этот процесс формирования символов объявляется функцией, присущей бессознательному исходно, первично.
При таком понимании символический характер проявлений бессознательного, естественно, объясняется способностью создавать символические образы, совсем как у Мольера: "мак усыпляет, потому что он обладает усыпляющей силой". Что касается нас, то во вступительных статьях к тематическим разделам настоящего тома мы пытаемая показать, что символический характер продукции (бессознательного достаточно хорошо объясняется своеобразием психологических условий, в которых эта продукция создается. Так, символику сновидений мы рассматриваем как форму связи между психологическими содержаниями, являющуюся единственно возможной в рамках чувственно-конкретного (бессловесного) мышления, поскольку последнее не использует связи логические. По существу, это - псевдосимволика, т. е. символика, возникающая лишь потому, что любой образ, сформировавшийся в условиях аналогичного мышления, является "символом". Сходным образом объясняется и "символика тела" (достаточно в этой связи вспомнить об идее "раковых отношений", изложенной И. П. Павловым в его споре с П. Жанэ о природе истерии).
Без занятия, поэтому, правильной позиции в отношении "постулата символики" адекватное понимание "языков" бессознательного заранее исключается.
Литература
1. Баррет З. Ф., Загадочные явления человеческой психики, М., 1914.
2. Бассин Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.
3. Бергсон А., Сновидение, СПб., 1900.
4. Мдивани К. Д., Восприятие времени и установка. XVIII Международный психологический конгресс, т. II, М., 1966.
5. Прангишвили А. С., Исследования по психологии установки. Тб., 1967.
6. Узнадзе Д. Н., Психологические исследования, М., 1966.
7. Форель А., Гипнотизм, СПб , 1904.
8. Чиж В., Экспериментальное изучение внимания во сне. Вестник психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии, 1911, 3.
9. Шерозия А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического, том I, Тб. 1969; том II, Тб., 1973.
10. Элькин Д. Г., Восприятие времени и эмоциональные состояния личности. В сб: Вопросы психологии личности, М., 1960.
11. Элькин Д. Г., Восприятие времени и установка. Сб. Вопросы психологии, Ереван, 1960.
12. Элькин Д. Г., Восприятие времени, М., 1961.
13. Элькин Д. Г., Роль временного фактора в ассоциативной деятельности в свете учения об установке. Материалы IV Всесоюзного съезда общества психологов, Тбилиси, 1971.
14. Элькин Д. Г., Установка и дифференциация времени. Экспериментальные исследования по психологии установки, т. V, Тбилиси, 1971.
15. Boring, L. D., Boring, E. G., Temporal judgements after sleep. Studies in Psychology. "Titchener Commemorative Volume", Wilson, 1917.
16. Brush, E. N., Observation on the temporal judgement during sleep. Am. J. Psychol., 42.
17. Delboeaf, J., Le sommeil et les r?ves, Paris, 1885.
18. Ehrenwald, N., Versuche zur Zeitauffassung des Unbewussten. Arch. f. die ges. Psych., В., XLV, H., 1.
19. Franсois, M., Influence de la temperature interne sur notre appreciation du temps, Ser. de la biolog., 98, 1928.
20. Hoagland, H., The Psychological Control of Judgements of Duration: Evidence oi a Chemical Clock. J. Gen. Psychol., 1933, 9.
21. Stalnaker, J. M., Richardson, M. W., Time estimation in the hypnotic trance. J. Gen. Psychol., 4, 1930.
22. Stott, L. N., The discrimination of short tonal duration. Dissertation, Illinois, 1933.
23. Stott, L. N., Time-order errors on the discrimination of short tonal durations. J. Exp. Psychol., 1935, 18.
От гипноза к трансферу
Размышления Фрейда над проблемой гипноза определялись преимущественно французскими концепциями, т. е. спором, в котором Шарко противостоял Бернгейму, школа Сальпетриера - школе Нанси. Известно, что Шарко видел в гипнозе своеобразное соматическое состояние, вызываемое физиологическими, в основном, факторами, в то время как Бернгейм рассматривал гипноз как процесс чисто психологический, исчерпываемый внушением. В этом проявилось фундаментальное противопоставление, которое определяет до настоящего времени в разных формах всю проблематику гипноза. Позицию Фрейда в этом вопросе определить нелегко. В разных текстах она выступает по-разному. Хорошо известно, что с самого начала ни одна из этих теорий его не удовлетворяет, он предчувствует, что проблема должна быть поставлена на основе иных понятий. Представляется более интересным, чем противопоставлять друг другу разные тексты, проследить, каким могло быть движение мысли Фрейда по отношению к двум названным концепциям и как Фрейд попытался преодолеть их расхождение.
Шарко и "физиологический" детерминизм
Независимо от эмоционального воздействия, которое Шарко оказал на Фрейда [2], особенно повлияли на последнего эксперименты Шарко с провоцированием искусственных параличей [3]. Известно, что, стремясь обосновать свои представления о психической детерминированности посттравматической истерии, Шарко вызывал с помощью внушения (в состоянии гипноза и в условиях бодрствования) психогенные параличи и другие истерические симптомы. Его цель заключалась в получении прямого доказательства "всемогущества идей", силы психического воздействия на соматические процессы. Эти эксперименты произвели на Фрейда впечатление подлинного откровения. Его исследование различий, существующих между параличами органическими и параличами психогенными [7], показывает, что он сразу же понял, что теории Шарко открывают путь к созданию концепции истерии, полностью основанной на психическом детерминизме. В этой статье, опубликованной в 1893 г., но задуманной Фрейдом еще в конце его пребывания в Париже [17, 258], действительно показано, что истерические параличи определяются не законами анатомии нервной системы, а отражают представления, которые больные имеют о своем собственном теле.
Однако Шарко, вопреки новаторскому духу его концепций, не был подготовлен для формулировки выводов, ставящих под сомнение примат физиологического детерминизма, определявшего все научные представления его эпохи. Интуиция клинициста вынуждала его признать роль психической травматизации в генезе истерической синдроматики, но, одновременно, он не допускал, что подобные нарушения могут возникать без органического поражения нервной системы. Он постулировал, вопреки отсутствию каких-либо видимых изменений анатомо-физиологического субстрата, существование "динамических функциональных нарушений", которые нельзя было выявлять с помощью современных ему методов исследования. Он придавал, кроме того, первостепенное значение конституциональному фактору в этиологии неврозов.
Аналогичное стремление оставаться в рамках идеи физиологического детерминизма выступает и в представлениях Шарко о гипнозе. Это не значит, что Шарко игнорировал роль суггестии как фактора гипнотических проявлений. Он даже, как мы уже говорили, использовал суггестию, чтобы вызывать искусственно истерические симптомы ("создавать и устранять"). Однако суггестия действовала, по его мнению, только на фоне особого физиологического состояния - состояния гипноидности, родственного гипнозу.
Бернгейм и "психологический" характер гипноза
Основной интерес в теориях Бернгейма представляет то, что он решительно порвал с приматом физиологии, использовав гипноз как чисто суггестивный феномен. Чем является, действительно, суггестия? Это идея, которая, если воспользоваться определением Фрейда из его предисловия к труду Бернгейма "О суггестии", "будучи введена в мозг загипнотизированного субъекта путем внешнего воздействия, интерпретируется субъектом как возникшая в его сознании спонтанно" [6, 77].
Не существует, таким образом, более гипнотического состояния - есть только психологические причинные связи, действующие так, что субъект их по-настоящему не осознает.
Можно понять, почему Фрейд утверждал, что именно Бернгейму он обязан "наиболее глубоким впечатлением по поводу возможности существования мощных психических процессов, остающихся скрытыми от сознания людей" [15, 23-24]. Два опыта, на которых он смог присутствовать во время посещения им Нанси, сыграли в этом плане фундаментальную роль.
Первый из этих экспериментов был связан с постгипнотическим внушением. Бернгейм дал предварительно загипнотизированному субъекту инструкцию выполнить по пробуждении определенное действие. Когда субъект вышел из состояния гипнотического сна, он реализовал этот приказ, хотя и не смог вспомнить мотивы своего поступка.
На протяжении второго опыта Бернгейм опрашивал людей, длительно находившихся ранее в сомнамбулической фазе гипноза. Казалось, что эти люди полностью забыли обо всем, что с ними происходило в этом состоянии. Бернгейм, однако, показал, что было возможным оживить их воспоминания, используя чисто психологические приемы (настойчивость, суггестию, увещание).
Эти опыты позволили сделать два вывода. С одной стороны, они доказали, что определенные представления могут быть содержанием психической жизни субъекта, могут определять его действия, фигурировать в процессах памяти без того, чтобы субъект их осознавал. Можно поэтому думать, что путешествие в Нанси оказалось для Фрейда важным этапом выработки им представления о бессознательном.
С другой стороны, показав, что можно устранить постгипнотическую амнезию путем одной только суггестии, Бернгейм доказал чисто психогенную природу этой амнезии. А поскольку последняя рассматривалась всегда как один из главных признаков гипнотического состояния, подтверждалось тем самым и представление Бернгейма об исключительно психологическом характере гипноза.
Однако, если допускается, что гипноз это не более, как определенная форма внушения, в чем же это внушение заключается? Фрейд многократно подчеркивал, что Бернгейм не смог по-настоящему определить психологический механизм гипноза и что тем самым гипноз объяснялся на основе фактов, которые сами требовали объяснения. Отсюда вытекало, что, хотя Бернгейм настаивал на психологическом характере гипноза, он, как и Шарко, оставался привязанным к существенно нейрофизиологической концепции психического функционирования. Внушение сводилось для него к определенному нервному механизму. Его позиция была более близка к позиции Шарко, чем это представлялось на первый взгляд. Расходясь в оценке важности роли, которую играет внушение, и Шарко, и Бернгейм оказывались в равной степени неспособными интерпретировать гипноз на языке чисто психологических категорий.
Открытие трансфера
Фрейд сам рассказал, как он пришел к пониманию либидинозного характера отношений, устанавливающихся в гипнозе. Однажды, когда он гипнотизировал одну из своих больных, последняя, пробудившись, бросилась ему на шею: "Я был достаточно трезв душевно, чтобы не объяснять этот поступок моей непреодолимой привлекательностью, и я полагал, что понял природу мистического фактора, скрытого за гипнозом. Чтобы его устранить или хотя бы изолировать, я должен был распроститься с гипнозом" [15, 40-41].
Мы показали в других работах [1; 4], как этот эпизод явился для Фрейда отправным пунктом в открытии трансфера. После того, как он отказался объяснить этот инцидент своей личной привлекательностью, он пришел к необходимости допустить существование третьей фигуры как промежуточной между врачом и пациентом. Это было начало "долгого пути", на котором он постепенно нисходил от актуальных желаний к инфантильной сексуальности, вплоть до наиболее ранних фаз формирования межперсональных отношений.
В результате становилось возможным понять механизм отношений, создающихся в гипнозе. Внушение, писал Фрейд, очень точно формулируя свою мысль, "это влияние, оказываемое на субъекта с помощью феноменов трансфера, которые он способен произвести" [9, 58]. Повышение степени внушаемости субъекта в условиях гипнотизации, его аффективная зависимость от гипнотизера находили, таким образом, свое объяснение в мощных отношениях трансфера, которые его связывали с гипнотизером. В "Трех очерках по проблеме сексуальности" Фрейд охарактеризует эти отношения как зафиксированность по мазохистскому типу ("Я не могу не вспомнить здесь доверчивое подчинение, которое обнаруживают гипнотизируемые в отношении гипнотизера. Оно заставляет меня предполагать, что существо гипноза заключается в неосознаваемой фиксации либидо на личности гипнотизера (посредством мазохистского компонента сексуального влечения)" [8, 171]). Он вновь вернется к этому вопросу в "Психологии масс и анализе Я", где он рассмотрит проблему гипноза детально [12, 138-141; 153-156; 174].
Он вновь подчеркивает подчиненность, пассивность, отказ от любой формы критики, которые характеризуют отношение гипнотизируемого к гипнотизеру и устанавливают сходство, существующее между гипнозом и наиболее идеализированной формой влюбленности. В обоих этих случаях, пишет он, объект замещает "идеал Я". Не входя в рассмотрение всей сложности фрейдовской метапсихологии, ограничимся напоминанием, что "идеал Я" является выражением интериоризации субъектом его идентификаций с родителями, особенно - его идентификации с отцом. "Идеал Я" можно определить как своеобразную высшую идентификацию, основная функция которой - служить опорой формирования унифицированного образа "Я", противостоящего, как целостность, множеству отдельных стремлений.
Именно трансфер ("перенос") на личность гипнотизера функций, связанных с "идеалом Я", позволяет, по Фрейду, понять зависимость субъекта, обнаруживающуюся в условиях гипноза. Трансфер объясняет и особую чувствительность, проявляемую гипнотизируемым в отношении инструкций гипнотизера, - чувствительность, доходящую до галлюцинаторного переживания этих инструкций. В той мере, в какой "идеал Я" способствует формированию "Я", он, этот "идеал Я", играет существенную роль в обосновании принципа реальности: "Нет ничего удивительного в том, что "Я" рассматривает определенное восприятие как реальность, если психическая инстанция, функцией которой является контроль событий на их реальность, высказывается в пользу реальности этого восприятия" [12, 139].
Тупик
Психическое и соматическое, психология коллективная и психология индивидуальная, сексуальное влечение и десексуализация, любовь и трансфер - отнюдь не случайно то, что мысль Фрейда, когда он размышляет о гипнозе, останавливается на наиболее темных и противоречивых понятиях психоаналитической теории. С этой точки зрения филогенетические гипотезы, при всей их абстрактности, их почти "научно-фиктивном" характере, остаются тем не менее исключительно интересными. Они подчеркивают, в частности, трудность для психоанализа объяснить интимную связь психического с соматическим, которая лежит в основе гипнотических феноменов. Высказывания Фрейда о "мистическом", загадочном характере гипноза указывают, что он хорошо осознавал хрупкость и парциальность своих интерпретаций. 148
Психоанализ полностью основывается на имплицитной гипотезе о фундаментальном единстве личности человека, рассматриваемой как психофизиологическая целостность. Ибо как можно иначе объяснить, что активность фантазмов может влиять на наиболее элементарные психофизиологические функции?, что вытесненное желание может вызвать паралич? Но, если Фрейду удалось в значительной степени осветить психологические механизмы, которые способствуют формированию клинической синдроматики, он не смог показать, на основе каких процессов эти механизмы преобразуются так, чтобы вызывать соматические эффекты. Он сам привлек внимание к этому вопросу. Говоря об истерической конверсии, в которой он видел основную модель подобного перехода психического в соматическое, он многократно подчеркивал, что психоанализ позволяет понять психологическое значение симптомов, но не механизм конверсии в его собственном смысле.
За тридцать лет, прошедших после смерти Фрейда, наши познания в этой области вряд ли по-настоящему увеличились. Вопреки развитию психосоматической медицины, мы до сих пор не знаем, каким образом представление - безразлично, идет ли речь, как при истерии, о вытесненном желании или, как при гипнозе, об инструкции гипнотизера - преобразуется, чтобы найти свое выражение на соматическом уровне.
Заключение: от трансфера к гипнозу
"Мы должны сохранить чувство признательности к старой технике гипноза за то что она позволила нам распознать некоторые процессы психоанализа в их схематизированной и изолированной форме. Только это дало нам смелость создать более сложные ситуации и их понять", - писал Фрейд в 1914 году [11, 106]. Можно поставить вопрос: не следует не следует ли заменить эту фразу обратной? Мы полагаем, что, независимо от различных факторов которые Фрейд рассматривал как причину его отказа от техники гипноза, он, в действительности, предчувствовал, что гипноз предполагает существование отношений между психическим и соматическим, которые нельзя было раскрыть в научных понятиях его эпохи. Надо было освободиться от физиологии, чтобы свободно изучать психологический детерминизм. С этой точки зрения отказ от гипноза представлялся совершенно необходимым. Гений Фрейда проявился именно в ориентации только на психическую детерминированность, в изобретении техники, полностью основанной на интерпретациях, на речевой коммуникации, с полным исключением прямого воздействия на соматику. Это позволило предпринять грандиозную расшифровку нашей психической жизни и нашего культурного наследия, нашего поведения в рамках семьи, наших учреждений, наших мифов, наших языков, искусства, острот, сновидений, клинических симптомов и т. п. Эта работа по дешифровке приобретает сегодня необычайно широкий размах, с созданием моделей, движимых разными гуманитарными дисциплинами, в частности лингвистикой, социологией, литературной критикой... Несколько быть может, ускоряя оценку, допустимо сказать, что исследования здесь сосредотачиваются главным образом на вербальном уровне: даже в случае анализа сновидении, т. е. феномена, который глубоко связан с телом, психоаналитику приходится иметь дело не более, чем с рассказом, т. е. опять-таки с речью.
Остается гипноз, эта "неведомая земля". Его изучение позволит, возможно, лучше понять всю область невербального, аффективного, висцерального, которая ставит так много вопросов. Отнюдь не случайно, что понятие аффекта - одно из наиболее темных в психоанализе. Здесь обнаруживается скрытое лицо психического аппарата, в отношении которого гипнозу предстоит, быть может, сыграть роль другого "королевского" пути. Располагающийся, как и конверсия и феномены соматизации, на таинственном перекрестке психосоматики, гипноз имеет огромное преимущество быть доступным для эксперимента. Более глубокое понимание гипноза позволит, несомненно, в свою очередь лучше уяснить определенные аспекты терапевтических отношений, в которых параметр аффекта играет большую роль.
Резюме
Для многих психоаналитиков гипноз представляет собою не более, чем музейную редкость, устаревший феномен, сохраняющий интерес лишь поскольку он послужил отправной точкой фрейдовских открытий. Но придерживаться такого понимания значит упускать из вида, что психоанализ, хотя и позволил увидеть гипнотические явления в совершенно новом свете, далеко, однако, не разъяснил все их аспекты. Главное достижение Фрейда заключается в том, что он поставил акцент на параметре межличностных отношений в гипнозе. Однако сам Фрейд подчеркивал в 1921 г., что этот аспект отношений остается для него в значительной степени загадочным. Объяснение на основе трансфера не позволяет понять связи между психическим и соматическим, являющейся специфической стороной гипноза. Касаясь этой связи, мы оказываемся у пределов психоаналитической теории. Теория эта полностью основывается, имплицитно, на (представлении о фундаментальном единстве человеческой личности, образующей нерасчленимую психофизиологическую целостность. Однако тридцать лет спустя после смерти Фрейда мы все еще не понимаем, как психическое представление находит свое отражение в соматическом плане. С этой точки зрения гипноз обладает, как область исследования, особыми преимуществами: он не только оказывается, как и феномены конверсии и соматизации, на таинственном перекрестке психосоматических отношений, но и открывает ценные возможности для экспериментирования. Исследования в области гипноза имеют поэтому исключительную важность для познания нами аппарата психики.
Bibliographie
1. Chertok, L. (1968), La decouverte du transfert. Essai d'interpretation epistemologique. In : Revue Fran?aise de Psychanalyse. (1968), tome 32. n° 3, pp. 503-530.
2. Chertok, L. (1969), Freud a Paris. Etape decisive. Essai psychobiographique. In: Evolution Psychiatrique. (1969), tome 34, n° 4, pp. 733-750.
3. Chertok, L. (1970), Sur l'objectivite dans l'histoire de la psychanalyse. Premiers ferments d'une decouverte. In: Evolution Psychiatrique (1970), n° 3, pp. 537-561.
4. Chertok, L., Saussure, R. de (1973), Naissance du Psychanalyste. De Mesmer a Freud. Paris, Payot. 1973.
5. Chertok, L. (1972), Guiproz. Medguiz, Moscou.
6. Freud, S., (1888), Preface a Bernheim. Die Suggestion und ihre Heilwirkung. Leipzig und Wien, Deuticke (1888). pp. III-XII.
7. Freud, S. (1893) Quelques considerations pour une etude comparative des paralysies motrices organiques et hysteriques. Archives de Neurologie, XXVI. pp. 29-43 (In: G. W. 1. 38-55)
8. Freud, S. (1905), Trois essais sur la theorie de la sexualite. Paris. Idees, Gallimard. 1972.
9. FREUD, S. (1912), La dynamique du transfert. In: Technique psychanalytique. Paris, P. U. F., 1953, pp. 50-60.
10. FREUD, S. (1913). Totem et Taboi. Paris. Petite Bibliotheque. Payot. 1972.
11. Freud, S. (1914). Rememoratioi. repetition et elaboration. In: Technique psychanalytique. Paris. P. U. F., 1953, pp. 105-115.
12. Freud, S. (1921), Psychologie collective et analyse du moi. In: Essais de Psychanalyse. Paris. Payot. 1972, pp. 83-176.
13. Freud, S. (1923). Le moi et le ca. In : Essais de Psychanalyse. Paris. Payot. 1972. pp. 1677-234.
14. Freud, S. (1923). Kurzer Abriss der Psychoanalyse. G. W. 13. pp. 403-427.
15. Freud. S. (1925). Ma vie et la psychanalyse. Paris. Idees. Gallimard. 1972.
16. Gill, M. (1972). Hypnosis as an altered and regressed state. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (October 1972), vol. 20, n° 4. pp. 224-237.
17. Jones, E. (1953-'58), La vieet l'oeuvre de Sigmund Freud. Tome 1. Paris. P. U. F., 1958.
18. Kubie L. (1972), Illusion and reality in the study of sleep, hypnosis, psychosis and arousal. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (October 1972). vol. 20. n° 4. pp. 205-223.
Методика
Было проведено 50 исследований гипнотического состояния у 15 больных неврозами (женщин, в возрасте от 22 до 46 лет), которым по клиническим показаниям проводилась гипнотерапия и которые обнаружили высокую гипнабельность. Регистрацию СМКП начинали, когда у "больных было состояние спокойного бодрствования, за 15-20 мин. до начала погружения в гипноз, и далее вели непрерывно на всем протяжении гипнотического сеанса, то есть в течение 30-35 мин., а затем еще 20 мин. после дегипнотизации. О наступлении гипноза судили по клиническим признакам, в частности по наличию каталепсии. Регистрацию СМКП производили с конвекситальной поверхности головы с помощью биполярных отведений с лобных, височных и затылочных областей каждого полушария. Собственная разность потенциалов между электродами не превышала 300 мкв. Регистрацию вели на 8-канальном усилителе постоянного тока (0-0,5 гц) с помощью перьевого регистратора (скорость 76 мм в 1 мин.).
Для контроля одновременно с СМКП регистрировался кожно-галываничеокий потенциал с ладонной и тыльной сторон кисти. Теоретическое обоснование возможности регистрации СМКП с кожных покров головы без грубо искажающего влияния кожных потенциалов было получено нами ранее [8].
Результаты
Опишем динамику изменений СМКП на конвекситальной поверхности головы человека пои состояниях спокойного бодрствования, сомноленции и при погружении в гипнотический сон. Специально остановимся на фазе переходной от сомноленции к собственно гипнозу.
Бодрствование. По данным Н. А. Аладжаловой с соавторами [5], в состоянии спокойного бодрствования в сверхмедленном диапазоне выделяются в условиях нормы две полосы частот: 6-8 кол/мин при амплитуде 0,05-0,1 мв и 1-1,5 кол/мин при амплитуде 0,08-0,15 мв. Первая присутствует в 73% случаев, вторая - в 27%, остальные частоты выражены менее чем в 10% случаев и объясняются неконтролируемым сдвигом уровня бодрствования. Одновременно в разных отведениях могут быть представлены разные частоты СМКП. Эта картина, характерная для бодрствования, наблюдалась и у наших пациентов. Отличие от здоровых испытуемых отмечалось главным образом в реакциях СМКП на новую обстановку.
Сомноленция. Легкая сонливость и сензорное ограничение, которые возникают в этом состоянии, приводят к распространению по полушариям мозга однородных СМКП - колебаний потенциала с частотой 1,5-2 кол/мин (Т=30-40 сек). Эти колебания неустойчивы - они появляются и исчезают то в одном отведении, то в другом. Подобная картина СМКП наблюдается также в фазе дремоты, предшествующей нормальному сну [6]. Исследуемых больных по продолжительности стадии сомноленции и быстроте наступления устойчивого гипнотического состояния можно было разделить на 2 группы. Первую группу составляли больные, у которых устойчивое гипнотическое состояние наступало вскоре после начала внушения (через 3-5 мин) и стадия сомноленции соответственно была укорочена. У больных второй группы устойчивое гипнотическое состояние развивалось в течение 10-15 мин от начала внушения и сомноленция была более продолжительной. Это различие нашло отражение в динамике СМКП при переходе от бодрствования к гипнозу, о чем подробнее будет сказано ниже. В некоторых областях мозга при сомноленции появляются многоминутые колебания потенциала с Т=2-4 мин., А=0,5-0,8 мв., свойственные переходам уровня бодрствования. Такое усиление минутной активности наблюдалось в тех случаях, когда удавалось достигнуть особого глубокого гипнотического состояния.
Устойчивое гипнотическое состояние. Главной особенностью этой стадии является возникновение в одном-двух отведениях колебаний с периодом 12-20 сек, то есть декасекундного ритма 3-5 кол/мин, не свойственного ни спокойному бодрствованию, ни сиу. У ряда больных этот ритм изменчив и проявляется то в одном, то в другом отведении; у других (чаще у тех, которые переходят в состояние сомнамбулизма) этот дека секундный ритм более устойчив и наблюдается на протяжении всего глубинного гипнотического состояния. Особой регулярности декасекундный ритм достигает в лобных областях, где амплитуда его увеличивается до 0,3 мв (обычно декасекундный ритм имеет амплитуду 0,1-0,2 мв). Более того, попытка вывести из гипноза может не увенчаться успехом, если в этот момент в обеих лобных областях наблюдаются регулярные высокоамплитудные декасекундные колебания потенциала. С повторением приказа к пробуждению этот ритм постепенно разрушается, и только тогда выход из гипноза облегчается.
Сомнамбулическое состояние характеризуется доминированием такого же декасекундного ритма, который, однако, в некоторых отведениях чередуется с низкоамплитудными секундными колебаниями повышенной частоты (Т=6 сек). Последний ритм обычно сопутствует напряженной умственной деятельности.
Момент перехода в устойчивое гипнотическое состояние. Особое внимание привлекает период длительностью в несколько минут, который лежит между сомноленцией, когда собственно гипноза еще нет, но существует готовность к нему, и устойчивым гипнотическим состоянием. По мере развития сомноленции и сопутствующего ей распространения по полушариям ритма частотой 1,5-2 кол/мин внезапно наступает момент резкого изменения СМКП. У больных второй группы, с растянутым периодом развития гипнотического состояния, этот момент продолжался до 3-х минут, у больных первой группы, с быстрым погружением в гипноз, 1-2 минуты. При этом иногда регистрировались быстрые движения глазных яблок. После этого момента всегда четко выявляется спонтанная гипнотическая каталепсия и другие признаки устойчивого гипнотического состояния. На первом рисунке отражен момент такого резкого перехода в устойчивое гипнотическое состояние. Как главный признак переходного мо-мента выделяется внезапное образование в плавном ходе кривой СМКП "зубчатого вала" ("скачка") или сдвига потенциала длительностью в несколько минут и амплитудой в несколько милливольт. Несмотря на такой значительный сдвиг потенциала в одном из отведений, в других отведениях в это время сдвига уровня потенциала может и не быть, или же он может быть смещен по времени появления в пределах минуты. Такой "вал" наблюдался нами в 38 случаях, причем чаще (80%) и височных отведениях с правого и реже с левого полушарий. В 20% случаев "вал" возникал в лобных областях. На фоне "вала" рельефно выступает короткая серия регулярных секундных колебаний с периодом в 5 сек и амплитудой 0,1-0,5 мв. В конце этого переходного момента или даже в середине его в том или ином отведении появляются декаеекундные колебания потенциала, характерные для устойчивого глубокого гипнотического состояния.
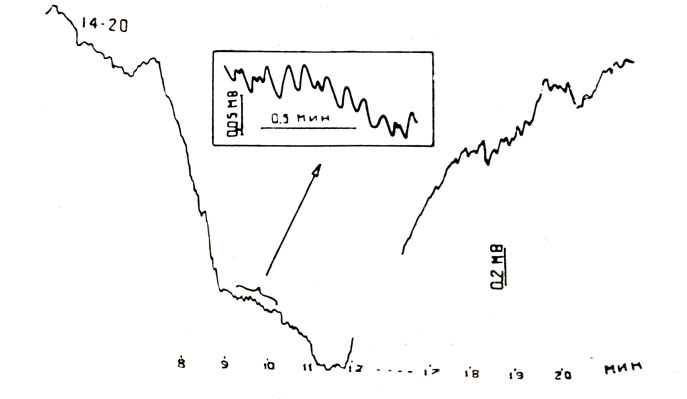
Рис. 1. Минутный 'вал' потенциала и серия секундных волн в височно-теменном отведении в момент перехода от сомноленции в гипноз. В рамке в другом масштабе времени показана короткая серия секундных колебаний, возникшая на 9-ой минуте. По оси абсцисс - зремя от начала расслабления. По вертикали - 0,2 мв
Таким образом, в результате исследования оказалось возможным определить качественные особенности изменения СМКП мозга по мере развития гипнотического состояния и представить их схематически (рис. 2). Следует отметить, что все описанные выше проявления СМКП весьма изменчивы, "могут обнаруживаться то в одном, то в другом отведении и быть выраженными с разной степенью интенсивности и отчетливости. Нельзя начертить жесткую схему этих изменений, можно обрисовать лишь их характерный контур.

Рис. 2. Динамика саерхмедленных колебаний потенциалов мозга человека в процессе гипноза, представленная схематически: 1) спокойное бодрствование - 8 кол/мин; 2) - сомноленция - 2 кол/мин; 3) переход в глубокий гипноз - минутный 'вал' и ритм 16 кол/мин; 4) глубокий гипноз - декасекундный ритм 3-5 кол/мин. Шкала времени - 1 мин
Обсуждение
Картина СМКП в глубоком гипнозе, несомненно, отличается от сверхмедленной активности в спокойном бодрствовании и в стадии гипнотической сомноленции. Специфическую особенность глубокого гипноза составляет декасекундный ритм. По нашему мнению, декасекундные колебания потенциалов отражают своеобразное функциональное "состояние мозга, способствующее восприятию гипнотических внушений [3, 4]. В (положительной и отрицательной фазах колебаний могут "создаваться различные условия для функционального взаимодействии определенных образований мозга с другими образованиями. Например, можно выявить соответствие между фазой декасекундного колебания потенциала и характером импульсной активности нейрона (в эксперименте на коре кошки). Компьютерное (моделирование [7] показало, что подобное соответствие между фазой сверхмедленной волны и структурой импульсного потока может отражать локальные особенности восприятия информации нейронным ансамблем: в одной фазе возникает возможность восприятия информации по многим каналам связи, то есть возможность умножения, расширения функциональных связей, в другой - облегчается распространёние информации лишь по одному определенному пути, однако с более высокой надежностью.
Таким образом, декасекундный колебательный процесс, характеризующий гипнотический сон, отражает периодическую смену состояний, с одной стороны, способствующих расширению неустойчивых функциональных связей, с другой - стабилизирующих некоторые "стержневые" связи. В гипнотическом сне способность к расширению функциональных связей проявляется в той легкости, с которой у загипнотизированного под влиянием внушения образуются психические образы, часто противоречащие реальности. Однако чрезмерное расширение функциональных взаимодействий ограничивается другими механизмами, контролирующими функцию "стержневых" функциональных связей.
Подтверждением того, что декасекундные ритмы действительно имеют отношение к феномену гипносуггестии служит их усиление при внушенном галлюцинировании в фазе сомнамбулизма. Своеобразие сомнамбулического состояния проявляется в сочетании специфического для глубокого гипноза декасекундного ритма с секудным ритмом повышенной частоты, который отражает активность субъекта, возникающую при напряженном слежении за сигналом. Напрашивается связь этого обстоятельства с тем, что, в отличие от пассивной подчиненности в стадии каталепсии, сомнамбулизм предполагает возможность "творческой" переработки информации, исходящей из гипнотизирующего, проявление таких бессознательных психических актов, для которых нужно не только слежение за указаниями гипнотизирующего, но и их активная личностная переработка. Переход от сомноленции в глубокое гипнотическое состояние не является монотонным, он характеризуется, как уже (было подчеркнуто, внезапной трансформацией СМКП: в одном из отведений внезапно возникает скачкообразный сдвиг уровня потенциала в виде "вала" - короткой серии секундных колебаний повышенной частоты (Т=5 сек). Таким образом, на фоне плавно углубляющейся сонливости, релаксации, сенсорного ограничения внезапно, толчком и на короткое время активизируются механизмы мозговой деятельности, которые должны, по-видимому, обеспечивать наступление собственно гипнотического устойчивого состояния. Этот момент является критическим, пусковым для развития гипноза и длится лишь несколько минут. Создается впечатление, что в этот момент "запуска" гипнотического состояния срабатывает некий триггер,ный механизм, включающий процесс, необходимый для перехода в гипнотическое состояние. Подобный триггерный механизм, возможно, играет принципиальную роль в обеспечении перехода от психического состояния одного типа к психическому состоянию другого типа. Резкая трансформация СМКП в этот момент отражает деятельность такого триггерного механизма.
Таким образом, на основании анализа транформаций СМКП, выявляющего в общей форме активность определенных механизмов функционирования мозга, можно прийти к выводу, что гипноз человека является особым физиологическим состоянием. Специфической особенностью гипноза является особая форма усвоения и переработки информации, не свойственная ни сну, ни бодрствованию. В становлении этой активности важное значение имеет определенный кратковременный момент, который служит выражением перестройки работы мозга с одного режима на другой под влиянием целенаправленно организованного психологического фактора.
Изучение картины СМКП при гипнозе позволяет, следовательно, установить важные объективные корреляции между физиологическим состоянием мозга и протекающими при этом психическими процессами, находящимися за пределами сознательной оценки.
II. Гипнотические сны
Мы исследовали характер мыслительной деятельности во время сна, развившегося на протяжении гипноза, в следующих экспериментальных ситуациях:
а) при стимуляции органов чувств без конкретного внушения, oпределяющего содержание сновидений;
б) при воздействии разных внушений без применения дополни тельных раздражителей;
в) при одновременном применении как непосредственных раздражителей, так и словесных внушений, определяющих в разной степени содержание сновидений;
г) при условно-рефлекторной активности без применения прямого внушения содержания сновидений.
Результаты опытов оказались следующими:
а) У нескольких испытуемых мы исследовали, какие сновидения возникают при воздействии раздражителей разной силы. В сомнамбулической фазе гипноза на одном из пальцев исследуемой фиксировалась скрепка, вызывающая слабое давление. После наложения скрепки исследуемая начинает реагировать защитными движениями, мимикой, указывающей на неприятное состояние, и словами: "Нет я не пойду, не иду". После пробуждения рассказывает, что какой-то незнакомый мужчина тащил ее за руку. Это было неприятно, и она защищалась. Прикосновение ко лбу вызывало у той же исследуемой сон о мужчине, с которым она некоторое время тому назад рассталась. Сновидение сопровождалось выразительной мимикой, вздохами и общим двигательным беспокойством.
б) При исследовании воздействий словесного внушения мы использовали разные формы гипнотического воздействия, от общих и неконкретных до отчетливо определяющих содержание сновидений.
При внушении "вам снятся приятные сны" поэту, находящемуся в неглубоком гипнотическом сне, снится, что он проходит густым лесом и видит "прекрасную дугу, созданную из разных звуков". Другому исследуемому снится свидание с его другом в саду. Иногда это неопределенное внушение вызывало конкретные и очень приятные переживания.
лбмы применили внушение, частично определяющее содержание сновидений. После внушения "вам один год, вы в комнате, скажите, что вы видите" испытуемая описывает кроватку, коляску, игрушки, манную кашу, пеленки и т. д. Кроме того, говорит спонтанно, без наводящих вопросов ("я не люблю ее, я это не хочу"). После пробуждения рассказывает, что ей приснилось, будто она - маленький ребенок и родители кормят ее манной кашей, которую она не любила. Далее ей приснилось, что отец водит ее на лямках и учит ходить. На следующий день испытуемая принесла фотокарточку, на которой изображена грудным ребенком, и говорит, что так она выглядела во сне.
После внушения "вам два года, вы находитесь в комнате, опишите, что вы видите" описывает коляску, столик, игрушки и т. д. После пробуждения говорит, что ей приснился сон, в котором она видела себя маленькой девочкой.
После внушения восьмилетнего возраста исследуемая по пробуждении сообщает, что она видела себя во сне в комнате за письменным столом, работающей над школьными уроками. На протяжении сна сообщала, что видит стол, стулья, книги, тетрадь, чернила и т. д.
При внушении "вы у моря, опишите, что видите" описывает во время сна людей, песок, воду, лодку; начинает смеяться и на вопрос, что видит, отвечает: "Б. в купальном костюме". После пробуждения рассказывает, что ей приснилось, будто бы она находится где-то "очень далеко, там много народа и много воды". Говорит, что видела подругу Б. и над ней смеялась. В гипнотическом сне внушен весенний день и прогулка по пражским бульварам. После вопроса, что видит, исследуемая во время сна описывает людей, дома, автомобили и на вопрос, как люди одеты, отвечает: "Лишь в платье". На вопрос, по какой улице идет, отвечает: "По улице Юнгмана". После пробуждения вспоминает, что во сне была где-то в центре Праги и удивлялась, как люди могут ходить без паль то, когда на улице так холодно.
в) У нескольких исследуемых мы определяли эффект стимуляции органов чувств после предшествующего словесного внушения. После внушения "вы спите и вам снятся приятные сны" экспериментатор прикоснулся ко рту исследуемой. Исследуемая улыбается, а после пробуждения говорит, что ей приснился сон о ее друге.
После внушения "вы чувствуете дуновение холодного ветра" на правую руку было направлено излучение терморефлектора. По пробуждении наблюдаемая рассказывает, что ей приснилось, будто она лежит в комнате, прислоняя правую руку к ледяной стене. Этот сон выявляет действие комбинации словесного внушения с физическим раздражителем. Стимуляция второй сигнальной системы определила общий характер сновидения: внушение "холодный ветер" вызвало во сне представление прикосновения к ледяной стенке. Стимуляция же первой сигнальной системы определила место воздействия в сновидении - прикосновение к стене рукой.
г) Интересными являются также опыты, в которых устанавливалась связь между условно рефлекторной деятельностью во время гипноза и содержанием сновидений.
При воздействии световыми стимулами, вызывавшими в сомнамбулической фазе гипноза положительные или отрицательные условные двигательные реакции, исследуемая рассказывает после пробуждения сон о реактивном самолете, прожекторах, фейерверке на Влтаве и т. п.
В состоянии бодрствования создавалась способность к дифференцировке двух звуковых раздражителей. Затем исследуемая была загипнотизирована и заснула. В этом состоянии были применены те же дифференцировочные раздражители, что и во время бодрствования. Исследуемая во время сна была беспокойна, дышала неравномерно, ее мимика выражала неприятные аффекты, общее двигательное беспокойство имело характер генерализированных защитных движений. После пробуждения спонтанно начинает описывать свои сновидения и сообщает, что видела похороны, фигуры на темном фоне, несущие крест, и слышала "страшные звуки". Упоминает о неприятном чувстве тревоги, страха и давления в области сердца. Она привыкла к погружению в гипнотический сон, но никогда ранее подобное состояние у нее не наблюдалось. После опыта еще раз были предъявлены примененные звуки, которые ей не удалось отождествить со звуками, услышанными в гипнотическом сне. Снова загипнотизирована, на этот раз с терапевтической целью. Засыпает сразу и после пробуждения от этого сна, в котором ей было внушено хорошее самочувствие, спокойна и, как обычно, в хорошем настроении.
Во всех вышеописанных опытах после пробуждения наблюда лась своеобразная амнезия: сновидения описывались, но раздражите ли, как словесные так и физические, никогда не упоминались в том первоначальном значении сигналов, которое они имели в бодрствующем состоянии.
На основе наших экспериментов можно сделать следующие выводы.
Наиболее характерной чертой мышления во сне является его образность. Это означает, что во сне работает предметное, образное, эмоционально окрашенное мышление, т. е. первая сигнальная система. Содержание мышления во сне не всегда, однако, исчерпывается первосигнальным процессом, - в зависимости от глубины гипноза и интенсивности переживаний во сне оно часто дополняется активностью второй сигнальной системы. Об этом свидетельствует, с одной стороны, то, что наблюдаемые спонтанно говорят во время сна, а с другой - то, что мы можем во время сна заставить их говорить о своих переживаниях, не нарушая этим развертывания последних. Этот факт, часто встречающийся и в повседневной жизни, заставляет предполагать, что торможение, распространяющееся по коре мозга, охватывает разные области с неодинаковой силой. Мы видели, что во сне оживляются как эмоционально насыщенные переживания, так и активность второй сигнальной системы.
Характерной особенностью мышления во время сна является своеобразная широта диапазона его содержаний. Мы видели, как элементарный раздражитель первой сигнальной системы вызывает весьма развитую активность сновидений. Это явление можно объяснить тем, что простые раздражители, действующие на высшую нервную деятельность спящего, вызывают целые цепи временных связей и актуализируют значительное количество взаимно связанных процессов в центральной нервной системе. Здесь оказывает влияние также то обстоятельство, что нарушаются взаимные отношения между интенсивностью раздражителей и силой реакции, действительные при состоянии бодрствования. Относительно слабые раздражители вызывают сильные рефлекторные ответы, содержащие как эмоциональные, двигательные компоненты, так и словесные. Течение этих процессов облегчается тем, что исчезали или почти исчезали тормозные влияния с областей, которые в условиях бодрствования непрерывно активируются внешними раздражителями.
Разнообразие содержаний мыслительной деятельности во время сна способствует нелогичности и мнимой неопределенности сновидений. Эта нелогичность и впечатление неопределенности обусловливаются невозможностью для нас выявить все раздражители, оказывающиеся причиной переживаний в течение сна.
Содержание сновидений определяется, таким образом, несколькими факторами. К ним относятся внешние стимулы, действующие в сочетании со следовыми рефлексами на фоне определенного функционального состояния подкорковых областей. При гипнотических сновидениях имеют особое значение воздействия, примененные в форме непосредственного словесного внушения или в виде комбинации последнего с физическими раздражителями. Все эти факторы оказывают взаимное влияние друг на друга и совместно определяют содержание сновидений.
Эти данные, почерпнутые из наших экспериментов, достаточны, чтобы стать базой для дискуссии о двух основных проблемах:
а) Как можно представить себе эффект действия символического раздражителя, которым является слово гипнотизера?
б) Как можно вмешательством в подсознание менять "значение" объективной действительности?
Гипнотическое воздействие слов, с их почти неограниченной суггестивной мощью, убеждает в том, что практически все нервные процессы каким-то образом связаны со словесной символикой. Основой этого феномена является, по-видимому, тесная связь височной коры со всей лимбической системой, с ретикулярной формацией, связанной с лимбической системой, и через лимбическую систему - со всеми областями так называемой старой коры. Эксперименты в то же время указывают, что символическая активность в форме каких-то сложных кодов присутствует и в координирующих областях таламуса и стриопаллидарной системы, откуда следует, что и эти области, своеобразно интегрирующие деятельность нервной системы, участвуют во влиянии словесной символики на деятельность человеческой психики.
Несмотря на то, что это объяснение еще недостаточно разработано и его трудно в настоящее время экспериментально подтвердить, оно является, по моему мнению, исходным пунктом для развития представлений о физиологических механизмах гипнотического словесного внушения. И оно является более плодотворным, чем другие формы чисто психологического объяснения, применяющие слишком глобальные понятия.
Вопросы соотношения осознаваемых и неосознаваемых форм психической деятельности в свете опыта патогенетической психотерапии неврозов. Р. А. Зачепицкий, Б. Д. Карвасарский
Ленинградский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева
В настоящее время проблема неврозов признана одной из ведущих в медицине и психологии, что объясняется ее близостью к более общей проблеме психологического стресса и стрессоустойчивости в условиях возрастающего напряжения современной жизни.
Вместе с тем существует определенный разрыв между практическим значением проблемы и интенсивностью разработки теоретических основ терапии и профилактики неврозов. Это связано с пограничным характером учения о неврозах, возникшего на стыке медицины, биологии, психологии, социологии, педагогики, и с трудностям и, порождаемыми многообразием и различием теоретико-методологических позиций, во многом зависящих от господствующей в обществе идеологии. И это понятно, так как в центре любой концепции неврозов и их психотерапии находится человек во взаимосвязи с его конкретным социальным окружением.
Сказанное в полной мере относится и к широкому кругу вопросов, касающихся значения проблемы бессознательного для психоневрологии, психологии и других наук. Обращению к этой проблеме мы, несомненно, обязаны психологической школе Д. Н. Узнадзе, в частности исследованиям Ф. В. Бассина (1968) с В. Е. Рожновым и М. А. Рожновой (1972, 1974), А. Е. Шерозия (1968, 1973) и других советских авторов. В 1966 г. состоялся Всесоюзный симпозиум по проблемам сознания, на котором, в частности, были предприняты попытки толкования бессознательного с позиций советской психологии и физиологии.
Следует, однако, отметить, что, несмотря на некоторые весьма значительные успехи последних лет в этом направлении, переход от общенаучного, мировоззренческого методологического уровня в рассмотрении "бессознательного" к конкретно-научной разработке принципов и методов исследования осуществляется явно замедленно. Это не может не сказаться на темпах развития прежде всего таких важных разделов психоневрологии, как учение о психогенных заболеваниях и психотерапии, по существу находящихся в настоящее время на пути к превращению в самостоятельную дисциплину.
Следует также подчеркнуть, что если раньше практика работы психотерапевтов не столь явно определялась остротой теоретических дискуссий (ввиду немногочисленности психотерапевтических групп в стране), то сегодня положение существенно изменилось. От того, какой методологией и какими методиками мы вооружим не десятки, а сотни специалистов (учитывая мероприятия министерства здравоохранения СССР по созданию психотерапевтической службы в стране), зависит в значительной мере судьба советской психотерапии. Становится все более очевидной необходимость разработки научных основ системы психотерапии, каузальной и патогенетической по своему характеру.
Мы приближаемся к созданию такой системы применительно к неврозам - основной группе психогенных заболеваний человека, в комплексном лечении которых психотерапия играет решающую роль.
Поэтому представляется целесообразным рассмотреть чрезвычайно важную как в теоретическом, так и в чисто практическом плане проблему соотношения осознаваемых и неосознаваемых форм психической деятельности в свете опыта патогенетического понимания неврозов и патогенетической концепции психотерапии, в течение десятилетий разрабатывавшейся В. Н. Мясищевым и его сотрудниками (Р. А. Зачепицкий, Б. Д. Карвасарский, С. С. Либих, В. К. Мягер, А. Я. Страумит, Ю. Я. Тупицын, Е. К. Яковлева).
Существование бессознательного в психической жизни человека было известно задолго до появления психоанализа. Последний лишь неправильно представил его содержание и его роль в поведении людей и предложил лечение невротических нарушений поведения путем включения в сознание вытесненных из него биологических влечений, составляющих, по Фрейду, источник невротических расстройств. Другие, родственные психоанализу, современные субъективистские направления в психотерапии придают значение исходным психобиологическим тенденциям, модифицированным социально-культурными условиями (неопсихоанализ), или - "изначальному проекту бытия" (экзистенциальный психоанализ). Неудовлетворительность подобных воззрений вытекает из неправильного понимания ими сущности личности, источников бессознательного и его соотношения с сознанием.
Для научного решения этих вопросов огромное, основополагающее значение имеет использование идей К. Маркса о явлениях сознания и бессознательного, намного опередивших искания современных психологов и философов. Объективный анализ общественно-экономических процессов и категорий позволил К. Марксу по-новому осветить природу и формы человеческого сознания. Если классическая философия рассматривала сознание лишь в однородной плоскости восприятий и представлений субъекта, то К. Маркс открыл его многомерный характер, показав, что субъективное отражение объектов реальности определяется сложной системой социальных отношений, причем социальные механизмы этой преобразующей системы сознанием не улавливаются. Поскольку образования сознания обусловлены не прямолинейной причинной зависимостью от реальных объектов, они представляют собой, по К. Марксу, "превращенные формы" действительности, что обычно затрудняет понимание сущности самих явлений действительности. Отсюда очевидна наивность житейского представления, будто наши восприятия являются зеркальным отражением существующего вне нас реального мира. Всякое восприятие избирательно и конструктивно. Оно не есть простая реакция на стимул. Объекты воспринимаются в свете прежнего опыта, человеческих предположений, предвидений и ожиданий.
Известно марксистское определение сущности самого человека как "совокупности всех общественных отношений" (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 3). Вместе с тем примечательно, что данному определению К. Маркс предпосылает указание на то, что "сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду" (там же). Это можно понимать таким образом, что у отдельного человека природная (биологическая) структура его мозга является конкретной базой, на которой развивается надстраивающаяся отражательная и творческая активность его сознания, функционирующего под влиянием социальных воздействий.
В свете этих положений человек рассматривается в единстве его социальной сущности и биологической основы. Но чтобы понять его в главном его существе, т. е. его личность, невозможно сознание и бессознательное исследовать одними лишь нейрофизиологическими методами, какими изучается поведение животных. Это было ясно передовым отечественным психологам (Л. С. Выготский, Д. Н. Узнадзе, В. Н. Мясищев и др.) и недавно вновь подчеркнуто с большой силой французским психологом марксистом Л. Сэвом.
Начало приложению такого подхода к разработке проблем психотерапии было положено трудами В. Н. Мясищева и его сотрудников. Эти исследования исходят из диалектико-материалистического положения о том, что при отсутствии грубой органической патологии головного мозга или психотических расстройств поведение людей определяется в основном их сознанием, с которым связан активный и избирательный характер их отношений, прежде всего взаимоотношений с другими людьми. Неосознаваемые процессы психической деятельности не находятся в антагонизме с сознанием, но взаимодействуют с ним. Не осознается механика социальной динамики, превращающая явления действительности в явления сознания. В область неосознаваемого переходят ранее осознававшиеся акты, когда они автоматизируются, благодаря многократному повторению, а также явления внешней и внутренней среды человека, не находящиеся в данный момент в поле его активного внимания. В сознание с большей или меньшей легкостью возвращается хранящийся в области неосознаваемого материал, необходимый при решении возникающих перед человеком задач.
Вместе с тем известно, что большая часть больных неврозами и другими психогенными расстройствами обычно не осознает многих обстоятельств, сыгравших патогенную роль в развитии их болезненного состояния. Это происходит, с одной стороны, потому, что источники их расстройств кроются в области социальных отношений, не находящих зачастую, как указывалось, прямолинейного отражения в сознании, с другой - вследствие вытеснения из сознания непереносимых для больных психотравмирующих моментов. О вытеснении говорит и психоанализ. Но, в отличие от него, материалистическая психотерапия признает наиболее существенным в патогенетическом плане вытеснение не биологических влечений, а моментов, определяемых столкновением личности с такими обстоятельствами, которые несовместимы с ее особо значимыми осознаваемыми ею отношениями, сформировавшимися в течение жизни индивида. Такое столкновение вызывает эмоциональное перенапряжение, нарушающее динамику нервных процессов в высших отделах головного мозга, что влечет за собой торможение отражения в сознании многих сторон патогенной ситуации за исключением выступающего на передний план тягостного переживания возникших болезненных расстройств (симптомов). Само происхождение невротического симптома обычно ускользает от сознания больного. Представление о неспособности к движению, возникающее в момент "подкашивания" ног при острой психотравме, может вести к истерическому параличу по механизму, сходному с неосознаваемым идеомоторным актом, но противоположным по направлению. Неврастеническое напряжение может вызвать нарушения висцерально-вегетативных функций в органах или системах, конституционально или прижизненно ослабленных, без осознания больным связи этих нарушений с психогенными моментами. Симптомы навязчивости нередко образуются по неосознаваемому механизму условной связи случайных впечатлений или действий с патогенной ситуацией. В подобных случаях невротический симптом выступает в качестве своеобразного заместителя подлинного источника болезни. что можно видеть, например, из нижеприводимого наблюдения.
Больная П., 33 лет, инженер по специальности. Обратилась с жалобами на навязчивый страх заболевания злокачественной опухолью, который, по словам больной, появился у нее 6 месяцев тому назад после обращения к врачу в связи с похуданием и некоторым затвердением в области молочной железы. Врач, хотя и считал это изменение неопасным, все-таки предложил операцию. Такое же предложение было сделано другим врачом два года назад. В то время больная не придала значения этой рекомендации врачей, узнав от онколога, что это не рак. Теперь же, несмотря на неоднократные последующие заключения специалистов о том, что рака у нее нет, она не успокаивалась. В состоянии нарастающего эмоционального напряжения непрерывно обращается к врачам, перестала проявлять заботу о сыне и муже, прекратила ведение домашнего хозяйства, утратила интерес к окружающему, много плакала, считая себя обреченной. Оставила работу на заводе. Никакое лечение не давало облегчения.
Под влиянием успокаивающих бесед с врачом появлялась критика к своим опасениям, однако почти полностью исчезавшая, как только больная оставалась одна. Была повышенно эмотивной, тревожной, много говорила о своем заболевании.
Лишь при длительном углубленном изучении истории жизни больной, особенностей формирования системы ее отношений постепенно удалось выяснить основные звенья патогенетического механизма ее болезненного состояния. Было установлено, что в развитии невроза ятрогения явилась лишь случайным, побочным моментом, на который переключилось все внимание больной в период возникших у нее сложных, трудно разрешимых конфликтных семейных переживаний. В беседах с больной выяснено, что она находится накануне разрыва с мужем. В беседах с врачом она легко переключалась с мысли о заболевании раком на волнующие ее семейные переживания. С мужем она прожила счастливо 16 лет. Причиной возникшего семейного конфликта послужил следующий факт. Больная случайно по возвращении мужа из дома отдыха нашла у него фотокарточку молодой незнакомой женщины с трогательной надписью. Вначале муж отрицал свою вину, а затем признался в кратковременной случайной связи с девушкой, с которой познакомился в доме отдыха. Больная была потрясена этим, потеряла к мужу всякое доверие и приняла решение расторгнуть брак. Таким образом, на первом этапе психотерапевтического процесса, помимо опасений за свое здоровье, возникших после неосторожного высказывания врача, в качестве причины невроза выступали тягостные переживания больной, связанные с чувством оскорбления, нанесенного мужем. В дальнейшем вначале психотерапевту, а затем и самой больной становилась все более понятной противоречивость ее отношений к мужу. В течение 3 месяцев она не могла спокойно его видеть, постоянно упрекала его, из-за чего дома создавалась очень напряженная обстановка. Вместе с тем, когда однажды муж заявил ей, что если он стал ей неприятен, то ему лучше уйти из семьи, она, хотя и не возразила мужу, но позднее послала к нему своего десятилетнего сына, чтобы тот уговорил отца остаться. Так постепенно вырисовывалось наличие и другой мотивации, которая только в процессе психотерапии стала достаточно полно осознаваться больной: стремление сохранить, вопреки всему, семью, положительное значение которой для нее вытекало из некоторых фактов ее прошлой жизни и особенностей формирования ее личности. Для нее, воспитанницы детского дома, не знавшей родителей, семья занимала особое место в системе значимых отношений. Угроза потери семьи обусловливала фрустрацию, тем более выраженную, что муж был единственным близким человеком, которого она ранее любила, ценила и даже несколько идеализировала.
Постепенно в процессе психотерапии больная стала улавливать ускользавшее ранее из ее сознания подлинное содержание тяготившего ее психологического конфликта, приблизившись к пониманию того, что, по существу, канцерофобия лишь создавала "выход" из возникшего трудного положения ("Как же мне уходить от мужа, когда я теперь так тяжело больна").
После того, как в процессе длительной активной психотерапии больная до конца осознала все обстоятельства, послужившие источником ее заболевания, она стала постепенно поправляться. "Побледнели", а затем практически исчезли так мучившие ее навязчивые мысли о заболевании раком, выровнялось настроение. Улучшению состояния больной способствовала семейная психотерапия, в которой участвовал и муж. Больная приняла твердое решение не разрушать семью. Работоспособность ее восстановилась.
Существует много методов лечения невротических расстройств. Они могут быть эффективными, если применяются в системе патогенетической психотерапии, главная задача которой состоит в том, чтобы помочь самому больному осознать все взаимосвязи, совокупность которых определила развитие болезни. В противоположность субъективно-психологическим психотерапевтическим концепциям здесь речь идет не об осознании мифического материала психоаналитического или экзистенциального толка, а об уяснении больным реальных соотношений между его жизненным опытом, сформированной в этом опыте системой его отношений, ситуацией, с которой они пришли в противоречие, и проявлениями болезни. Весьма важным является при этом привлечение внимания больного не только к его субъективным переживаниям и оценкам, но также и к внешним условиям его социальной среды, к ее особенностям, к взаимоотношениям окружающих его людей в семье, на производстве и т. д.
Подчеркивая роль учета неосознанных отношений для процесса патогенетической психотерапии, В. Н. Мясищев отмечает, что при исследовании больных психогенными заболеваниями нередко обнаруживаются отрицательные или положительные отношения или тенденции, однако без сознательной формулировки человеком своего отношения или потребности. За вычетом тех случаев, когда эти отношения утаиваются, речь идет о неосознанных отношениях. Цель психотерапевтической работы заключается в значительной степени в том, чтобы помочь больному уяснить, осмыслить связи и значение того, что определяет его поведение, но чего он ранее не осознавал. Для В. Н. Мясищева "бессознательное" это то, что еще не интегрировано нашим мышлением. Центральной задачей патогенетической психотерапии является, однако, не само по себе осознание противоречивости интересов и потребностей, а образование на этой основе регуляции потребностей, формирование сознательного отношения.
Выявлению не улавливаемых больным патогенных связей способствует целенаправленный процесс общения больного с врачом или с другими больными при групповой психотерапии.
Исследования, проводимые в клинике неврозов и психотерапии Института им. В. М. Бехтерева, показали, что значимость различных критериев эффективности психотерапии больных неврозами (т. е. степени симптоматического улучшения, осознания психологических механизмов болезни, перестройки 'нарушенных отношений личности и восстановления социального функционирования) не одинаковы. Работами А. П. Федорова, Э. А. Карандашевой, В. А. Ташлыкова и др. установлена отчетливая зависимость непосредственных и отдаленных результатов патогенетической психотерапии от степени осознания больным имеющихся нарушений отношений и их перестройки. С помощью экспериментально-психологических методов (проективные методики, Q - сортировка и др.) рассмотрена динамика и некоторые механизмы осознания психологических конфликтов в условиях индивидуальной и групповой психотерапии при неврозах (В. А. Мурзенко, И. А. Винкшна, Б. В. Иовлев, Г. Н. Цветков, В. Н. Корж и др.).
Учитывая единство социально и физиологически обусловленных черт личности, представляющее в каждом случае уникальное своеобразие, для уточнения соотношения осознаваемого и неосознаваемого в психогенезе невроза и оценки динамики саногенеза необходимы не только психологические и психофизиологические, но также и социально-психологические и социологические исследования, тесно связанные с клиническими и терапевтическими задачами.
Проблема шизофренического бреда в свете взаимоотношения сознательного и бессознательного. В. Иванов (110. The Problem of Schizophrenic Delusion in the Light of the Interrelationship of the Conscious and the Unconscious. V. Ivanov)
Варнский медицинский институт, Болгария
1. Бред при шизофрении - одно из весьма распространенных и в то же время одно из наименее понятных (в отношении механизмов его возникновения и протекания) явлений в психопатологии. Поэтому вполне объяснимо, что по его поводу создано множество теорий. Объем настоящей работы не позволяет нам рассмотреть подробно все подходы к теории шизофренического бредообразования. Мы коснемся только нескольких проблем, имеющих, по нашему мнению, основное значение.
Мы придерживаемся мнения, что бред является болезненным расстройством процесса мышления, независимо от того, связан ли он с нарушениями эмоций и восприятий. В результате бреда возникает логически неадекватное отражение действительности, которое не поддается коррекции ни рациональным, ни суггестивным путем. В западной же литературе распространено представление, по которому бред рассматривается как связанный с более низкими уровнями психической деятельности, - с сенсорным или даже "чувственным" восприятием и, - что особенно интересует нас в данном случае, - как феномен, не связанный с сознательной "душевной жизнью".
Дефиниция бреда (в его "настоящем понимании") дана К. Ясперсом [5] и предусматривает "независимость" бреда от познания. Если бред психологически объясним, Ясперс называет его "бредоподобной идеей" ("wahnhafte Idee"), но, по его мнению, это - уже другое, производное явление. Качеством "первичности" обладают, по Ясперсу, лишь необъяснимые идеи, - объяснимые являются вторичным продуктом. По нашему мнению, деление К. Ясперса можно принять, только оставаясь в рамках феноменологии. Нам кажется, что механизмы возникновения "вторичного" и "первичного" бреда одинаково необъяснимы чисто "психологическим путем". Если согласиться с Ясперсом, то остается непонятным, почему галлюцинаторные голоса, которыми определяется содержание бредовых идей, отражают реальность не правильно, а в грубо искаженном виде. Возникает и вопрос: почему больной верит этим галлюцинациям вместо того, чтобы проявить к ним критическое отношение? Единство содержания вербальных галлюцинаций и бредовых идей свидетельствует об общности их механизмов, их генеза. Поскольку "голоса" выражают определенные мысли, можно оказать, что вербальные галлюцинации "объективируют" мысли больного, т. е. являются частью, формой его мыслительного процесса, "оторвавшегося" от контроля сознания и принявшего (в силу гипнотически-фазовых отношений?) яркость реального восприятия. Можно полагать, что таким же образом обстоит дело и при зрительных галлюцинациях, только последние находятся в сфере конкретно-образного мышления, которое сложным образом коррелирует с логическим. Из сказанного, однако, отнюдь не следует, что мы утверждаем первичность бредовых и вторичность галлюцинаторных явлений; наш тезис - это обусловленность и тех и других феноменов единым патологическим процессом в мозгу.
Подтверждение взгляда, по которому содержание бреда всегда является результатом первичного изменения процесса мышления (хотя при этом можно наблюдать изменения и других психических функций), мы видим и в том обстоятельстве, что далеко не всегда наблюдается единство содержания мышления, восприятий и эмоций, а также параллелизм их динамики. К. Ясперс и ряд других авторов указывают, что дистимия рождает бред виновности, бесперспективности и т. п., аффект страха - бред преследования и т. д., однако на фоне дистимии в течении шизофренического процесса может появиться бред величия, на основе маниакального состояния - бредовые идеи отношения и пр. Именно шизофреническая паратимия дает возможность увидеть независимость бреда от эмоциональных изменений.
Во взглядах других современных авторов прослеживается еще большая оторванность объяснений бреда от изменения мышления и от влияния реальной действительности. Так например, Г. Груле [4] определяет бред как "отношение (значение) без повода", "непосредственное впечатление без повода" и "настроение без повода". Что касается "интимных" механизмов бредообразования, Груле стоит на позициях фрейдизма и ищет их объяснение в "сублимированных" желаниях, заторможенных стремлениях и т. д. Нам кажется ненужным здесь отклоняться от темы, чтобы доказывать несостоятельность подобных психоаналитических концепций.
Хотя К. Шнайдер [6] и постулирует, что бред относится к расстройствам мышления, его определение бреда и вся его трактовка противоречат этому пониманию. Отвергая понятия "бредовая идея" и "бредовое представление", он подменяет их терминами "бредовое восприятие ("Wahnwahrnehmung") и "бредовое озарение" (Wahneinfall"). К. Шнайдер подчеркивает значение бредового восприятия, указывая, что оно невыводимо из реальной действительности - по его словам, оно является "посланцем другого мира", "высшей действительностью".
Независимо от методологических основ этих взглядов, о которых мы скажем дальше, надо подчеркнуть, что они неприемлемы и с практической точки зрения. Разница между двумя вводимыми Шнайдером формами описывается недостаточно четко. Так, по собственному признанию К. Шнайдера, "бредовое озарение" также часто связано с восприятием. Если больной увидел полицейского, который посмотрел на него "особенно", и в связи с этим у него возникла мысль, что его арестуют - это будет "бредовое восприятие". Однако, если полицейский прошел мимо, не смотря на больного, а у него все-таки возникла та же мысль - это будет уже "озарение". Трудно признать такую разницу убедительной.
Подобное расчленение "первичного" бреда мы встречаем и у Ясперса. Он различает "бредовое восприятие" ("Wahnwahrnehmung"), "бредовое представление" ("Wahnvorstellung") и "бредовое осознание" ("Wahnbewu?theit"). Первое определение относится к бредовому истолкованию неизмененного восприятия; при бредовом представлении мы сталкиваемся с новыми значениями житейских воспоминаний или неожиданным "бредовым озарением"; бредовое осознание является "знанием" о мировых, исторических и других значительных событиях, о которых больные не имели в прошлом реального представления.
Первичные бредовые переживания, по мнению К. Ясперса, необъяснимы и не сводимы к нарушениям ни сенсорного, ни логического познания. Здесь, кроме этих двух форм познания, есть "еще что-то", не поддающееся определению. Утверждение, однако, что бред является отражением чего-то не интерпретируемого, означает, что существует такая "реальность", которая находится вне наших возможностей познания; реальность, доступная только интуиции психически больных. Вряд ли можно сомневаться, что эти взгляды являются, с одной стороны, чистейшим агностицизмом, а с другой, - поскольку они утверждают существование "иного", трансцендентального мира, - весьма родственны мистицизму.
Основой этих взглядов является, по нашему мнению, применяемый указанными авторами метод чистого психологизирования, стремление выводить одни психические функции из других (в их "идеальном" понимании) и отказ от попыток объяснения вообще, если такое выведение не удается. К. Шнайдер утверждает, что психиатров интересуют не логические ошибки, а ошибки, обусловленные чувственно, на основе переживания страха, недоверия, гнева. С одной стороны, в этом утверждении нетрудно увидеть влияние концепций экзистенциализма, который неразрывно связывает человеческое существование с эмоциями подавленности, тревоги, бесперспективности. А с другой стороны, здесь выступают характерные тенденции современной буржуазной психологии, заставляющие ее ставить акценты почти всегда на более "глубоких", низших, архаичных механизмах, структурах и функциях и недооценивать значение сознательной, интеллектуальной деятельности человека. Чем ниже уровень человеческой деятельности и психики, тем меньше возможности сознательного изменения социальной действительности. Человек в этих условиях находится в плену биологического, он не в состоянии разобраться в собственных переживаниях, он - не властелин собственной психики и, следовательно, не может быть творцом нового мира. В этом и находится скрытая классово-обусловленная сущность всех подобных концепций.
2. С точки зрения патофизиологии высшей нервной деятельности основой бреда является формирование патодинамической структуры, одна из характерных черт которой - инертность процесса возбуждения. По нашему мнению, от существования гипнотического состояния в этой структуре и от его степени (т. е. от характера гипнотических фаз) зависит и степень неадекватности отражения (содержание бреда). Если, например, в начале заболевания мы имеем дело только с фазой повышенной возбудимости, то больной еще может переживать (хотя и более выраженно, при повышенной оценке, гиперболизируя) реальные обстоятельства жизни. На этом начальном этапе бреда нередко проявляются сверхценные идеи, и поэтому его можно обозначить, по термину Б. Смулевича [3], как сверхценностный бред.
Однако фазовая реактивность патодинамической структуры может углубиться - после фазы повышенной возбудимости может наступить парадоксальная или - чаще - ультрапарадоксальная фаза. Она является основой искаженного субъективного отражения объективной действительности. Конечно, ультрапарадоксальная реактивность может проявляться и сразу. Поэтому бред может в одних случаях начинаться правдоподобно, выглядеть психогенно обусловленным и лишь позже приобрести характер нелепости и грубого несоответствия объективной реальности, а в других - он имеет такой характер с самого начала заболевания. Поэтому мы считаем, что принципиальное разграничение двух разных категорий бреда - "понятного" и "непонятного" - является искусственным.
Как могут быть объяснены с точки зрения учения о высшей нервной деятельности варианты бреда, описываемые К. Шнайдером? Бредовое восприятие" является, по нашему мнению, мгновенным замыканием новой условной связи в рамках ясного сознания. Здесь имеет место ассоциация на основе конкретного восприятия, которое приводит к неправильному логическому заключению. При бредовом "озарении" также происходит мгновенное замыкание временной связи между конкретным образом и логическим отражением, однако эта связь осуществляется вне поля ясного сознания. Таким образом, в сознании внезапно появляется конечный результат этой ассоциативной деятельности.
Можно, однако, спросить, не умозрительна ли такая интерпретация и каким способом можно ее доказать? Исследуя, экспериментально, 200 больных параноидной шизофренией, мы сосредоточили внимание прежде всего на создании модели индуктивного умозаключения, являющегося основным прототипом мыслительных операций. Для этой цели мы вырабатывали у больных сложные условно-условные (словесные) связи на несколько понятий, обобщающих группы словесных и зрительных образов, по формуле:
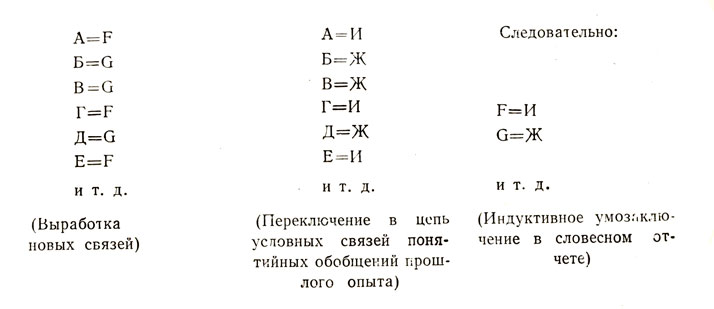
Результаты наших исследований показали, что индуктивное умозаключение, которое основывается на понятийном обобщении прошлого опыта, как и само понятийное обобщение, является психическим процессом весьма сложным по своей физиологической структуре. Оказалось, что установление временной связи между общим словесным обозначением определенной группы предметов или явлений и конкретными элементами этой группы может произойти в процессе выработки понятия на разных уровнях. Это обстоятельство можно объяснить тем, что любой сложный раздражитель (комплексный образ) составлен из множества компонентов с определенным сигнальным значением. Особенно это относится к словесным раздражителям, каждый из которых ассоциирован со множеством более конкретных признаков, и все они могут вступать в связь с обобщающим понятием.
У больных параноидной шизофренией в процессе обобщения часто принимают участие несущественные или "слабые", по выражению Ю. Ф. Полякова [2], признаки. Наш эксперимент был поставлен так, чтобы для индуктивного умозаключения больные пользовались уже выработанными ранее понятийными обобщениями. Однако подобные, созданные в прошлом опыте связи между отдельными сигналами и обобщающим понятием, которые необходимо было включать в новые цепи, могли оказаться недействующими, заторможенными. В то же время больные легко осуществляли связи с "новым понятием" по несущественным признакам.
В этих условиях могло происходить формирование новых слов с новым (обычно причудливым) содержанием - т. н. шизофренных неологизмов. Как будет показано дальше, этот процесс имеет отношение и к процессу бредообразования, хотя патофизиологический механизм таких "причудливых" замыканий пока неизвестен. Можно лишь предполагать, что здесь выступает, по выражению К. Заимова, т. н. фазовость связей [1].
В подобных случаях больной ставит акцент на некотором, хотя и несущественном, но все же наличном общем признаке. Труднее для понимания случаи, в которых "обобщение" производится по "признаку", встречающемуся только в отдельном случае или которого даже вообще нет в предоставленном испытуемому материале. По нашему мнению, в первом случае здесь также происходит замыкание новой связи на более низком понятийном уровне: не с обобщающим понятием данной группы образов, а с конкретным признаком, который не является общим для всех элементов этой группы.
Найти объяснение всем этим феноменам трудно. Возможно, что из-за слабости процесса возбуждения, раз уже выработалась одна связь с обобщающей ответной реакцией, новые замыкания не происходят. Эта связь становится доминирующей и путем отрицательной индукции тормозит выработки других связей. Можно полагать, что это и есть физиологическая основа т. н. неполной индукции, являющейся одной из основных ошибок мышления и, в частности, индуктивного обобщения. Аналогичный случай мы имеем при втором варианте, только здесь индуктивное "обобщение" происходит на основе генерализации мнимого признака. Поэтому здесь возникают основания говорить о фиктивной индукции. Весьма правдоподобно, что и тот и другой механизм принимают участие в процессе бредообразования.
Как известно, большое значение при исследовании высшей нервной деятельности имеет словесный отчет, посредством которого изучают степень осознанности замыкательной функции. Мы наблюдали весьма своеобразную форму такого отчета, при котором испытуемый описывает правильно выполненное задание, хотя в самом эксперименте правильного решения не было. Нам кажется, что здесь возможны два объяснения: или условная связь вырабатывается в конце эксперимента и даже во время самого словесного отчета, или же эта связь своевременно замыкается на самом высоком, понятийном уровне, не будучи, однако, в состоянии правильно переключиться в экспрессивные (в том числе речевые) реакции из-за легкой тормозимости (возможно путем отрицательной индукции) более низких уровней нервной системы или же из-за отсутствия селективной иррадиации между двумя системами. С другой стороны, возможно неправильное формирование словесного отчета, как если бы в ходе эксперимента была выработана связь, не соответствующая экспериментальной программе, хотя в действительности подобного замыкания не было.
Можно, таким образом, полагать, что, если не во всех, то, по крайней мере, во многих случаях, неожиданное появление бреда является результатом неполной индукции, т. е. абсолютизирования определенной несущественной связи и даже определенного несуществующего (неправильно воспринятого или неправильно понятого) признака. В первом случае мы сталкиваемся с подобием того, что называется некоторыми авторами "бредовым восприятием", а во втором - "бредовым озарением". В силу инертности нервных процессов эта патологическая связь становится доминантной, притягивает к себе энергию внешних раздражений и тормозит путем отрицательной индукции или фазовых отношений остальные, более реальные связи. В случаях инициального правдоподобного бреда ("бредоподобных идей") первоначально новая связь может быть результатом нормальной замыкательной функции коры больших полушарий, не нося характера грубого противоречия с действительностью. В дальнейшем, в силу слабости процессов внутреннего торможения и возбуждения, а также инертности последнего, включаются остальные механизмы, о которых шла выше речь. Это находит свое отражение и в клинической характеристике бреда. В начале своего проявления бред очень разнообразен и обычно связан с условиями жизни, с прошлым опытом, с неблагоприятными (психогенными) воздействиями. В дальнейшем же содержание шизофренического бреда все более унифицируется, причем его ядром становятся параноидные бредовые идеи.
Итак, патогенез шизофренического бреда - очень сложное явление. С точки зрения патофизиологии высшей нервной деятельности, формирование бреда можно определить как замыкание патологического сложного условно-условного рефлекса. Это формирование может произойти на разных уровнях, при разных степенях участия сознания. Предметом осознания могут быть либо все компоненты рефлекса, либо его отдельные составные части, причем самым интересным для нас в данном случае является осознание только "конечного результата" без понимания значения сигналов и связей между ними. В зависимости от этого бред может казаться более или менее обоснованным, "вытекающим" из данной ситуации или совершенно неожиданным, проявляющимся как "Deus ex machina" (т. н. "бредовое озарение"). Тем самым сознательное и бессознательное как бы сосуществуют в бреде, "интерферируют" между собой, но не в смысле двух диаметрально противоположных категорий реальной и трансцендентальной действительности (как утверждает идеалистически ориентированная психиатрия), а как разные варианты динамики высшей нервной деятельности больного.
Литература
1. Займов К., Совр. медицина, 1953, 1, 5.
2. Поляков Ю. Ф., В сб.: Сосудистые заболевания головного мозга. М., 1961, 264.
3. Смулевич А. Б., Ж. им. С. С. Корсакова (Москва), 1965, 65, 1824.
4. Grule, H. W.. Der Wahn, In: Psychologie der Schizophrenie. Herausg. J. Berze u. H. W. Grule, Berlin, Springer Verlag, 1929.
5. Jaspers, K., Allgemeine Psychopathologie, Berlin - Heidelberg - New York, Springer Verlag, 1965.
6. Schneider, K., Klinische Psychopathologie, 8. erganzte, Aufl., Stuttgart, Thieme Verlag, 1967. in
Заключение и выводы
Анализ творческого метода К. С. Станиславского позволяет уточнить природу сознания, выделить две разновидности неосознаваемой деятельности мозга, приблизиться к пониманию их происхождения и физиологических механизмов.
1. Сознание есть такое знание о мире, закрепленное в нейрональных мозговых моделях, которое: а) может быть использовано субъектом для организации действий, направленных на удовлетворение имеющихся у него потребностей; б) может быть передано другим членам сообщества посредством второй сигнальной системы. В сфере сознания мы находим обобществленное знание, социальность которого включена в его внутреннюю структуру.
2. Вне сознания оказываются две категории, два класса явлений:
- приспособительные реакции, которые не подлежат обобществлению, поскольку имеют сугубо индивидуальное значение: процессы регуляции внутренних органов, неосознаваемые детали двигательных актов (в том числе вторично неосознаваемые, автоматизированные навыки), оттенки эмоций и их внешнего выражения, сугубо индивидуальные мотивации, "не примиренные" с социальными требованиями к субъекту, противоречащие этим требованиям и т. д. Эта группа неосознаваемых явлений может быть обозначена как подсознание;
- неосознаваемые этапы творческой деятельности мозга, формирование гипотез, "бескорыстные" (познавательные) мотивации - стремление к освоению тех сфер действительности, прагматическая ценность которых сомнительна, неясна. Эта категория неосознаваемого психического относится к области сверхсознания, если пользоваться терминологией К. С. Станиславского.
3. Неосознаваемость определенных этапов творческой деятельности мозга возникла в процессе эволюции как необходимость противостоять консерватизму сознания. Диалектика развития психики такова, что коллективный опыт человечества, сконцентрированный в сознании, должен быть защищен от случайного, сомнительного, не апробированного практикой. Это достоинство сознания диалектически оборачивается его недостатком - препятствием для формирования принципиально новых гипотез. Вот почему процесс формирования гипотез (психический мутагенез) освобожден эволюцией от контроля сознания, за которым сохраняется функция отбора гипотез, адекватно отражающих, реальную действительность.
4. Признание объективной невозможности прямого волевого вмешательства в механизмы подсознания и сверхсознания, признание дополнительности осознаваемых и неосознаваемых сторон деятельности мозга имеет для психологии такое же значение, как принципы неопределенности и дополнительности для современной физики. Вместе с тем, имеется объективная возможность косвенного влияния на механизмы творчества, возможность содействия этим механизмам. Одним из примеров такого содействия служит творческий метод К. С. Станиславского, разработанный им применительно к профессии актера.
124. Функция персонажа как "фигуры" бессознательного в творчестве Германа Гессе. Р. Г. Каралашвили (124. The Function of Personage as "Figure" of the Unconscious in Hermann Hesse's Works. R. G. Karalashvili)
Тбилисский государственный университет, факультет западноевропейских языков и литератур
В 1920 году Гессе писал своему другу Людвигу Финку: "После войны и нескольких лет, потерянных на чиновничьей службе, я уже не мог начать с того места, на котором остановился... я научился по-новому смотреть на мир, а именно, путем сопереживания времени и психоанализа я совершенно переориентировал свою психологию. Мне ничего не оставалось, если я вообще собирался продолжать, как подвести черту под ранними работами и начать заново. То, что я теперь пытаюсь выразить, это частично вещи, которые еще никем не были выражены... Кое-чего из того, что я сейчас пробую, вообще не было в немецкой литературе..." [6, 436-437].
Цитированное высказывание свидетельствует о коренном переломе в творчестве Гессе, причем этот перелом писатель совершенно недвумысленно связывает с тяжелым душевным кризисом и знакомством с психоанализом, сыгравшем решающую роль в его духовной жизни. Вследствие серьезного нервного потрясения, вызванного невзгодами войны и семейными неурядицами, Гессе в апреле 1916 года был вынужден обратиться в частную психиатрическую клинику в Зоннматте. Здесь он прошел курс электротерапии и имел 72 психоаналитических сеанса с учеником К. Г. Юнга доктором Иозефом Бернхардом Лангом. С этого времени писатель начинает интенсивно заниматься психоанализом и усердно изучает сочинения Фрейда, Юнга, Штекеля. В последующие годы он повторно берет сеансы то у И. Б. Ланга, а то у К. Г. Юнга. Результатом этих занятий является тотальное углубление в свой внутренний мир, постоянное самонаблюдение, самоанализ и полная переориентировка психики. Поиски абсолютной внутренней правды, возможностей примирения противоположных душевных содержаний и путей достижения внутренней гармонии отныне на долгое время становятся основной задачей писателя.
Любопытно, что во всей "глубинной психологии" особый интерес Гессе вызвала проблема "индивидуации" и скрытые в ней возможности внутреннего обновления человека. И это не удивительно, ибо автор "Демиана" и "Степного Волка" был тесно связан с традиционным гуманизмом и проблема человека всегда стояла в центре его интересов. К тому же Гессе принадлежал к интровертированному типу художника, который с самого начала не ставил своей задачей изображение внешнего состояния мира и социально-эмпирической действительности, а стремился к передаче внутренней жизни индивидуума, к описанию его душевных переживаний и неустанно искал пути к наиболее полной реализации тех душевных возможностей, которые заложены в каждом отдельном человеке. И как раз в этом отношении психоанализ представлялся писателю важным инструментом в познании таинственной жизни глубин человеческого существа. Кроме того, новая психология, по мнению Гессе, заново ориентировала человека и открывала перед личностью совершенно ей неведомые пути. Писателю, несомненно, должно было быть симпатичным и положение "аналитической психологии" о том, что весь человек вырастает из самого себя благодаря своей внутренней духовно-физической структуре, что накладывает особую ответственность на каждого отдельного человека за то, чего он достигнет как личность. Однако, особенно привлекательным в "глубинной психологии" Гессе представлялось все же то, что предложенная психоанализом техника стимулировала внутреннюю активность индивида, толкала его вперед и приучала не довольствоваться достигнутым на пути самоусовершенствования. Модель человеческой психеи, разработанная в "аналитической психологии" с положением о "Самости", как идеальной возможности, к осуществлению которой надлежит стремиться человеку, представлялась писателю особенно плодотворной теоретической основой в его поисках оптимальных возможностей на тернистом пути вочеловечивания.
В одном письме 1943 года Гессе развивает свою концепцию человека, на которой в какой-то мере сказывается и его увлечение психоаналитическими теориями, однако, с другой стороны, явственно ощущается и та гуманистическая трактовка, которую претерпевают положения юнгианской психологии в творчестве писатели. "Вы говорите так, - пишет тут Гессе, - как будто Я - величина известная, объективная. Но это совсем неверно; в каждом из нас два Я. и тот кто знал бы, где начинается одно и кончается другое, был бы совершенным мудрецом. Наше Я, субъективное, эмпирическое, индивидуальное - стоит наблюдать за ним, оказывается весьма изменчивым, капризным, крайне подверженным всяческим влияниям. Так что, это не та величина, на которую можно твердо полагаться, и тем более не может она служить нам мерой и внутренним голосом. Но есть и другое Я, оно скрыто в первом Я, переплетается с ним, но спутать его с ним нельзя. Это второе, высшее, священное Я ("Атман" индусов, его Вы отождествляете с "Брахмой") лишено личного смысла, оно означает меру нашей причастности к богу, к жизни, к целому, к внеличному и сверхличному. Следить и следовать за этим Я - уже более благородное занятие" [5, 203].
Читателю мало-мальски знакомому с "аналитической психологией" нетрудно установить, что под первым Я Гессе подразумевает внешнее проявление личности, то, что в психологии Юнга принято называть "Маской" или' "Персоной", в то время как высшим Я писатель обозначает вторую душевную инстанцию, известную в аналитической психологии" под названием "Самости". Кстати эта самая "Самость" и у Гессе, в полном соответствии с требованиями "глубинной психологии, является целью внутреннего развития человека, вплоть до того, что в основу большинства поздних произведений писателя положена схема процесса индивидуации, как она описана в сочинениях Юнга и его последователей.
Разумеется, Гессе не был слепым последователем ни Фрейда, ни Юнга или еще кого-нибудь другого, разумеется, он не пытался механически перенести психоаналитические построения в художественное творчество, да и странной выглядела бы литература, которая и впрямь решила бы проиллюстрировать те или иные положения научной мысли. Лучше всего это знал сам Гессе, который еще на заре своего увлечения "глубинной психологией" в статье "Художник и психоанализ" предостерегал от бездумного следования тезисам психоанализа [8,Х, 47(-52]. Однако, не следует забывать и того, что писатель в "аналитической психологии" видел не только удачную и интересную концепцию, но и сильное терапевтическое средство, которое он применял на протяжении многих лет. Таким образом, психоанализ для Гессе не был лишь плодом интеллектуальных усилий, он не являлся чем-то внешним и по отношению к творческому процессу, а входил в непосредственный жизненный и духовный опыт писателя, вплоть до того, что и свое художественное творчество он рассматривал, вполне в духе "аналитической психологии", как непрерывный процесс осознания таинственных бездн собственного бессознательного.
В "Дневнике 1920/21 годов" есть такая запись: "Если поэзию воспринимать как исповедь - а только так могу я ее воспринять сегодня - тогда искусство проявляет себя как длинный, многообразный, извилистый путь, целью которого было бы такое совершенное, такое разветвленное, такое доходящее до последних извилин самовыражение личности, Я художника, что в итоге это Я перебросилось бы и выгорело до конца, размоталось бы и исчерпалось бы окончательно. И только после этого могло бы последовать нечто более возвышенное, нечто сверхличное и вневременное, искусство было бы преодолено и художник созрел бы для того, чтобы стать святым. Функция искусства, насколько оно имеет отношение к личности художника, было бы в таком случае тем же самым, что и функция исповеди или же психоанализа" [7, 130]. Таким образом, художественные произведения Гессе, являясь "отражениями" отдельных этапов сложного пути самопознания и самовыражения, как бы документируют многолетние усилия на пути индивидуации самого автора. При этом любопытно отметить, что Гессе приблизительно так же осмысливает проблему индивидуации, как и Юнг, акцентируя момент перелома и постепенное продвижение к целостной личности, интегрирующей сознательную и бессознательную психею.
Процесс индивидуации, как он описан в психологической литературе, состоит из двух основных этапов. Первый из них заключается в "инициации во внешний мир" и завершается формированием Я, или, говоря иначе, "Маски", т. е. того проявления личности, "которая человек, по сути дела, не есть, но за которую он сам и другие люди принимают его" [3, 155]. Вторая же ступень заключается в "инициации во внутренний мир" и является процессом дифференциации и отмежевывания от коллективной психологии. Причем сам Юнг, говоря об индивидуации, в большинстве случаев подразумевает лишь только вторую ступень внутреннего становления, именуемую им также и "восамлением" (Selbstwerdung).
Собственная психографическая схема внутреннего формирования личности, описанная Гессе в программной статье "Немного теологии", в основных чертах повторяет главные этапы процесса индивидуации [см. 8, X, 74-87]. Причем особое внимание писатель уделяет феномену "отчаяния", который завершает разумную ступень в развитии индивида и предваряет "магическую" стадию. "Отчаяние" свидетельствует о том, что индивид "созрел" для сложного процесса "вочеловечивания" и может приступить к индивидуации, или точнее, ко второму ее этапу, который, согласно Гессе и Юнгу, есть наиболее ценный отрывок внутренней биографии человека.
Индивидуация в понимании Юнга заключается в ступенчатом приближении к содержаниям и функциям психической целости и в признании воздействия ее сознательны" и бессознательных содержаний на сознательное Я. Она начинается отмежевыванием от псевдоличностности "Маски" и продолжается углублением в бессознательные сферы, которые надлежит поднять в сознание. Таким образом, индивидуация подразумевает расширение сферы сознательной жизни индивида и неукоснительно должна привести к познанию самого себя тем, чем человек является от природы, в противоположность тому образу, за который хочется ему себя выдавать. Внеличные бездны, которые для успешного протекания индивидуации следует осознать, репрезентируют "фигуры" бессознательного, рассматриваемые Юнгом буквально как персонажи некой внутренней драмы: "Тень", "Анима" ("Анимус"), "Самость". Мы не станем тут характеризовать эти образы, многократно описанные в психологической литературе, а лишь отметим, что лики бессознательного обладают такими характеристиками, которые позволяют рассматривать их как автономные личности. Именно это обстоятельство использует Гессе, превративший общую схему внутридушевной драмы в важный поэтологический принцип, a различные аспекты собственного бессознательного, выступающие в образе символических "фигур", в действующих лиц своих произведений. Таким образом, персонажи в повестях и романах позднего Гессе являются не отдельными и независимыми личностями, не суверенными литературными образами, а знаками-символами, репрезентирующими те или иные стороны души автора. И находятся эти персонажи между собой, коль скоро "действие" в романах Гессе разворачивается не в реальной действительности, а в неком воображаемом душевном пространстве, в тех же отношениях, что и "фигуры" бессознательного.
Особенно четко этот поэтологичеакий принцип сформулирован автором в романе "Степной Волк": "В действительности никакое Я, даже самое наивное, не являет собой единства, но любое содержит чрезвычайно сложный мир, звездное небо в миниатюре, хаос форм, ступеней и состояний, наследственности и возможностей... Обман основан на простом перенесении. Телесно любой человек есть единство, душевно - никоим образом. Также и поэзия, даже самая утонченная, по традиции неизменно оперирует мнимо цельными, мнимо обладающими единством личностями. В существующей доселе словесности специалисты и знатоки превыше всего ценят драму, и по праву, ибо она представляет (или могла бы представить) наибольшие возможности дли изображения Я как некоего множества, - если бы только этому не противоречила грубая видимость, обманным образом внушающая нам, будто коль скоро каждое отдельное действующее лицо драмы сидит в своем неоспоримо единократном, едином, замкнутом теле, то оно являет собой единство. Поэтому наивная эстетика выше всего ценит так называемую драму характеров, в которой каждая фигура с полной наглядностью и обособленностью выступает как единство. Лишь мало-помалу в отдельных умах брезжит догадка, что все это, может статься, есть всего лишь дешевая эстетика видимости, что мы заблуждаемся, применяя к нашим великим драматургам великолепные, но не органические для нас, а лишь навязанные нам понятия о красоте классической древности, которая, как всегда, исходя из зримого тела, и измыслила, собственно, эту фикцию Я, действующего лица. В поэтических памятниках Древней Индии этого понятия совершенно не существует, герои индийского эпоса - не лица, а скопища лиц, ряды олицетворений. И в нашем современном мире тоже есть поэтические произведения, где под видом игры лиц и характеров предпринимается не вполне, может быть, осознанная автором попытка изобразить многоликость души. Кто хочет познать это, должен решиться взглянуть на персонажей такого произведения не как на отдельные существа, а как на части, как на стороны, как на разные аспекты некоего высшего единства (если угодно, души писателя)" [8, VII, 242-243].
Как видно из этого высказывания, Гессе вполне сознательно и намеренно строил свои персонажи не как характеры и индивидуальности, а как "типы", как знаки-символы, репрезентирующие разные сферы и функции его бессознательного. А постольку писатель с одной стороны снабжал их стойкими инвариантными свойствами, характеризующими соответствующие "фигуры" бессознательного, с другой же стороны наделял их чертами из своего индивидуального душевного опыта.
С особой последовательностью описанный выше поэтологический принцип осуществлен писателем в романе "Степной Волк" и критики давно уже стали, и не без основания, соотносить персонаж Термины с "Анимой", в Волке же усмотрели проекцию архетипического образа "Тени" [см. 1, 169; 10; 11; 12, 41-52]. Однако, свои наблюдения исследователи до сих пор, в основном, ограничивали романом "Степной Волк" и как будто не замечали, что сформулированная здесь поэтологичеакая модель в той или иной степени определяет композицию и структуру большинства прозаических сочинений Гессе.
Все произведения Гессе, в том числе и "Степной Волк", начинаются с "отчаяния", завершающего, согласно психографической схеме, предложенной писателем, "инициацию во внешний мир". Отчаяние свидетельствует о несостоятельности "Маски" и связанных с ней нравственно-мировоззренческих установок и направлено поэтому против данной искусственной конструкции личности. Отчаяние и конфликт с "Маской" может окончиться гибелью героя, но в случае успешного преодоления оно открывает перед Я стихию бессознательного, которую надлежит поднять в сознание, что даст возможность человеку обрести свою истинную индивидуальность. Чиновник Клайн, герой новеллы "Клайн и Вагнер", погибает при первой же встрече с бессознательным (или же, если рассматривать образ Клайна как "Маску" некоего психического целого, то можно сказать, что новелла повествует об успешном преодолении коллективной психологии и многообещающем начале индивидуации). Гарри Галлер делает шаг вперед на опасном пути встречи с бессознательным. Он преодолевает следующий барьер, представший перед ним в лице "Анимы".
Для того, чтобы получить правильное представление о силах и факторах неизвестного мира, индивиду надлежит воспринять фигуру "Анимы" как автономную личность и ставить ей сугубо личные вопросы. Ибо все искусство состоит в том, чтобы заставить заговорить свою другую сторону. В этом заключается самая элементарная техника психоанализа и предпосылка успешного протекания индивидуации. "Автономный комплекс Анимы и Анимуса", замечает Юнг, "по сути дела является психологической функцией, которая лишь благодаря своей автономности и неразвитости узурпирует личность... Однако уже сейчас мы видим возможность разрушить ее личностность тем, что осознав превратим ее в мост, ведущий в бессознательное... Столкновение с ним должно вывести их содержания на свет и лишь после того, как эта задача (будет успешно завершена и сознание в достаточной мере ознакомится с процессами бессознательного, отраженного в Лниме, лишь после этого будет Анима восприниматься как чистая функция" [2, 105; см. также: 2, 120]. Диалоги Галлера и Термины свидетельствуют о том, что автору романа удалось заставить заговорить образ женственного в своем бессознательном. Свадебный танец в залах "Глобуса" указывает далее на успешное освоение бессознательных содержаний сознанием, а символическое убийство "героини" в конце книги на психологическом языке означает превращение автономного комплекса в психологическую функцию и благополучное завершение важной ступени процесса индивидуании.
Однако высвобождением из ложной оболочки "Маски" и превращением "Анимы" из автономного комплекса в чистую функцию отнюдь не исчерпывается цель индиаидуации, а ее конечной целью является достижение психической цельности или, говоря словами Гессе, идеальной возможности, заложенной в человеке. Цельность эта, или же "Самость", будет достигнута в том случае, если основные пары противоположностей будут относительно дифференцированы и если сознание и бессознательное будут приведены в животворное взаимодействие. а спокойное течение психической жизни будет гарантировано тем, что бессознательное никогда не осознается до конца и тем самым всегда будет представлять собой неисчерпаемую энергетическую базу психического. "Самость" никогда не может быть абсолютно абсорбирована сознательным субъектом, ибо "Самость есть величина, относящаяся к сознательному Я, как целое к части. Она охватывает не только сознательную, но и бессознательную психею" 12, 69]. Поэтому сколько бы наше Я ни пыталось осознать бессознательные содержания, в нас всегда будет оставаться достаточное количество бессознательного, не освоенного сознанием. Часть никогда не сможет постичь целого, цельность психики, как бы успешно ни протекала индивидуация, всегда будет оставаться относительной и поэтому ее достижение должно превратиться в пожизненную задачу человека. "Личность, как исчерпывающее осуществление цельности нашего существа есть недосягаемый идеал", писал Юнг; "однако, недосягаемость не есть аргумент против идеала, ибо идеалы представляют собой указатели пути и никогда не являются самой нелью" [4, 188].
В полном соответствии с этим положением "аналитической психологии", Гессе в своих произведениях почти никогда не рисует свершение идеала совершенного человека, а указывает лишь направление, в котором происходит развитие героя, хотя как идеал "Самость" (постоянно присутствует в его романах, принимая то образ Гете (Подробнее о роли образа Гёте в творчестве Гессе см. статью Р. Каралашвили [9, 179-200]), то Моцарта, а то еще других "вымышленных" лиц, называемых Гессе "Бессмертными" (Здесь вряд ли можно удержаться от замечания, что и само название этих персонажей - "Бессмертные" - имеет самое прямое касательство к "глубинной психологии". Ибо "бессмертие", согласно Юнгу, есть всего лишь выходящая за рамки сознания психическая деятельность и выражение "по ту сторону могилы и смерти" на языке психологии не означает ничего другого, кроме как "по ту сторону сознания" [см. 2, 84]. А коль скоро гессевские персонажи, репрезентирующие "Самость", объединяют не только личные и сознательные, но и безличные и бессознательные сферы психеи, то их с полным правом можно было назвать "Бессмертными".) Реализм Гессе не позволял ему изображать такие состояния, которые не имелись в его душевном опыте и в тех редких случаях, когда он все-таки решался воплотить свою мечту и идеальную цель в поэтическую форму, то он прибегал или к иносказанию и сказке, или же к литературной форме легенды (см. "Сиддхартху", последнюю главу "Игры в бисер" и пр.).
Описанную нами поэтологическую модель Гессе практически начинает применять начиная с романа "Демиан". Отныне действие в его произведениях почти исключительно разворачивается не в социально-эмпирическом пространстве, которое писатель именует "так называемой действительностью", а в "магической действительности" ("Магическое", замечает Юнг, "это просто-напросто другое название психического" [2, 78]). С этого же времени и персонажи в его романах перестают быть суверенными действующими лицами с четко вырисованными характерами, которыми они, собственно говоря, в полной мере никогда и не были. Их функция отныне заключается в образно-зримой репрезентации определенных внеличных инстанций психеи самого автора. Читателю, знакомому с теорией индивидуации, нетрудно будет установить, каким именно "фигурам" бессознательного соответствуют те или иные персонажи. Он увидит, что "Анима" представлена тут образами госпожи Евы, Камалы, Терезины, Термины и др.; "Тень" - образами Кромера, Вагнера, Пабло; а Макс Демиан, Васудева, Моцарт, Гёте, Лео и Магистр музыки репрезентируют "Самость", т. е. ту идеальную возможность, которая заложена в каждом из нас и оптимальная реализация которой должна стать жизненной целью человека.
Как видим, психоанализ сыграл весьма важную роль в творчестве Гессе. Разумеется, можно ставить под сомнение возможность практического обуздания "Тени" методом, предложенном "аналитической психологией" и отраженном в сочинениях писателя, можно оспаривать терапевтический эффект процесса индивидуации в целом, можно также не соглашаться с теми или иными положениями психоанализа, однако то, что юнгианская модель психеи в данном случае оказалась весьма плодотворной основой для поэтологических построений, это совершенно бесспорно и об этом свидетельствует, кроме всего прочего, и тот огромный успех, который выпал на долю книг Гессе. Психоанализ в западной литературе подвергался самой различной, в том числе и откровенно иррационалистической экспликации. Однако, в отличие от подобного восприятия "глубинной психологии" Гессе в ней узрел значительные нравственно-конструктивные возможности. Оставив в стороне отдельные явно антигуманистические тенденции "аналитической психологии", он связал теорию индивидуации со своей мечтой о совершенном человеке и гармонической личности и трансформировал ее таким образом в сферу жизнеутверждающего гуманизма. Свидетельством этого гуманизма и веры в неиссякаемые возможности, заложенные в человеке, являются и следующие олова писателя: "Я верю в человека, как чудесную возможность, она не гаснет даже и в самой ужасной мерзости и помогает преодолеть самое ужасное извращение и вернуться назад; эту возможность всегда можно чувствовать - как надежду, как императив, и та сила, которая заставляет человека мечтать о высших его возможностях, которая снова и снова уводит его прочь от животного, - это, должно быть, всегда одна и та же сила, как бы ни именовали ее, - сегодня религией, завтра разумом, послезавтра как-то еще. И, видимо, эти постоянные колебания между реальным человеком и возможным человеком мечты и есть то самое, что на языке религий зовется связью человека и бога" [5, 176].
Литература
1. Jacobi, Jolande, Die Psichologie von К. G. Jung. Zurich und Stuttgart, 1967.
2. Jung, С. G., Die Beziel ungden zwischen dem Ich und dem Unbewussten. Zurich und Stuttgart, 1966.
3. Jung, C. G., Gestaltungen des Unbewussten. Zurich, 1950.
4. Jung, C. G., Wirklichkeit der Seele. Zurich. 1947.
5. Hesse, Hermann, Briefe. Erweiterte Ausgabe. Frankfurt a. M., 1964.
6. Hesse, Hermann, Gasammelte Briefe. Bd. I. Frankfurt, a. M., 1973.
7. Hesse, Hermann, Eigensinn. Frankfurt a. M., 1972.
8. Hesse, Hermann, Gesammelte Werke in zwolf Banden-Frankfurt a. M., 1970.
9. Karalaschwili, Reso, Das Goethe - Bild in Hermann Hesses Schaffen. In: Hermann Hesse, Dank an Goethe. Frankfurt a. M., 1975.
10. Maier, Emanuel, The psychologie of С. G. Jung in the Woiks of Heimarn Hesse. New York University, 1952 (Diss.).
11. Schwartz, Arnold, Creation litteraire et psychologie des profondeurs. Paris, 1960.
12. Volker, Ludwig, Die Gestalt der Hermine in Hesses "Steppenwolf". In: Etudes Germaniques (Paris), 1970, 1, p. 41-51.
Примечание редакции
В отношении литературно-психологического анализа Л. И. Слитинской необходимо сделать следующее замечание.
В этой работе степени достоверности частных суждений и общего заключения - разные. Если в отношении первых возможны сомнения и споры, то второе представляется глубокообоснованным и вытекающим из широко на сегодня принимаемых представлений о природе и закономерностях творческого процесса.
Действительно, когда автор связывает, например, желание Элен развестись с Пьером с неудовлетворенностью семейной жизнью самого Л. Н. Толстого; когда он видит в нерешительности Пьера опять-таки нерешительность самого Толстого; в эпизоде Наташи и Анатоля - осуществление бессознательных желаний автора; в роли Сони как "фона для поэтизации" Наташи - выражение разочарования Толстого в жене и его чувство к Т. А. Берс и т. д. и т. д. (по типу именно таких аналогий построена вся обсуждаемая статья), то можно долго спорить, в какой мере каждое из подобных сближений оправдано. В некоторых случаях эти сближения могут быть довольно веско аргументированы (как, например, идентификация образа Наташи с Т. А. Берс), в других остается впечатление их иногда большей, иногда меньшей произвольности.
Представляется, однако, что центральным в работе Л. И. Слитинской является не доказывание реальности каждой из предполагаемых ею идентификаций, а обоснование гораздо более общего - принципиального и неоспоримого - тезиса, по которому на литературную композицию неизбежно налагает глубокий отпечаток душевная жизнь ее автора, вся сложность переживаемых автором внутренних противоречий, его осознаваемых и неосознаваемых конфликтов, его нереализованных влечений.
При всей дискуссионности проблемы проективных тестов, следует считать твердо установленным (экспериментально), что в условиях свободного выбора решения (характерных для проективного теста) этот выбор определяется не только осознаваемыми, но и неосознаваемыми мотивами и психологическими установками, - и тем в большей степени, чем более эмоционально напряжены последние. В процессе художественно-литературного творчества подобные ситуации "свободного выбора решений", относящихся к композиции, сюжету, образам персонажей и их взаимоотношениям, возникают, естественно, на каждом шагу. В этой связи работа художественной фантазии и работа бессознательного над проективным тестом весьма близки друг другу, и легко понять, почему в их функциональной структуре проявляются сходные тенденции.
Раскрыть подлинный смысл конкретной идентификации, встречающейся в литературной композиции, дело, подчас, в высшей степени трудное, но понимать роль подобных идентификаций как одного из важнейших механизмов создания художественного образа совершенно необходимо. И в обсуждаемой статье содержится немало ярких иллюстраций возможной - а иногда и весьма вероятной - работы этого скрытого механизма.
127. Катарсис как осознание (Эдип Софокла и Эдип Фрейда). Т. А. Флоренская
НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР, Москва
1. Тема катарсиса (греч. χαυαρσις - очищение) уходит в глубь веков и может быть найдена в мировоззренческих системах различных времен и культур. Тем не менее, приступая к ее рассмотрению применительно к психологии искусства, мы не можем и не склонны дать определение своему "предмету исследования". Известен фрагмент "Поэтики" Аристотеля о катарсисе трагедии: "Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, (подражание) при помощи речи, в каждой из частей различно украшенной; посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха очищение подобных аффектов" [4, 1496-в]. При всей своей емкости этот фрагмент не может послужить нам для формулировки определения катарсиса уже потому, что нельзя при этом обойти его многочисленные толкования [3], - тему обширную и самостоятельную, свидетельствующую о чрезвычайной трудности и, может быть, бесплодности исходных определений столь сложного явления.
Л. С. Выготский таким образом разрешил эту трудность определения понятия "катарсис": "...несмотря на неопределенность его содержания и несмотря на явный отказ от попытки уяснить себе его значение в аристотелевском тексте, мы все же полагаем, что никакой другой термин пз употреблявшихся до сих пор в психологии не выражает с такой полнотой и ясностью того центрального для эстетической реакции факта, что мучительные и неприятные аффекты подвергаются некоторому (разряду, уничтожению, превращаются в противоположные и что эстетическая реакция как таковая сводится к такому катарсису, то есть к сложному превращению чувств" [5, 271].
Мы разделяем эту позицию опять-таки не как определение, а как постановку проблемы и указание на область явлений, обозначаемых словом "катарсис". Добавим лишь, что, хотя эстетическая реакция может рассматриваться как оптимальная "модель" для психологического изучения катарсиса, область последнего много шире; она распространяется, в частности, на психологию воспитания и психотерапию.
В наше время наиболее распространена психоаналитическая концепция катарсиса. Исходным для нее послужил феномен И. Брейера (1880-1882): больная истерией излечилась от психосоматических симптомов путем воспоминаний в гипнозе о неотреагированных переживаниях у постели умирающего отца. Этот метод Брейер назвал катартическим. З. Фрейд интерпретировал подобного рода явления в рамках своей теории. Основное переживание, неизбежно подлежащее "вытеснению", он увидел в иифатильном сексуальном влечении дочери к отцу и сына к матери: "Миф о царе Эдипе, который убивает своего отца и женится на своей матери, представляет собою мало измененное проявление инфантильного желания" [8, 56].
Для Фрейда миф об Эдипе был не просто метафорой для обозначения инцестуозного комплекса. Обращение к авторитету греческого мифа объясняется стремлением найти вечную, универсальную истину о человеке, коренящуюся в архаической целостности мифологического сознания. Поэтому трагедия Софокла "Эдип-царь" может послужить нам одновременно и для обсуждения фредовской интерпретации мифа об Эдипе как выражения психоаналитической концепции личности, и для рассмотрения психологической проблемы катарсиса как осознания (см. также А. Е. Шерозия [11]).
Мы будем опираться далее в своем анализе н;а основательное и глубокое исследование мифа об Эдипе, выполненное С. С. Аверинцевым [1].
2. "Эдип-царь" - трагедия осознанной вины. "Судьба Эдипа слагается из двух моментов: бессознательно совершенного преступления и сознательно принятого наказания" [1, 91]. Все действие трагедии направлено к кульминации осознания. Этот процесс сопровождается упорным нежеланием признать свою вину (Фрейд сказал бы: "сопротивлением"), гневным обвинением своих обвинителей (как бы "проекцией" своей вины на них), стремлением изгнать, уничтожить обвинителей. Как изгнание голоса собственной совести звучат слова Эдипа, брошенные мудрецу Тиресию, сказавшему царю о его вине: "Эдип (бешено): Невыносима клевета такая! Сгинь, дерзкий волхв! Скорей уйди отсюда к себе обратно и оставь мой дом".
Таков же смысл возгласа Иокасты у последней черты саморазоблачения Эдипа: "О будь навеки тайной для себя!".
Обличения Тиресия не доходят до сознания Эдипа. Как говорит одна из ремарок, "правда проходит мимо". В психологической тонкости подобных наблюдений следует отдать должное не только Софоклу, но и Фрейду.
Однако Эдип Софокла озабочен не осознанием своих вытесненных постыдных влечений (преступление уже совершено, хотя он еще не знает этого): царь Эдип ищет причину страданий своего народа, которые, как вещает оракул, коренятся в нравственном преступлении - убийстве его предшественника - царя Лая. Будучи сам этим убийцей, но не зная этого, а также того, что убитый им в случайной драке путник - его отец, Эдип ищет виновников вовне, во имя избавления народа. Искупление Эдипом своей вины - залог спасения всех. Послы народа идут к нему co словами: "Найди спасенья путь". И Эдип ищет, но в ложном направлении: не в себе, а в других.
Трагедия развивается в двух планах: с одной стороны, внешний план ложных поисков Эдипа вовне, а с другой - внутренний смысловой план - процесс выявления истинной причины происходящего - вины самого Эдипа. Чем сильнее его стремление и кажущееся приближение к нахождению виновников, тем ближе он к саморазоблачению. Тот момент, когда Иокаста думает окончательно погасить его надвигающиеся сомнения в своей невиновности ("Не верь гаданиям..."), оказывается для Эдипа и Иокасты началом окончательного разоблачения. Трагическая катастрофа - окончательное саморазоблачение Эдипа и самоубийство Иокасты - одновременно и взрыв, и разрушение трагической ситуации.
Там, где, по Фрейду, должно произойти "исцеление через осознание", логика мифа и трагедии приводят к кульминации страдания. Ведь само по себе осознание ужаса своего преступления может привести к краху, гибели личности: отчаяние Иокасты, неожиданно оказавшейся перед ужасом своей преступной связи с сыном, приводит ее к самоубийству. Момент осознания вины - это момент страдания, которое может привести к разным исходам - либо поражению (само-убийство Иокасты), либо к победе над страданием.
Исход же этот зависит от состояния человека: его стремления найти истину и готовности принять последствия своих ошибок. Страдание Эдипа осознавшего свою вину, приводит его к осознанию в себе того, что привело его к преступлению.
"Эдипов комплекс" - это стремление к овладению, обладанию, захвату, отнюдь не ограниченное областью секса: это стремление к власти ("В подлиннике трагедия Софокла озаглавлена не "Эдип-царь", а "Эдип-тиран", термин τυραννος (тиран) подчеркивает в греческом языке не жестокость властителя, но иллегитимный характер его власти" [2, 120]), могуществу тайновидения и обладанию женщиной - матерью [см. также 11]. Общим знаменателем здесь выступает эгоистическое самоутверждение, переступающее все границы, ограничения, нормы человеческого сообщества. В этом преступлении норм, законов человеческой общности - суть преступления Эдипа, нравственного преступления вообще.
Так, по этому поводу С. С. Аверинцев говорит: "Во фрейдовской интерпретации мифа об Эдипе нужно все поменять местами, чтобы добиться правильного смысла: Эдип не потому претерпевает свою судьбу, оказываясь носителем экстраординарного знания (разгадка загадки сфинкса) и экстраординарной власти, что его неудержимо влекло к реализации Эдипова комплекса, но напротив: в убийстве отца и сожитии с матерью мифомышление, в соответствии со своими имманентными законами, обретает символ для характеристики его "выходящего из нормы" бытия" [2, 120]. И далее: "Брак с матерью имеет в знаковом языке античной "онирокритики" (снотолкования), этой популярнейшей из символических систем, четко фиксированный смысл... Тиран в своем отношении к родине-матери переходит от роли гражданина-сына к роли повелителя-супруга, он "овладевает" и "обладает" родной землей, как "отдавшейся" женщиной" [1, 93-94].
Мотив инцеста "...выявлял связь не только с символикой власти, но и символикой знания и притом знания экстраординарного, сокровенного, запретного... Кровосмешение запретно и страшно, но ведь тайны богов тоже запретны и страшны. Такова символическая связь меижду инцестом и знанием"... И далее: "Как известно, Эдип убивает отца у скрещения трех дорог. Линия, ведущая к идее инцеста: линия, ведущая в идее власти, понятой как эротическое овладение и обладание; линия, ведущая к знанию, понятому опять-таки как нескромное проникновение в сокровенное, и через это опять-таки как овладение и обладание... Но все три пути подводят Эдипа к одному и тому же - самообожествлению" [1, 98-99].
Знаменательно, что эти "три стези Эдипова перекрестка" отражены в трех путях расхождений психоанализа: инцест - в пансексуалиэме Фрейда; власть - в адлеровокой "воле к власти"; экстраординарное знание - в юнговской концепции человека [2]. Эдип-преступник вмещает в себя все три способа понимания как взаимодополняющие. Эдип как человек оказывается вне этих теорий, проходящих мимо его сущности. "Обманутый очевидностью и прозревший незримое, Эдип выкалывает глаза, которые его предали. Его знание обращается на него самого, его зрение обращается вовнутрь. Оказалось, что мудрость-сила, мудрость-власть - это вина и темнота, мрак чернейшего неведения: теперь он во мраке физической слепоты ищет иную мудрость - мудрость-самопознание" [2, 102].
Проходя через страдания, Эдип рождается заново. Сбывается пророчество Тиресия о смерти и новом рождении Эдипа. Эта загадка слепого мудреца, которую вначале не мог уразуметь "мудростью венчанный среди царей", противостоит загадке сфинкса, разгаданной Эдипом в преддверии царской власти. Эта тайна второго рождения души через страдание и самоотречение является смысловым стержнем и содержанием трагического катарсиса. Осознав свою вину, Эдип не примиряется с ней: он преодолевает ее в акте самоосуждения и добровольного страдания. Это осуждение своего преступления и отказ от прежнего жизненного пути, приведшего к нему, означает, что человек не отождествляет себя со своим преступлением, но отвергает в себе корни этого преступления как чуждые ему. Само осознание вины как таковой и искоренение в себе ее причин возможно лишь при убеждении в ее несовместимости с высоким достоинством человека. Именно непримиримость к осознанной вине приводит человека к внутреннему перерождению.
Эта тема осознания вины и добровольного самоосуждения, приводящего к катарсису, может быть раскрыта и на материале романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". Однако страдания Эдипа - это не муки совести Раскольникова, а жизненный крах, катастрофа. В контексте древнегреческого мировоззрения Эдип - безвинный преступник, орудие судьбы. Вина Эдипа выявлена вовне - в страдании народа, в эпидемии; вина Раскольникова переживается им как внутренняя болезнь, как омертвение души. Тем не менее, и в Эдипе, и в Раскольникове мы видим выражение одного и того же архетипа "преступления и наказания" на разных уровнях развития самосознания (Поэтому самосознание Эдипа в трагедии Софокла и древнегреческий характер восприятия трагедии могут не совпадать с символикой мифа и трагедии, выходящей за рамки определенной культуры).
По Фрейду, эта психологическая ситуация выражает тиранию "Супер-эго", порожденного "Эдиповым комплексом". Освобожденное от гнета "Cупep-эго" нуждается в терпимости к нарушению нравственных норм, в принятии осуждаемых влечений за неотъемлемые свойства человеческой природы. Но трагический катарсис далек от комфортабельного психоаналитического осознания с приятием вытесненных влечений.
3. Рассмотрение смысла мифа и трагедии об Эдипе позволяет наметить основные штрихи нашего подхода к психологии катарсиса в его противопоставлении фрейдовскому психоанализу.
Метод Фрейда сконцентрирован на путях обхода "сопротивления" - разоблачения, расшифровки вытесненных переживаний и их извлечения из области подсознательного.
Обращает на себя внимание то, что методы последующей работы с осознанными влечениями не были предметом столь же пристального внимания Фрейда, как методы их извлечения из подсознательного. Термин "психоанализ" точно выражает эту аналитическую односторонность фрейдовского метода, не уравновешенную попытками синтеза личности (Несомненно, чго Фрейду и его последователям практически приходилось так или иначе решать эту задачу, но нас сейчас интересует вопрос о сознательно применявшихся методах содержание которых сформулировано Фрейдом). По этому вопросу мы находим у Фрейда лишь общие и неопределенные высказывания типа: "Вытеснение заменяется осуждением": "бессознательные инстинкты направляются на другие цели" [8. 56]. Здесь же говорится о сублимации - переключении энергии инстинктов на более высокие цели.
Но мы не находим ответа на вопросы о том, каковы методы сублимации, всегда ли возможно направить энергию инстинктов на другие цели и почему это возможно. Принципиально не исключено, что Джинн, вырвавшийся из бутылки, может не захотеть нового пленения, сознательная личность может не справиться с задачей овладения освобожденными инстинктами. В таком случае возможны нежелательные исходы: либо крах и дезорганизация личности, потрясенной низостью своих бессознательных влечений, либо другой вариант: освобожденные влечения, обладая сильным энергетическим зарядом, могут стать доминирующими и перестроить сознание сообразно своему характеру. В таком случае опять-таки не может быть речи об их переключении на более высокие цели.
С точки зрения теории доминанты [7], такой вариант теоретически наиболее вероятен: для переключения энергии влечения в другое русло необходимо энергетическое приобщение к "более высокой цели", а т. к., по теории Фрейда, энергетическим резервуаром является бессознательное, то осознанное влечение само должно стать доминирующим к захватить, подчинить себе сознание человека (Эмпирическим подтверждением этому служит экспериментальная модель практики американского телевидения, реализующего фрейдовскую концепцию катарсиса как раскрепощения вытесненных влечений: сцены агрессии на экране вместо предполагавшегося снижения уровня агрессивных зрителей, напротив, только сильно повышают ее [13, 109-115]).
Фрейд прежде всего озабочен высвобождением энергии бессознательного. Но само высвобождение и дальнейшее направление этой энергии обусловлено содержанием сознания. Неразработанность этой содержательной стороны психоанализа Фрейда, как мы думаем, связана с проблемой мировоззрения и его влияния на структуру личности и ее энергетику. То мировоззрение, из которого исходил Фрейд в своей психотерапевтической практике, представляется нам продуктом абсолютизации специфических проявлений болезненной психики, оказавшихся в сфере клинической практики Фрейда.
Согласно Фрейду, нравственность, как и вся духовная культура, служит вытеснению антисоциальных инстинктов. Она находится в постоянном конфликте с природными влечениями, что, в конечном счете, ведет (к кевротизации личности и общества [10]. Искусство также служит компенсации вытесненных влечений, поэтому произведения искусства (анализируются Фрейдом с точки зрения расшифровки скрытых за ними инстинктов. Но анализируя особенности сексуальной сферы автора гениального произведения искусства [9] и пытаясь свести к ней сюжет этого произведения, Фрейд проходит мимо духовной ценности искусства, его художественности. За бортом психоанализа оказывается форма художественного произведения.
4. В противоположность З. Фрейду Л. С. Выготский акцентирует внимание на форме художественного произведения, обходя проблему осознания.
Анализируя психологию эстетической реакции на материале басни как "малой драмы", Выготский ищет "психологический механизм" катарсиса, исходя из формы басни. Он обращает внимание на два противоположно направленных плана: "Всякая басня и, следовательно, наша реакция на басню развивается все время в двух планах, причем оба плана нарастают одновременно, разгораясь и повышаясь так, что в сущности оба они составляют одно и объединены в одном действии, оставаясь все время двойственными" [5, 183]. Так, в "Вороне к лисице" чем сильнее лесть, тем сильнее издевательство - в одной и той же фразе. В "Стрекозе и муравье" - чем сильнее беззаботность, тем острее и ближе гибель. "Аффективное противоречие и его разрешение в коротком замыкании противоречивых чувств составляет истинную природу нашей психологической реакции на басню" [5, 186]. Это - аналог трагического катарсиса: "В трагедии мы знаем, что два развивающихся в ней плана замыкаются в одной общей катастрофе, которая знаменует и вершину гибели и вершину торжества героя" [5, 184]. "От басни до трагедии закон эстетической реакции один: она заключает в себе аффект, развивающийся в двух противоположных направлениях, который в завершительной точке, как бы в коротком замыкании, находит свое уничтожение" [5, 272]. "В этом превращении аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны, и заключается катарсис эстетической реакции" [5, 274].
Вслед за Шиллером ("Итак, настоящая тайна искусства мастера заключается в том, чтобы фермою унич!ожить содержание; и тем больше торжество искусства, отодвиггющего содержание и юсподствуощего над ним, чем величественнее, притязательнее и соблазнительнее содержание само по себе, чем более оно со своим действием выдвигается на первый план или же чем более зритель склонен поддаться содержанию" [12, 326]) Выготский видит сущность эстетического катарсиса в "уничтожении содержания формой". Так, печальная драма прощания Гектора умиротворяется ритмом гекзаметра; мрачный сюжет рассказа Бунина об убийстве и страсти просветляется эпическим спокойствием, авторской интонацией, дающей "легкое дыхание".
Таковы основы идеи Выготского о психологической природе катарсиса. Остаются, однако, вопросы: действительно ли искусство, говоря словами Выготского, является "...средством для... разрядов нервной энергии?". Если даже ограничиться энергетическим аспектом вопроса, то не служит ли искусство, напротив, средством, "заряжающим" нервной энергией? А может быть, все дело в том, что искусство призвано (гармонизировать человека? Будем говорить пока об искусстве трагедии, которое относится к области высокого искусства, искусства возвышающего. По-видимому, эта характеристика трагедии связана с тем, что се задача - перевести состояние зрителя-соучастника на новый уровень переживания и осознания: возвысить его. Переживание трагического действия приводит, как мы думаем, не к разрядке" нервной энергии, не к "погашению" и "уничтожению" аффектов, а к их преобразованию н гармонизации. Зритель уходит не "разряженным", а "наполненным" и "воодушевленным".
Утверждение о противоположности формы и содержания в искусстве является, как мы думаем, лишь общей констатацией. Ведь форма в искусстве - это форма своего содержания, средство именно его выражения. Если же она противоречит содержанию, значит она не соответствует ему. Поэтому можно скорее говорить о противоречии формы и фабулы.
Какое же содержание отражается формой, если этим содержанием не является фабула? Очевидно, форма отражает содержание художественного произведения на уровне смысла. Форма ведет зрителя от внешнего хода события к раскрытию его внутренней, сокровенной сущности. И только тогда, когда противоречие внешних событий и смысла происходящего предельно выявляется и "снимается" в трагической кульминации, происходит тот переход на иной уровень осознания, который объединяет трагического героя и зрителя в возвышающем переживании катарсиса.
Далее следует психологическая проблема: почему противоречие разнонаправленных тенденций в искусстве приводит к их примирению? Ведь обычно такое противоречие вызывает внутрипсихический конфликт, a не разрядку напряжения. Мы думаем, что нельзя ответить на этот вопрос, если исходить лишь из формально-энергетической характеристики эмоциональной динамики катарсиса. Поэтому, заключая, мы вновь вернемся к содержанию трагедии Софокла.
Различные планы, о которых говорил Выготский, выступают при нашем анализе как два противоположно направленных уровня в содержании трагедии Софокла: уровень внешнего действия и уровень смысловой. Смысловое содержание не дано зрителю, но должно быть выявлено им в процессе его соучастия в трагическом действии. Выявлению смысла содействует форма трагедии как носитель этого смысла. Размеренный, величественный ритм придает происходящему звучание вечности, переводит восприятие и переживание зрителя на высокий лад, помогая ему подняться над видимым и временным к постижению сущности происходящего. К выявлению сущности подводит и развитие самого действия. В трагической катастрофе внешнее явление и его смысл сходятся на одной вершине: трагический герой, осознавший смысл происходивших явлений, ценой мучительных страданий побеждает в себе то, что противоречило его человеческому достоинству.
Это соединение внешнего и внутреннего, явления и сущности переживается как открытие, озарение, как удовлетворение от завершения пути напряженного поиска.
Восприятие произведения искусства - это опыт познания и осознания, но не внешних явлений, а их смысла, сущности. В кульминации трагедии происходит разрешение проблемы, разворачивающейся по ходу действия. Но эта проблема не интеллектуальная, а нравственная, духовная. К решению ее зритель приходит не интеллектуально, а путем жизненного действия (содействия герою) и переживания (сопереживания герою). На вершине трагедии сопережнвание и сострадание герою переходят в совместное осознание, разрешение жизненной проблемы. "Сострадание и страх" (говоря словами Аристотеля) снимаются, благодаря переходу сознания и переживания зрителя (вслед за осознанием героя) из плана инднвидуальных переживаний иной план - общечеловеческих ценностей и идеалов [14; 6, 34], в свете которых они приобретают положительный смысл и эмоциональную окраску. Субъективно это переживается зрителем как душевный подъем, чувство просветленности, гармонии, готовности к высоким и добрым поступкам. Это превращение отрицательных эмоций в положительные благодаря включению в иную, более высокую систему ценностей, характерно для психологической трансформации, называемой катарсисом.
Искусство способно вести человека не просто к познанию, но к приятию более высокой системы ценностей, не рассудочно, а непосредственно, включая уровень потребностей и чувств человека. Именно в этом его незаменимая воспитательная роль. Момент катарсиса - это состояние внутренней упорядоченности, душевной гармонии, возникающей благодаря доминированию высших, общечеловеческих идеалов в душе человека.
5. Подведем итог сказанному. Катарсис - это осознание. Но не в смысле фрейдовского погружения в низины подсознательного. Это - расширение границ индивидуального сознания до всеобщего. Такое расширение сознания по-новому освещает индивидуальный опыт, прошлое человека, помогая ему увидеть свои отклонения и их пагубные последствия. Это осознание мучительно, смерти подобно. Освобождение от устоявшихся ложных взглядов, желаний, привычек:, отвержение своего прежнего "я" требует решимости и подвига (Мы не отождествляем переживания героя и зрителя, но их отношение не рассматриваем, т. к. в настоящей работе дается лишь принципиальный подход к проблеме катарсиса, не претендующий на детальную разработку психологии катартиче- ской реакции). Но страдание очищения радостно потому, что освещается смыслом обретения новой жизни - поднятия в меру человеческого признания к всеобщности, универсальности.
Таков, в нашем понимании, трагический катарсис, воплощенный в. судьбе Эдипа.
Некоторые следствия
А. Музыка и бессознательное
В психофизиологическом плане найденное био-музыкальное соответствие естественно "вписывается" в теорию неосознаваемых форм психической деятельности [2] и, в частности, в теорию установки [19]. Это соответствие является конкретной иллюстрацией двух уровней переживаний, по Д. Н. Узнадзе: уровня неосознаваемых установок (здесь - фрагмент ЦСБП) и уровня объективации (здесь - музыкальная система). Музыкальная система выступает как постепенно реализовавшаяся в процессе исторического развития музыкальной культуры сложнейшая динамическая установка - ЦСБП.
Специфика этой установки в том, что она имеет многоуровневый характер организации и идет "изнутри" живой системы, отражая - в конечном итоге - ее собственную активность, связанную с сущностью жизни как особой формы целостного динамического состояния материи [5], [8], [11]. На основе этой глобальной первичной "биологической установки", отражающей специфику живого состояния, формируются более специализированные вторичные психологические установки, направляющие активность звуковоспроизводящей и звуковоспринимающей систем. Они и реализуются в звуках, в оценке и отборе музыкальных построений.
История становления музыки, народная музыка дают множество примеров того, как неосознаваемые биологические, а затем психологические феномены (установка, оценка, отбор) проявляются в условиях ясного сознания и влияют на осознаваемое поведение человека.
Все изложенное выше приводит к выводу: если еще нужны доказательства реальности бессознательного как одной из форм работы мозга, то само существование музыкальной системы и музыки как вида искусства является таким доказательством. Современная музыкальная система, в свете выявленного био-музыкального соответствия, есть своего рода объективированное бессознательное.
Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Том II
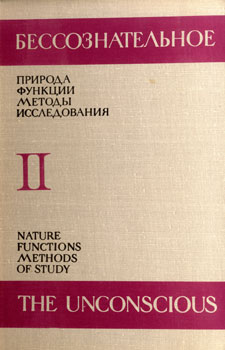
А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина - Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Том II
Настоящая коллективная монография необычна как по своему содержанию, так и по истории своего возникновения. Ее содержанием является разносторонне выполненный анализ еще очень мало изученной проблемы неосознаваемой психической деятельности. Во второй том монографии входят три тематических раздела: четвертый, характеризующий своеобразие активности бессознательного в условиях измененных состояний сознания (сон нормальный, сон гипнотичеcкий); пятый, посвященный проблеме проявлений бессознательного в клинической синдроматике, и шестой, в котором обсуждается роль бессознательного психического в структуре художественного восприятия и творчества.
· О книге
· Том второй. Сон. Клиника. Творчество
· Предисловие ко второму тому
· Раздел четвертый. Бессознательное и измененные состояния сознания: сон нормальный, сон гипнотический
o 70. Проблема активности бессознательного при сне и в гипнозе. Вступительная статья от редакции
o 71. Функциональное значение разных фаз сна. Т. Н. Ониани
o 72. Сон как проблема промежуточная между психофизиологией и психоанализом. А. Бургиньон
o 73. Физиологические корреляты неосознаваемых психических процессов: некоторые клинические и терапевтические применения последних исследований по сну и сновидению. Ч. Фишер
o 74. Сон как сфера бессознательной психической активности. Л. П. Латаш
o 75. Активность сновидений и проблема бессознательного. В. С. Ротенберг
o 76. Психофизиологические корреляты бессознательных процессов во время сна. А. М. Вейн, H. Н. Яхно, В. Л. Голубев
o 77. Эмпирические доказательства вневременности бессознательного. К. Халл, В. Нордби
o 78. Отсчет времени в состоянии сна и гипноза. Д. Г. Элькин, Т. М. Козина
o 79. Скрытое лицо бессознательного: Фрейд и гипноз. Л. Шерток
o 80. Гипноз как измененное и регрессированное состояние сознания. М. Гилл
o 81. Сверхмедленные колебания потенциалов головного мозга как объективный показатель гипнотического состояния. Н. А. Аладжалова, С. Л. Каменецкий, В. Е. Рожнов
o 81. Infraslow Oscillation of Brain Potentials as an Objective Indicator of Hypnotic State. N. A. Aladjalova, S. L. Kamenetski, V. E. Rozhnov
o 82. Анализ гипнабельности при истерии в свете теории бессознательной психологической установки. А. С. Каландаришвили, С. Л. Каменецкий
o 82. Analysis of Hypnotizability in Hysteria from the Point of View of Unconscious Psychological Sets. A. S. Kalandarishvili, S. L. Kamenetsxy
o 83. Подсознательные механизмы и гипноз. M. Моравек
o 84. Переработка и контроль сенсорной информации высшими отделами нервной системы в условиях поведения. В. Крогер
o 85. История, гипноз и психосоматическая медицина. Д. Нэмиа
· Раздел пятый. Проявление бессознательного в условиях клинической патологии
o 86. Роль неосознаваемой психической деятельности в развитии и течении соматических клинических синдромов. Вступительная статья от редакции
o 87. Психологическая модель ожидаемых результатов лечения и ее значение для психотерапии и реабилитации. (К вопросу о внутренней картине болезни) M. М. Кабанов
o 88. О функционировании и динамике неосознаваемой активности центральной нервной системы: краткое изложение. А. Каценштейн
o 89. Новые исследования психосоматического понятия специфичности. Г. Поллок
o 90. Психосоматическое понятие специфичности. Г. Поллок (90. The Psychosomatic Specificity Concept. George H. Pollock)
o 91. Исторический обзор психосоматической медицины. Э. Виттковер, Г. Уорнс (91. Historical Survey of Psychosomatic Medicine. Eric D. Wittkower and Hector Warnes)
o 92. Психодинамика бессознательного в случае психосоматической болезни: предварительные методологические соображения. Г. Аммон (92. Psychodynamics of the Unconscious in the Case of Psychosomatic Illness: Methodological Preconsiderations. Gunter Ammon)
o 93. Альтернативные модели роли неосознаваемого конфликта в патогенезе психосоматической болезни. Г. Вайнер (93. Alternative Models to the Role of Unconscious Conflict in the Pathogenesis of Psychosomatic Illness. Herbert weiner)
o 94. Некоторые механизмы интрапсихической адаптации и психосоматические соотношения. Ф. Б. Березин
o 94. Some Mechanisms of Intrapsychic Adaptation and Psychosomatic Correlationsю F. B. Berezin
o 95. О возможности прогноза психосоматических заболеваний по данным проективной методики. Е. Я. Лунц
o 95. On the Feasibility of Predicting Psychosomatic Disorders by the Data of Projective Techniques. E. Ya. Lunts
o 96. Нейpoпсихологический анализ функционального взаимодействия полушарий головного мозга. Э. Г. Симерницкая
o 96. Neuropsychological Analysis of Interhemispheric Relations. E. G. Simernitskaya
o 97. Об участии левого и правого полушарий в восприятии вербальных и невербальных сигналов. М. В. Сербиненко, Г. А. Голицын, В. Я. Репин
o 97. On the Participation of the Left and Right Hemispheres in the Perception of Verbal and Nonverbal Signals. M. V. Serbinenko, G. A. Golitsyn, V. Ya. Repin
o 98. Вопросы полушарной асимметрии головного мозга и проблема бессознательного в свете анализа функционально-органных клинических синдромов. А. М. Вейн, И. В. Родштат, А. Д. Соловьева
o 98. Concerning Central Interhemispheric Asymmetry in the Problem of the Unconscious as Illustrated by Clinical Models of Functional-Organic Syndromes. A. M. Vein, U. B. Rodshtat, A. D. Solovyeva
o 99. К вопросу о роли неосознаваемой психической деятельности в структуре агностических и афазических расстройств. Э. С. Бейн
o 99. On the Role of Unconscious Mental Activity Within the Structure of Agnosic and Aphaziac Disorders. E. S. Bein
o 100. Об операциональной и содержательной структурах процесса осознания. Е. Ю. Артемьева, М. Ш. Баймишева
o 100. On the Operational and Content Structure of Processes of Consciousness. E. Yu. Artemyeva, M. Sh. Baimisheva
o 101. О материальном субстрате нарушений сознания в свете нейрохирургического опыта. Э. И. Кандель
o 101. Concerning the Material Substratum of the Disorders of Consciousness in the Light of Neurosurgical Experience. E. I. Kandel
o 102. Учение о бессознательном и клиническая психотерапия: постановка вопроса. В. Е. Рожнов, M. Е. Бурно
o 102. The Unconscious and Clinical Psychotherapy: The Problem Posed. V. Ye. Rozhnov. M. Ye. Burno
o 103. Вопросы соотношения осознаваемых и неосознаваемых форм психической деятельности в свете опыта патогенетической психотерапии неврозов. Р. А. Зачепицкий, Б. Д. Карвасарский
o 103. Concerning the Relationship Between Conscious and Unconscious Forms of Mental Activity in the Light of Pathogenetic Psychotherapy of Neuroses. R. A. Zachepitski, B. D. Karvasarsxi
o 104. Роль неосознаваемых мотивов в клинике неврозов. А. М. Свядощ
o 104. The Role of Unconscious Motives in the Clinical Picture of Neuroses. A. M. Svyadoshch
o 105. Психотерапия и психоанализ. Б. Мульдворф (105. Psychotherapie et Psychanalyse. (Pour une approche concrete des problemes de l'Inconscient). Bernard Muldworf)
o 106. Бессознательное и острые неврозы у ребенка. А. Сольнит (106. The Unconscious and Acute Neurosis in a Young Child. Albert J. Solnit)
o 107. Неосознаваемое общение между родителями и детьми. Р. Роджерс
o 107. Unconscious Communication Between Parents and Children. Rita R. Rogers
o 108. Осознаваемые и неосознаваемые факторы в психотерапии. Дж. Mapмор (108. Conscious and Unconscious Factors in Psychotherapy. Judd Marmor)
o 109. О проявлениях бессознательного в психиатрической симптоматике и необходимость учета этого фактора в психотерапии. В. М. Блейхер, Л. И. Завилянская, И. Я. Завилянский
o 109. On the Manifestations of the Unconscious in Psychiatric Symptomatology and the Necessity of Considering This Factor in Psychotherapy. V. M. Bleikher, L. I. Zavilyanskya, I. Ya. Zavilyansky
o 110. Проблема шизофренического бреда в свете взаимоотношения сознательного и бессознательного. В. Иванов (110. The Problem of Schizophrenic Delusion in the Light of the Interrelationship of the Conscious and the Unconscious. V. Ivanov)
o 111. Взаимоотношения сознательного и бессознательного при шизофрении. С. М. Лившиц, Е. И. Теплицкая
o 111. Relations Between the Conscious and Unconscious in Schizophrenia. S. M. Livshits, E. I. Teplitskaya
o 112. Роль осознаваемых и неосознаваемых переживаний в формировании аутистических установок. А. С. Спиваковская
o 112. The Role of Conscious and Unconscious Experiences in the Formation of Autistic Attitudes. A. S. Spivakovskaya
o 113. Отношение к болезни как условие формирования осознаваемых и неосознаваемых мотивов деятельности. И. В. Баканова, Б. В. Зейгарник, В. В. Николаева, О. С. Шефтелевич
o 113. The Attitude то one's Illness as a Condition for the Emergence of Conscious and Unconscious Motives of Activity. В. V. Zeigarnik, S. V. Bakanova, V. V. Nikolaeba, O. S. Sheftelevich
o 114. К проблеме бессознательного в психиатрии. Д. Д. Федотов
o 114. On the Problem of the Unconscious in Psychiatry D. D. Fedotov
o 115. Аппараты афферентного синтеза и акцептора результатов действия как физиологические корреляты бессознательного в сексуальной сфере. Г. С. Васильченко
o 115. The Apparatuses of Afferent Synthesis and "End of Action Outcome" Acceptor as Physiological Correlates of the Unconscious in the Sexual Sphere. G. S. Vasilchenko
o 116. Проблема бессознательного и психология отношений. А. Е. Личко
o 116. The Problem of the Unconscious and the Psychology of Relations. A. E. Lichkо
o 117. Неосознаваемые влияния, оказываемые "телом" на отношения между врачом и больным. М. Сапир (117. Influence Inconsciente du Corps Dans la Relation Medecin-Malade. M. Sapir)
o 118. Развитие идеи трансфера после Фрейда: реальность и неосознаваемые процессы. Р. Лангс (118. Transference Beyond Freud: Reality and Unconscious Processes. Robert J. Langs)
· Раздел шестой. Проявление бессознательного психического в структуре художественного восприятия и творчества (Section Six. Manifestations of the Unconscious Mind in the Structure of Artistic Perception and Creativity)
o 119. Об отношении активности бессознательного к художественному творчеству и художественному восприятию. Вступительная статья от редакции
o 119. On the Relationship Between the Activity of the Unconscious and Artistic Creativity and Artistic Perception. Editorial introduction
o 120. К вопросу о психологической необходимости искусства. Н. Я. Джинджихашвили
o 120. Concerning the Psychological Need for Art. N. I. Jinjikhashvili
o 121. Общая теория фундаментальных отношений личности и некоторые особенности художественного творчества. Т. А. Ломидзе
o 121. The General Theory of the Fundamental Relations of Personality and Some Specificities of Artistic Creativity. T. A. Lomidze
o 122. Художественное чувство как переживание "созревшей установки". А. Г. Васадзе
o 122. Artistic Feeling as the Emotional Experience of "Matured Set". A. G. Vasadze
o 123. Категории сознания, подсознания и сверхсознания в творческой системе К. С. Станиславского. П. В. Симонов
o 123. Categories of Consciousness, Subconsciousness and Superconsciousness in Stanislavsky's System. P. V. Simonov
o 124. Функция персонажа как "фигуры" бессознательного в творчестве Германа Гессе. Р. Г. Каралашвили (124. The Function of Personage as "Figure" of the Unconscious in Hermann Hesse's Works. R. G. Karalashvili)
o 125. Отражение человеческой психики в художественной литературе наших дней. К анализу психологического романа и новеллы 50-х - 60-х годов на Западе. В. В. Ивашева
o 125. The Conscious and the Unconscious in the Novel and Short Story of Today in the West. V. Ivasheva
o 126. Бессознательное и художественная фантазия. Л. И. Слитинская
o 126. The Unconscious and Literary Imagination L. I. Slitinskaya
o 127. Катарсис как осознание (Эдип Софокла и Эдип Фрейда). Т. А. Флоренская
o 127. Catharsis as Consciousness: Scphoclean Oedipus vs. Freudian Oedipus. T. A. Florensxaya
o 128. Музыка и фиксированная установка. Г. Н. Кечхуашвили
o 128. Music and Fixated set. G. N. Kechkhuashvili
o 129. О психологических предпосылках функциональности в музыке. А. П. Милка
o 129. On the Psychological Antecedents of Functionality in Music. A. P. Milka
o 130. О двух функциях бессознательного в творческом процессе композитора. М. Г. Арановский
o 130. On two Functions of the Unconscious in the Composer's Creative Process. M. G. Aranovsky
o 131. Опыт исследования функции стилевой модели в творческом процессе бетховена с точки зрения общей теории сознания и бессознательного психического. А. И. Климовицкий
o 131. An Attempt tо Study the Function of the Stylistic Model of Beethoven's Musical Creativity From the Point of View of the General Theory of Consciousness and the Unconscious Mind. A. I. Klimovitsky
o 132. О специфике проявления национального в музыкальном творчестве Стравинского в свете общей теории сознания и бессознательного психического. Л. И. Долидзе
o 132. On the Specific Manifestation of National Character in Stravinsky's Musical Creation in the Light of the General Theory of Consciousness and the Unconscious Mind. L. I. Dolidze
o 133. Современная музыкальная система как самоотражение организации бессознательного. Г. В. Воронин
o 133. Modern Musical System as a Self-Reflection of the Organization of the Unconscious. G. V. Voronin
o 134. О роли эмоций и неосознаваемых психических процессов в художественном творчестве. Д. И. Ковда
o 134. The Role of Emotions and Unconscious Mental Processes in Artistic Creation. D. I. Kovda
o 135. Сюрреализм и его бессознательное. Г. Делюи (135. Le surrealisme et son inconscient. Henri Deluy135. Le surrealisme et son inconscient. Henri Deluy)
o 136. К проблеме искусства бессознательного Э. Рудинеско (136. Pour un art de l'inconscient. Elisabeth Roudinesco)
o 137. Поиск бессознательного в античной литературе. Проблемы метода. Д. Гуревин (137. La recherche de l'inconscient dans la litterature antique Problemes de methode. Danielle Gourevitch)
o 138. Грузия в подтексте: элементы подсознательного в грузинских переводах французской поэзии. Г. С. Буачидзе
o 138. La Georgie Dans Le Sous-Texte: Elements Du Subconscient Dans Les Traductions Georgiennes De Poesie Franqaise. G. Bouatchidze
o 139. К вопросу сходства патологического художества с современным декадентским искусством. Э. А. Вачнадзе
o 139. Concerning the Similarity of Pathological Paintings to Modern Decadent Art. E. A. Vachnadze
· Алфавитный указатель авторов
· List of contributors
Источник:
- 'Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Том II' - Тбилиси: 'Мецниереба', 1978 - с.688
Предисловие ко второму тому
Во второй том монографии входят три ее тематических раздела: четвертый, характеризующий своеобразие активности бессознательного в условиях измененных состояний сознания (сон нормальный, сон гипнотичеcкий); пятый, посвященный проблеме проявлений бессознательного в клинической синдроматике, и шестой, в котором обсуждается роль бессознательного психического в структуре художественного восприятия и творчества.
Объединение этих очень, казалось бы, по-разному ориентированных направлений мысли в рамках одного и того же тома может показаться на первый взгляд искусственным, лишенным какой-либо оправдывающей подобное объединение общей идеи. Однако это не так. Чтобы эту объединяющую идею точнее определить, следует обратиться к одному из наиболее своеобразных разделов общей теории бессознательного: к концепциям, согласно которым активность бессознательного, неустранимо участвуя в формировании повседневного поведения и повседневной речи, сохраняет вместе с тем функцию порождения и специфических для нее форм выражения, оказывается способной звучать - при наличии определенных условий - также на особом "языке", не идентичном языку собственно сознания, т. е. формализованной, логически организованной, рационально построенной речи.
Хорошо известно, что эта проблема "специфического языка" бессознательного занимает в психоаналитической литературе довольно видное место. Ее корни уходят еще в старые работы З. Фрейда, в которых впервые было указано на существование закономерных связей между активностью бессознательного и специфическими формами осознаваемой речевой продукции (оговорками, очитками, остротами и т. п.). В дальнейшем эта идея была значительно расширена в связи с ее использованием в психосоматической медицине (рассмотрение определенных заболеваний и клинических синдромов как символического "языка тела", в котором находят свое выражение несознаваемые формы психической деятельности, душевные движения, по тем или другим причинам лишенные возможности экспрессии в поведенческих актах и нормальном общении). Наконец, в самые последние годы, главным образом в результате работ Ж. Лакана, были предприняты попытки еще более углубить идею связи бессознательного с речью. Эти попытки предпринимаются под характерным лозунгом "назад к Фрейду". Но в действительности они представляют собою не движение вспять, возвращающее нас к известным исходным утверждениям Фрейда, а скорее резко заостряют эти утверждения и дают им, если не всегда достаточно убедительное, то, во всяком случае, нередко весьма эффективное дальнейшее развитие. Ибо для Лакана выражение бессознательного в речи - это отнюдь не более или менее случайный (как для Фрейда) прорыв "языка бессознательного" сквозь ткань, сквозь преграды и завесы рационально контролируемых вербализаций. Для Лакана отношения между бессознательным и речью гораздо более сложны и интимны, ибо для него "бессознательное структурировано как язык", а "бессознательное Субъекта - это речь Другого".
Мы не будем сейчас задерживаться на этих парадоксально звучащих, нелегко постигаемых утверждениях. Соображения и материалы, позволяющие их в какой-то степени расшифровывать, содержатся во вступительной статье редакции ко второму тематическому разделу монографии и во многих статьях этого раздела, и, возможно, читателю они уже знакомы. Для нас представляют сейчас основной интерес не столько те общие интерпретации, которые дают идее специфического "языка бессознательного" психоанализ и другие сходно ориентированные концепции, сколько сама эта идея, степень ее обоснованности, доводы и факты, позволяющие ей - невзирая на всю силу и резкость критики, которой она неоднократно подвергалась - упорно не сходить со сцены на протяжении десятилетий. Важно также разобраться, если мы с этой идеей в той или другой степени согласимся, в качественном разнообразии форм, которые "язык бессознательного" может в разных условиях принимать. Попытки ответов именно на эти вопросы и стоят в центре внимания многих авторов, труды которых составляют в совокупности настоящий, второй том монографии.
Стремление, например, понять сновидения как психическую продукцию, в которой на основе особых принципов находят свое выражение не только те содержания душевной жизни, которые в состоянии бодрствования ясно осознавались, но и содержания, в этом состоянии вытеснявшиеся, породило литературу поистине безбрежную. Тонкие подчас наблюдения оказываются смешанными в ней с домыслами, фантастикой, мифами, и отфильтровывание в этом разнородном материале того, что может рассматриваться как элемент строгого научного знания, дело нелегкое. И тем не менее уйти от проблемы отражения в сновидениях - отражения на их "специфическом языке" - активности бессознательного было бы недопустимым. Те, кто к подобной позиции ухода от трудной проблемы призывают, должны ясно понимать, что они предлагают всего лишь движение по линии наименьшего сопротивления. При этом надо учесть, что именно здесь, в проблеме связи сновидения с бессознательным, накоплено уже немало данных о формах и даже закономерностях и функциональной роли, которыми динамика подобных связей объективно характеризуется.
Сходным, принципиально, образом обстоит дело и с выражением бессознательного в клинических картинах. Широко известная концепция "языка тела", постулирующая тенденцию бессознательного к символическому выражению в патологических синдромах, обоснованно подвергается серьезной критике во многих статьях пятого раздела, однако сам факт глубокого влияния душевной жизни во всей ее структурной сложности, т. е. ее как осознаваемых, так и неосознаваемых компонентов, на течение болезней неоспорим. Задача здесь заключается в том, чтобы уточнить так долго ускользающие от нас объективные законы этих влияний. Решая же эту задачу, мы тем самым лучше поймем не только психофизиологические механизмы, на основе которых реализуется связь бессознательного с "телом", но и формы, в которых бессознательное дает о себе знать как о клиническом факторе, т. е. определим, на каком же специфическом для него "языке" оно в условиях клиники иногда громко и открыто, иногда тихо и завуалированно говорит.
Наконец, - художественное творчество. Во вступительной статье к шестому разделу мы пытаемся подробно обосновать, почему отнюдь не является преувеличением даже такая решительная формулировка, как "бессознательное пронизывает все творчество, присутствует на всех этапах художественного восприятия". Вместе с тем явилось бы грубой ошибкой, упрощающим толкованием "сведение" художественного творчества только к активности бессознательного (довольно часто провозглашаемый тезис буржуазной эстетики), т. е. стремление исчерпать создание художественных образов лишь теми элементами психики, лишь теми мотивами и ценностями, которые, определяя душевную жизнь художника, остаются им неосознанными. Легко, однако, понять, что такое синтезирующее и одновременно разграничивающее понимание ролей, выполняемых в актах художественного творчества сознанием и бессознательным, вновь возвращает нас к проблеме специфических особенностей выражения бессознательного в искусстве, т. е. по существу к "языку", на котором оно в искусстве говорит.
Эти соображения объясняют, как нам кажется, логическую связь, существующую между такими, казалось бы, далекими друг от друга проблемами, как сновидения, клинический синдром и генез художественного образа. Если мы попытаемся подойти к этим проблемам с позиций теории бессознательного, то оттенок парадоксальности их взаимосвязи утрачивается и, напротив, возникает представление об их смысловой увязанности и даже более того - об их взаимной дополнительности. Такое понимание и было положено в основу отбора материалов, составляющих второй том монографии. Как читатель увидит, во всех тематических разделах этого тома усилия авторов большинства статей направлены на возможно более точное определение тех особенностей "языка бессознательного", на котором последнее говорит в условиях сновидного снижения уровня бодрствования, болезни и попыток художника материализовать творимые им образы.
В четвертом тематическом разделе особое внимание обращается при этом на функциональную роль сновидений и на связанную с ними активность "невербального мышления". Как важный элемент этой роли рассматривается тенденция к нейтрализации ("примирению") мотивационных конфликтов. Во многих статьях пятого раздела критически обсуждается проблема "психологической специфичности" клинических синдромов и их отношения к функции символического выражения вытесненного. В материалах шестого раздела анализируются процессы, способствующие формированию "правды искусства", понимаемой как черта творчества, особенно зависящая от неосознаваемых факторов последнего.
Легко заметить, что все это - проблемы одного и того же по существу общего плана - форм выражения бессознательного, его своеобразной феноменологии, и поэтому неудивительно, что в процессе их анализа можно во многих случаях подметить сходство и направлений и целей. Означает ли это, однако, что проблема "языков" бессознательного исчерпывается этим ее феноменологическим аспектом? Думать так, значило бы совершить серьезную ошибку.
Когда психоанализ говорит о специфическом языке бессознательного, то - безотносительно к тому, идет ли речь о "языке сновидений", "языке тела" или "языке искусства". - в основу теории всех этих проявлений кладется "постулат символики", согласно которому одной из характернейших особенностей бессознательного является порождение им символических фигур, образов, за которыми скрыты неосознаваемые переживания. Этот процесс формирования символов объявляется функцией, присущей бессознательному исходно, первично.
При таком понимании символический характер проявлений бессознательного, естественно, объясняется способностью создавать символические образы, совсем как у Мольера: "мак усыпляет, потому что он обладает усыпляющей силой". Что касается нас, то во вступительных статьях к тематическим разделам настоящего тома мы пытаемая показать, что символический характер продукции (бессознательного достаточно хорошо объясняется своеобразием психологических условий, в которых эта продукция создается. Так, символику сновидений мы рассматриваем как форму связи между психологическими содержаниями, являющуюся единственно возможной в рамках чувственно-конкретного (бессловесного) мышления, поскольку последнее не использует связи логические. По существу, это - псевдосимволика, т. е. символика, возникающая лишь потому, что любой образ, сформировавшийся в условиях аналогичного мышления, является "символом". Сходным образом объясняется и "символика тела" (достаточно в этой связи вспомнить об идее "раковых отношений", изложенной И. П. Павловым в его споре с П. Жанэ о природе истерии).
Без занятия, поэтому, правильной позиции в отношении "постулата символики" адекватное понимание "языков" бессознательного заранее исключается.
Дата: 2019-07-24, просмотров: 687.