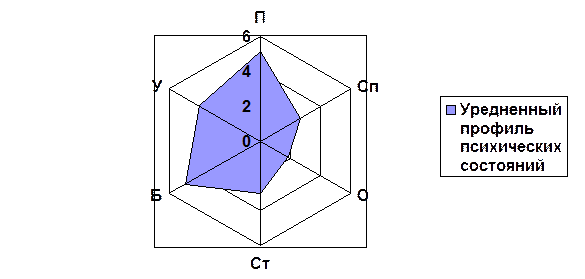От продолжительности сна
| Продолжительность сна в часах в сутки | Состояние боеспособности личного состава |
| 0 часов | Сохраняется боеспособность к выполнению боевых задач в течение трех дней. На четвертый день весь личный состав выходит из строя. |
| 1,5 часа | 50% боеспособности военнослужащих сохраняется в течение 6 дней. К 7 дню из строя выходит 50% личного состава |
| 3 часа | 91% боеспособности воинов сохраняется свыше 9 дней |
К. ДиДжовани мл. в связи с этим отмечает, что способность мозга усваивать и обрабатывать информацию напрямую зависит от того, насколько он хорошо отдыхает. Усталость не только отрицательно влияет на принятие решений, но и усиливает подверженность человека страху. Стимуляторы (например, кофе) способны помочь человеку поддержать свою деятельность, но только короткий своевременный сон может качественно улучшить его состояние и поднять активность. Даже 30-минутный сон через каждые 24 часа значительно улучшает работоспособность военнослужащего в течение несколько часов. Восстановительным короткий сон можно считать только тогда, когда он является качественным. Качественным же считается сон, который длится не менее 20-30 мин.
Другой американский военный специалист Б. Повер, подчеркивая, что умеренный сон помогает лучше преодолевать боевой стресс, указывает на его минимальную ежесуточную продолжительность: 4 часа для солдат и 6 часов для командиров. Отмечается, что у командира, принимающего решения, недостаток во сне скорее провоцирует развитие боевой усталости.
Проблема сна особенно важна и потому, что по данным, полученным в ходе нашего исследования, в локальных военных конфликтах в Афганистане и Чечне противник являлся инициатором боевых действий в 45% случаев. При этом 66% боевых столкновений происходило в ночное время. В результате этого режим сна, как таковой, отсутствует. И контроль за качеством сна воинов является важным средством сохранения боеспособности личного состава и, следовательно, задачей психологического обеспечения боевых действий.
Другой важной составляющей эргономических условий боевой деятельности войск в локальном военном конфликте является ее интенсивность. Наиболее глубоко и масштабно это явление исследуют израильские специалисты. По их мнению, основными показателями интенсивности боевых действий войск являются: специфика боя (использование противником артиллерии, атак с воздуха, засад, минных полей) и степень сопротивления противника (сильное, адекватное, слабое). Интенсивность боевых действий является важнейшим показателем их стрессогенности – способности вызывать у частников боевой травматический стресс. В исследованиях Г.Л. Беленкина, Ш. Ноя, З. Соломона показано, что, в зависимости от выраженности этого показателя уровень психотравматизации (психологических потерь) может колебаться от 0 до 86 пунктов и составлять по отношению к физическим потерям значения от 0:100 до 86:100.
Учитывая, что в большинстве локальных военных конфликтах (по крайней мере, с участием российских войск) противник широко не применял авиацию, реактивные системы залпового огня, мощные артиллерийские системы и др., уровень интенсивности боевых действий в них следует оценить как низкий. Это во многом объясняет причины относительно невысокого уровня психотравматизации наших военнослужащих в боевой обстановке. Данный факт создает иллюзию, что психологическая помощь участникам низко интенсивных боевых действий практически не требуется.
Однако боевой опыт указывает на наличие весьма важной тенденции: отсутствие действенной психологической помощи воинам в боевой обстановке, как правило, сопровождаются большим объемом посттравматических стрессовых расстройств. Так, по оценкам американских специалистов, число ветеранов вьетнамской войны с отсроченным травматическим стрессом составило от 500000 до 1500000 человек. По данным российских психологов порядка 25% участников военных событий в Чечне имеет симптоматику аналогичных расстройств и нуждается в психологической реабилитации. Отсюда следует сделать вывод: низкий уровень психологических потерь войск в локальном военном конфликте не должен вести к снижению интенсивности и масштабов психологической помощи и реабилитации военнослужащих.
Исследование локальных военных конфликтов показывает, что важным эргономическим фактором, влияющим на психическую деятельность человека в боевой обстановке является соответствие боевой техники и оружия задачам боевой деятельности. Это положение можно конкретизировать следующими требованиями. Во-первых, боевая техника и оружие должны в полной мере отвечать требованиям боя по своим огневым, маневренным, скоростным и защитным качествам. Во-вторых, их применение оправдано лишь тогда, когда они расширяют естественные человеческие возможности (зрительные, слуховые, силовые, коростные и др.)[42]. В-третьих, боевая техника должна удовлетворять хотя бы минимальным требованиям комфорта и гигиены[43].
Иллюстрируя перечисленные требования, отметим, что, к примеру, танк на ночных городских улицах, пожалуй, самое опасное место в бою. В нем, как впрочем, и в БМП, существенно снижается радиус обзора поля боя. Если члены экипажа вне машины могут вести постоянное круговое наблюдение за боевыми событиями, наблюдать маневры своих сослуживцев, вести огонь из стрелкового оружия одновременно по многим ярусам, то в танке (БМП) военнослужащие многого из этого лишаются. При малейшем нарушении связи у экипажа может возникнуть ощущение своей изолированности от основных сил, что влечет за собой усиление беспокойства, тревоги, страха. Если в неисправном состоянии окажутся приборы ночного видения, то экипаж, по существу лишается связи с внешним миром. Таким образом, танк в городских условиях не эргономичен. Действия в нем снижают потенциальную эффективность экипажа.
Есть здесь еще более значимый психологический момент. Танки в городских условиях и в горах становятся весьма уязвимыми и поражаются в первую очередь. Беседы с участниками боевых действий в Афганистане и Чечне показали, что восприятие военнослужащими большого числа подбитой бронетехники на путях движения войск порождает чувства разочарования, неуверенности, беспокойства, а порой, ведет к переоценке возможностей противника.
К числу эргономических аспектов боевых действий следует отнести и степень изолированности действующих на поле боя соединений и частей от основных сил. Опыт показывает, что боевые возможности изолированного от своих войск подразделения снижается на половину в течение 48 часов из-за усиливающегося страха. Учитывая специфику тактики действий боевых групп противника, у военнослужащих частей “сильной” стороны психологическое ощущение изолированности может возникать довольно часто.
Природно-географические факторы также вносят существенные коррективы в соотношение психологически возможностей сторон. Так, например, горные условия Афганистана и Чечни были более привычными в психологическом (в плане умения ориентироваться, обнаруживать противника, определять расстояния до целей, рассчитывать силы и время) и в физиологическом отношении (адаптированность организма) повстанцам, чем нашим войскам. Условия джунглей являлись с психофизиологической точки зрения более приемлемыми для личного состава вьетнамских войск, чем для американских.
Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что эргономические обстоятельства боевой деятельности войск в локальных военных конфликтах накладывают заметный отпечаток на ее психологические компоненты. В первую очередь, влиянию эргономических факторов подвергаются психические состояния, интеллектуальные процессы, уровень боеспособности и активности. Заметным изменениям под их воздействием может подвергаться мотивационная сфера участников боевых событий. В силу этого формирование и поддержание приемлемых для воинов психо-эргономических условий боевых действий составляет важную задачу их психологического обеспечения. Они также обязательно должны присутствовать в виде соответствующих коэффициентов при расчете соотношения психологических возможностей противоборствующих сторон.
Особенности мотивации и психических состояний участников
локальных военных конфликтов
Социально-психологические, психо-эргономические и тактико-психологические особенности военного конфликта обусловливают специфику мотивации боевых действий военнослужащих, своеобразие их психических состояний и психологических последствий участия в боевой деятельности.
История учит, что в вооруженных событиях типа «война» решающее значение для обеспечения активных боевых действий военнослужащих играют широкие социальные мотивы. Н.Н. Головин еще в начале этого века подчеркивал, что все победоносные войны имели в своей основе идеи, которые близки сердцу бойца, а «основа победного стремления бойца лежит в мотивах социального характера». Поэтому среди побуждений, которые следует развивать у воинов, он, в первую очередь, называл патриотизм, составляющий «фундамент победного стремления бойца».
На определяющую роль широких социальных мотивов в системе мотивации участников войн указывают М.И. Дьяченко, М.П. Коробейников, А.И. Столяренко и др. Так, М.И. Дьяченко, отмечает, что «активность боевой деятельности обеспечивается, прежде всего, широкими общественными и положительными ситуативными мотивами. Особое место занимают мотивы, обусловленные взаимоотношениями воинов и содержанием боевой задачи». Таким образом, он выстраивает своеобразную иерархию побуждений, в которой на первом месте стоят широкие социальные мотивы, на втором – положительные ситуативные, на третьем – мотивы коллективизма. И такая позиция подкрепляется материалами масштабных исследований боевых действий войск в годы Великой Отечественной войны.
Данные, полученные нами в процессе настоящего исследования, свидетельствуют о некотором своеобразии в мотивации активных боевых действий военнослужащих в рамках локальных военных конфликтов. Учитывая явление полимотивированности деятельности, то есть одновременного действия нескольких побудителей, мы выделили усредненный профиль мотивации участника боевых действий. Он представляет собой срез мотивационной структуры “среднего” участника локального военного конфликта, выраженный в условных баллах. Такой усредненный профиль, полученный на базе опроса 180 ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне, дан на рис. 13.
| |
 |
Рис. 13. Усредненный профиль мотивации участника боевых действий
в Афганистане и Чечне
Примечание: на рис. 13. буквами обозначены мотивы: П – патриотизм, С –стремление к справедливости, Д – воинский долг, Н – ненависть к противнику, К – коллективизм, боевой товарищество, УК – уважение и доверие к командиру, М – чувство мести, БА – боевой азарт, И – стремление испытать свою волю, характер. Цифрами на осях обозначены условные баллы.
В названных военных конфликтах имела место иная иерархия мотивов боевой активности военнослужащих. Если, например, в годы Великой отечественной войны основными побудителями самоотверженных боевых действий военнослужащих были любовь к Родине, ненависть к врагу, вера в справедливость войны и другие широкие социальные мотивы, здесь более существенное значение приобрели чувства боевого товарищества, воинского долга, уважения и доверия к своему командиру. То есть можно констатировать, что ведущие мотивы боевой деятельности военнослужащих здесь как бы замыкаются в рамках самой военной системы, группировки войск, воинской части и подразделения.
О наличии такого явления пишет С.Л.А. Маршалл, изучавший психологию боевого поведения военнослужащих США в Корее (1953 г.) и израильских солдат на Синайском полуострове (1956 г.). Он отмечает, что “высокое моральное состояние в бою не может быть целиком объяснено тем, что в минуту опасности каждый солдат и офицер отождествляют свои цели и цели всей нации. …Если у него нет органического чувства солидарности с бойцами, находящимися в непосредственной близости от него, и если он не захвачен их импульсом, то никакие мысли об идеалах своей страны и раздумья о любви к жене и детям не смогут удержать его от того, чтобы не ринуться в ближайшее укрытие. Когда огненный шквал обрушивается на войска, ничто не удержит человека от бегства во имя спасения своей жизни, кроме личной чести и достоинства, кроме чувства ответственности по отношению к своим ближайшими товарищам, кроме боязни прослыть трусом, боязни навсегда потерять доверие и уважение друзей”.
Видимо к этому добавляется и эффект социального расслоения общества по отношению к военным событиям, отсутствие яркой, привлекательной, эмоционально окрашенной, общегосударственной идеи, объясняющей цели и задачи привлечения войск для решения политических и иных проблем.
Такой мотив боевой деятельности, как ненависть к противнику уходит на третий план потому, что военные конфликты нередко ведутся между вчерашними соотечественниками (чеченцы), союзниками (афганцы), или народами, между которыми отсутствуют непримиримые жизненно важные противоречия (американцы – вьетнамцы, русские – южнокорейцы и др.). В военных конфликтах отмечается рост значимости такого мотива боевой активности военнослужащих как чувство личной мести за погибших товарищей, личных счетов с противником. Это объясняется тем, что, во-первых, отношения мести – это спутник всякой войны. А, во-вторых, тем, что командиры всех степеней, стремясь побудить подчиненных к самоотверженным действиям в бою, ищут действительно реальные, «осязаемые», «работающие» мотивы и прививают их военнослужащим.
Мотивы патриотизма, стремления к справедливости также присутствуют в структуре мотивации военнослужащих, но, чаще всего, лишь как фоновые.
Такая структура побуждений военнослужащих позволяет им действовать в бою с довольно высокой активностью. Статистика свидетельствует, что только за первые недели боевых действий в Чечне около тысячи воинов были удостоены орденов Мужества и «За военные заслуги», медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Около 3,5 тысяч человек отмечены медалью «За отличие в воинской службе» 1 и 2 степени. За это же время повышены в звании 504 человека, из них 218 получили звание досрочно, 286 – на одну ступень выше предусмотренного по занимаемой штатной должности.
Тем не менее, мотивы, определяющие поведение воинов на поле боя локального военного конфликта весьма противоречивы. Наши данные совпадают с результатами исследований С.В. Захарика. Он отмечает, что процент офицеров, считающих свое участие в боевых действиях в Афганистане и цели войны несправедливыми, неуклонно рос (с 3% в 1979-80 гг. до 38, 7% в 1987-1989 гг.). Среди солдат это число постоянно составляло в среднем 5,6%.
В целом близкие к нашим результаты получены сотрудниками отдела военно-социологических и правовых исследований Главного управления воспитательной работы МО РФ. Они свидетельствуют о том, что лишь около 40% опрошенных военнослужащих оценивают свое участие в разоружении незаконных вооруженных формирований в Чечне как выполнение патриотического долга перед Родиной и лично убеждены в необходимости решения этих задач. Остальные (до 50%), относятся к своей службе как к установленной законом обязанности, которую они должны выполнять.
Учитывая высокую побудительную силу таких широких социальных мотивов, как патриотизм, ненависть к врагу и других, необходимо подчеркнуть, что их слабая представленность в структуре мотивации участников локальных военных конфликтов сужает возможности побуждения их боевой активности. Из сказанного вытекают следующие выводы. Во-первых, мотивация военнослужащих в локальных военных конфликтах отличается переплетением мотивов разных уровней, доминирующими из которых являются побуждения, связанные с взаимоотношениями между ними и чувством воинского долга. Во-вторых, формирование общественно значимых, эмоционально окрашенных и привлекательных идей, способных играть роль широких социальных мотивов, составляет важнейшую задачу психологического обеспечения боевых действий войск в локальных военных конфликтах.
Сочетание специфики психологических условий локальных военных конфликтов со своеобразием мотивации боевых действий военнослужащих, порождает сложную гамму их психических состояний и переживаний в боевой обстановке. Отечественными психологами М.И. Дьяченко, М.П. Коробейниковым, А.В. Ответчиковым, А.И. Столяренко, Г.Е Шумковым и зарубежными специалистами Р.А. Габриелем, С.Л.А. Маршаллом, У.С. Хантером, П.Х Мокором, Я. Агрелем и др. детально проанализированы и подробно описаны психические состояния военнослужащих, возникающих в ходе боевых действий в войне.
В рамках настоящей работы ставилась задача выявить лишь специфические моменты, характерные для переживаний воинов в процессе выполнения ими боевых задач в рамках локального военного конфликта. Результаты этого исследования, выраженные в форме усредненного профиля психических состояний “типичного участника локального военного конфликта”, выраженного в условных баллах, представлены на рис. 14.
|
с
Рис. 14. Усредненный профиль переживаний участника ЛВК
Примечание: на рис. 14. буквами обозначены: П – душевный подъем, порыв, СП – состояние спокойствия, О – отчаяние, безнадежность, Ст – страх, Б – ощущение бессмысленности происходящего, У – состояние усталости. Цифрами на осях обозначены условные баллы.
Данный профиль построен на материале опроса участников боевых действий в Афганистане и Чечне (n = 180). Он отражает крайне сложный и противоречивый характер психических состояний участников этих военных событий. Первые места в профиле, отраженном на рис. 14., занимают, казалось бы, взаимоисключающие переживания воинов – психологический подъем, ощущение бессмысленности происходящего и состояние усталости. Видимо, здесь схвачена своеобразная траектория их развития: сначала высокий душевный порыв, затем разочарование и, как следствие этого, наступление усталости.
Одновременно в переживаниях воинов присутствуют страх (порядка 36%) и спокойствие (около 32%). 18-ю процентами в общей картине психических состояний личного состава представлены чувства отчаяния и безнадежности.
Эти результаты подтверждаются материалами отдела военно-социологических и правовых исследований Главного управления воспитательной работы МО РФ. В них, частности отмечается, что до 40% опрошенных участников боевых событий в Чечне выражали сомнения в полезности действий своего подразделения и федеральных войск в целом, были раздражены отсутствием конкретных задач, 23% указали на наличие у них моральной и психологической усталости. Выделяются и основные причины этого. Так, 60% опрошенных считали недостаточным внимание руководства страны к военнослужащим, выполняющим задачи в Чечне, 48% были обеспокоены негативным отношением общественности к армии в связи с конфликтом, более 30% воинов отмечали неудовлетворенность тем, что по политическим и иным соображениям искусственно ограничиваются возможности применения силовых методов против боевиков. Отрицательное влияние на психологический настрой военнослужащих оказывали неопределенность в сроках пребывания в Чеченской республике (на это указывали 60% опрошенных), неудовлетворительное материально-техническое снабжение войск (20%). Только 10% респондентов считали, что поступающая к ним информация о развитии боевых событий полна и объективна.
В локальных военных конфликтах мощным фактором психотравматизации личного состава, наряду с опасностью, неизвестностью, внезапностью и др., выступают факты участия в боевых действиях на стороне противника гражданских лиц, женщин и детей, необходимость участвовать в жестоком насилии по отношению к ним, большие масштабы гибели мирного населения. Тактика действий “слабой” стороны в военном конфликте одной из задач имеет максимальное увеличение числа своих сторонников среди населения региона. Способами достижения этой цели являются провоцирование боевых действий в населенных пунктах, использование гражданских лиц в качестве “живого щита”, проведение диверсионных актов против войск с привлечением населения и др. Все это приводит к тому, что в военных конфликтах число погибших мирных жителей существенно превышает число погибших военнослужащих. Так, если в первой мировой войне процент мирных жителей от общего числа погибших составлял 5%, во второй мировой войне – 50%, то уже в Корее – 84%, во Вьетнаме 90%, в Чечне – 95%.
Другими словами, на одного убитого в Чечне военнослужащего и боевика приходится 15-17 убитых гражданских взрослых и 1-2 ребенка. Это значит, что каждый военнослужащий многократно наблюдал большое число невинных жертв войны, переживал увиденное, осмысливал свою роль в жестоком насилии.
Западный аналитик К. Ди-Джовани подчеркивает, что если мы не имеем дело с социопатом, то убийство – противоестественное деяние, которое легче совершить, чем забыть. Пехотинец, убивающий на близком расстоянии, подвержен различным психологическим срывам.
Сочетание высокой реальной опасности для жизни, специфического эмоционально-смыслового контекста переживаний, глубокой личностной включенности в боевую деятельность, с одной стороны, и низкой оценки значимости этой деятельности общественным мнением страны, руководством государства, с другой стороны, способствовало ускорению процессов развития боевого стресса у участников локальных военных конфликтов в Афганистане и Чечне.
Под боевым стрессом принято понимать многоуровневый процесс адаптационной активности человеческого организма в условиях боевой обстановки, сопровождаемый напряжением механизмов реактивной саморегуляции и закреплением специфических приспособительных психофизиологических изменений. Длительное пребывание военнослужащих в состоянии боевого стресса или достижение им критических значений существенно снижает их боеспособность, служит основой для развития у них психических расстройств.
Изучение феномена психотравматизации военнослужащих в локальных военных конфликтах свидетельствует о том, что основу боевой психической патологии составляют расстройства непсихотического уровня. Главным образом это – невротические и патохарактерологические реакции (52,2%), аддиктивное поведение (27,6%) и реактивные состояния у раненых и контуженных (5,4%). Значительно реже наблюдаются наркомании (10%), острые реактивные и раневые психозы (4,8%). Вместе с тем, здесь имеется тенденция к распространению патологических психических расстройств (посттравматические стрессовые расстройства, психосоматозы и др.) среди ветеранов боевых действий после их возвращения в обстановку мирной жизни. Исследователем установлено, что ведущим фактором развития у воинов боевой психической травмы является длительный повреждающий стресс. Остальные факторы (конституциональные особенности, экзогенные вредности, психосоциальные условия) влияют на распространенность, динамику, тяжесть и исходы психических расстройств.
В работах Р.А. Габриэля, С.В. Захарика, Е.В. Снедкова указывается на широкое распространения среди участников локальных военных конфликтов таких стресс-провоцированных психических расстройств, как аддиктивное поведение (злоупотребление психоактивными веществами) и наркомании. Причем в 57% случаев это – пристрастие к гашишу, в 21,3% случаев – к опию, в 21,7% случаев имеет место гашишно-опийная привязанность. Изучение показывает, что употребление психоактивных веществ выполняет важные адаптационные функции. 51,9% из числа злоупотребляющих дурманящими средствами делают это для снятия напряжения, разрядки боевого стресса, ¾ из них впервые стали принимать наркосодержащие вещества непосредственно в зоне боевых действий.
Специфика переживаний участников локального военного конфликта определяет некоторые их стресс-обусловленные поведенческие реакции. В зависимости от патохарактерологических особенностей военнослужащих чаще всего проявляются: мелкое членовредительство, суицидальное (демонстративно-шантажное, аффективное и истинное) поведение, уходы из расположения частей. По данным С.В. Захарика общий процент прямого и косвенного уклонений от службы в Афганистане доходил до 23%. Даже при тщательном отборе и подготовке к службе в разведподразделениях ВДВ число косвенно уклоняющихся доходило до 9,1%. При этом законченный суицид составлял 0,75%.
Боевая практика войск показывает, что не менее травмирующим фактором, воздействующим на психику участников военного конфликта, чем опасность смерти или участие в кровавых событиях, является их неподготовленное возвращение в условия мирной жизни, включение в систему мирных связей и отношений.
Е.В. Снедков, объясняя этот феномен, подчеркивает, что у участников боевых действий «закрепляется памятный след новых поведенческих навыков и стереотипов, имеющих первостепенное значение для выживания и выполнения поставленных задач». Среди них: восприятие окружающей среды как враждебной; гиперактивация внимания, тревожная настороженность; готовность к импульсивному защитному отреагированию на угрожающий стимул в виде укрытия, бегства, агрессии и физического уничтожения источника угрозы; сужение эмоционального диапазона, стремление к “уходу” от реальности и оценки ряда нравственных проблем; эффективное межличностное взаимодействие в микрогруппе, включающее способность к коллективной индукции; способность к моментальной полной мобилизации сил с последующей быстрой релаксацией; соответствующее экстремальному режиму психического функционирования нейровегетативное обеспечение. Адаптация к боевым условиям закономерно закрепляет в характере воинов повышенную ранимость, недоверчивость, отгороженность, разочарование и страх перед будущим, нарушение социальной коммуникации, склонность к агрессивному, саморазрушающему поведению и злоупотреблению наркосодержащими веществами. Кроме этого у участников боевых действий, как правило, отмечается усиление тревожности, подавленности, чувства вины, повышенной чувствительности к несправедливости, «застревание» на негативных переживаниях и др.
Психика людей, перестроенная под потребности боя, оказывается неприспособленной к мирной обстановке, к стандартным ценностям общества, к оценке мирными гражданами пережитых ветераном военных событий и др. В этой связи появляются возможности как дополнительной психотравматизации ветеранов, так и порождения у них неприятия существующих социальных ценностей, развития асоциальных форм поведения и др.
| |

Об этом говорят данные, полученные на материале опроса 180 участников боевых действий, отраженные в виде усредненного профиля переживаний ветеранов боевых действий на рис. 15.
Рис. 15. Усредненный профиль переживаний военнослужащих по окончанию ЛВК
Примечание: на рис. 15. буквами обозначены переживания: ЧВД – чувство честно выполненного долга, У – удовлетворение, Г – гордость за участие в событиях, Н – непонимания происходящих событий, ЖУ – желание вновь участвовать в подобных событиях, Бл – чувство благодарности руководителям, ЧН – чувство неуверенности в своих силах, НП – ненависть к противнику, Пр – ощущения того, что меня “подставили”, предали, НВ – навязчивые воспоминания, НК – ночные кошмары, А – агрессивность, ОН – ощущение своей ненужности. Цифрами на осях обозначены условные баллы.
Из рисунка видно, что в эмоциональной сфере военнослужащих, вернувшихся из района локального военного конфликта, преобладают крайне противоречивые переживания. Ощущения того, что их просто “подставили”, “использовали” для достижения политических, экономических, криминальных и иных целей было характерно для американцев-ветеранов Вьетнама, для участников боевых действий в Афганистане после 1985 года, для ветеранов чеченского военного конфликта. Это имело место потому, что во всех перечисленных случаях, военнослужащие, возвращающиеся с полей сражений были оставлены самим себе, а вскоре, попросту забыты. Один из великих принципов морально здорового общества, гласящий: “Как бы не закончилась война – победой или поражением – солдата достойно должны встретить свой народ, свои руководители, своя семья”, не был учтен. Тысячи военнослужащих, первоначально нуждавшихся в обычном одобрении, понимании, поддержке окружающих, и не дождавшиеся этого, пополняют ряды психотравматиков.
Наличие в профиле переживаний ветеранов желания вновь участвовать в военных событиях, ненависти к противнику, навязчивых военных воспоминаний, ночных кошмаров и агрессивности прямо указывает на симптоматику посттравматического стрессового расстройства. А сосуществование таких противоречивых тенденций как чувство честно выполненного долга и ощущения себя преданным, непонимание того, ради чего они жертвовали жизнью, является основой для разрушительных внутриличностных конфликтов и их вторичной психотравматизации.
Наблюдение за поведением ветеранов локальных военных конфликтов и беседы с ними показывают, что сформировавшийся у них в боевой обстановке комплекс личностных изменений порой трансформируется в своеобразный синдром «военизированной психики», для которого характерны специфические феномены в потребностной сфере, в области ценностных ориентаций и социального взаимодействия военнослужащих.
Так, вследствие имеющего место упрощения когнитивной сферы участников экстремальной деятельности, у них отмечается усиление жесткости, бескомпромиссности и ригидности нравственных ориентиров. Нередко проявляется стремление переделать гражданскую жизнь по негласным законам человеческих отношений военного времени. При возвращении в мирную обстановку у ветеранов боевых действий актуализируется целый ряд потребностей. Эти потребности носят универсальный характер, однако в данном случае, они имеют чрезвычайную степень выраженности.
Во-первых, у большинства участников боевых действий отмечается ярко выраженное желание быть понятым. Они хотят иметь в контакте с окружающими такую обратную связь, которая бы явно подтверждала, что они сражались за правое дело, что их участие в жестоком насилии нравственно оправдано и социально полезно. По существу речь идет о действии такого механизма психологической защиты человека как рационализация. Она позволяет военнослужащим преодолеть комплекс вины, оправдаться перед самим собой, своей совестью, сделать воспоминания об агрессивных и жестких поступках менее травмирующими.
Во-вторых, в психологической картине переживаний участников боевых действий отмечается потребность быть социально признанным. Естественное желание человека быть личностью, получить высокую оценку своих личных усилий, действий, у людей, возвращающихся в мирную жизнь, приобретает особое значение. При этом справедливо считается, что достойными общественного признания являются не только героические поступки, но и внутренние победы человека над собой, уже само то, что военнослужащий не струсил, не дезертировал, не симулировал и т.д. Наблюдается желание, чтобы факт положительной оценки стал известен широкому кругу людей, сослуживцам, членам семьи.
В-третьих, важной тенденцией, характеризующей психическое состояние участников боевых событий является стремление быть принятым в систему социальных связей и отношений мирной жизни с более высоким, чем прежде социальным статусом. Это объяснятся тем, что дело, которое они делали «там», социально более значимо, чем то, которым занимались военнослужащие, оставшиеся в местах постоянной дислокации частей. На основании этого участники боевых действий ожидают особого отношения к себе со стороны окружающих. В противном случае возникают различного рода синдромы по типу «чеченского», когда со стороны участников боевых действий, проявляется агрессивное отношение к сослуживцам, не получившим боевого опыта.
В-четвертых, нередко у людей, возвращающихся из зоны боевых действий локального венного конфликта, наблюдается своеобразное «ошеломление» при столкновениях с реальностями мирной жизни. Им трудно свыкнуться с мыслью о том, что в то время, когда они рисковали жизнью, в стране, в армии ничего не изменилось, общество вообще не заметило их отсутствия. Более того, оказывается, не все люди разделяют их взгляды на цели, характер и способы ведения войны. Это может вызвать состояние психического шока, привести к серьезным психическим расстройствам у ветеранов войны, сформировать у ветеранов боевых событий ощущение враждебности социального окружения.
В-пятых, существенной психологической характеристикой участников локальных военных конфликтов является снижение порогов чувствительности к социальным воздействиям. Они, с психологической точки зрения, становятся как бы особенно обнаженными, ранимыми.
В том случае, когда перечисленные тенденции и особенности психической жизни ветеранов войны не учитываются в работе с ними, создаются предпосылки для возникновения сложных психологических и социальных последствий. Вместе с отчаянием, фрустрацией, апатией у военнослужащих могут развиваться личностные трансформации, складываться искажения, патологическая картина мира, формироваться агрессивное, конфликтное поведение. Неподготовленное, стихийное столкновение участников локальных военных конфликтов с реалиями мирной жизни может стать фактором их психотравматизации.
Лечение психически больных, пострадавших в конфликтах - тяжелая, затяжная и трудоемкая задача. Из-за необходимости лечения и ввиду потери трудоспособности такие больные дорого обходятся государству и членам семей пострадавших. Сокращение количества страдающих психическими расстройствами возможно в том случае, если внимательно учитывать те факторы, которые влияют на человеческое поведение в процессе военного конфликта.
Таким образом, боевые действия войск в локальных венных конфликтах отличатся выраженной психологической спецификой, проявляющейся в сферах мотивации, психических состояний военнослужащих и в отдаленных психологических последствиях для их участников.
Психологическое расслоение общества по вопросу отношения к участию войск в боевых действиях сопровождается нарушением духовного единства воюющей армии и некоторых социальных групп, затруднением в привлечении наиболее сильных социальных мотивов (любовь к Родине, ненависть к врагу, стремление к торжеству справедливости) для побуждения боевой активности воинов.
Неготовность войск вести боевые действия против противника, использующего тактику партизанской и диверсионной борьбы и иррегулярные вооруженные формирования, в населенных пунктах, на сложной местности создает предпосылки для развития у воинов пессимизма, неверия в свои силы, апатии, переоценки возможностей противника. Недооценка роли эргономического фактора в детерминации боевой мотивации, психических состояний воинов и психологических последствий боевых действий способствует снижению боеспособности личного состава.
В современных военных конфликтах необходимо создание целостных систем оказания психологической помощи военнослужащим в боевой обстановке. Игнорирование этого требования ведет к значительному увеличению объемов посттравматических стрессовых расстройств среди участников военных событий. Для предупреждения эффекта тотальной вторичной психотравматизации ветеранов боевых действий, необходим особый, фиксированный период организованного, постепенного перевода психики участников военного конфликта на мирный режим функционирования (социально-психологическая реадаптация), позволяющий вернуть в общество полноценных людей, не отягощенных синдромом военизированной психики.
Психологическое обеспечение боевых действий войск в локальных военных конфликтах должно основываться на строгом учете выявленных психологических закономерностей вооруженных событий подобного рода.
Человек в экстремальных условиях войны *
Е.С. Сенявская * *
Война как «пограничная ситуация»
Психологи знают, как мгновенно преображается человек, получивший в руки оружие: меняется все мироощущение, самооценка, отношение к окружающим. Оружие – это сила и власть. Оно дает уверенность в себе и диктует стиль поведения, создает иллюзию собственной значимости. Так происходит в мирное время. Что же тогда должно происходить на войне, в особенности на фронте, где оружие есть у каждого, а его применение из возможности становится обязанностью? Существует ли особый психологический тип «человека с ружьем»? Да, без сомнения. Война формирует особый тип личности, особый тип психологии, который можно определить как психологию комбатанта.
Прежде всего необходимо прояснить само понятие комбатант, что в переводе с французского означает воин, боец, сражающийся. Это термин международного права, обозначающий лиц, которые входят в состав регулярных вооруженных сил воюющих сторон и непосредственно участвуют в боевых действиях, а также тех, кто принадлежит к личному составу ополчений, добX ровольческих и партизанских отрядов, – при условии, что их возглавляет командир, что они имеют ясно видимый отличительный знак, открыто носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны.
Следовательно, психология комбатантов – это психология человека на войне, вооруженного человека, принимающего непосредственное участие в боевых действиях.
«... Перенесение всевозможных лишений, переживание различных видов опасности или ожидание ее наступления, потеря личной свободы и принудительный характер поведения – все эти факторы войны и боя влияют на психику бойца, – писал в 1935 г. в эмиграции русский военный психолог, в Первую мировую – полковник Генерального Штаба Р. К. Дрейлинг. – Действуя постоянно и непрерывно, они постепенно видоизменяют характер реакции бойца на окружающий мир, вызывают новые реакции, создают ряд условных рефлексов, словом, производят ряд изменений, которые в конечном счете дают картину видоизмененной психики, присущей бойцу по сравнению с обывателем».
Формируясь и наиболее ярко проявляясь в ходе войны, эта психология продолжает свое существование и после ее окончания, накладывая характерный отпечаток на жизнь общества в целом. Послевоенное общество всегда и неизбежно отравлено войной, и главный симптом этой болезни – привычка к насилию – в разной степени сказывается во всех сферах общественной жизни и, как правило, довольно длительное время.
Обращение к такому специфическому явлению как война требует рассмотрения важного методологического принципа, имеющего первостепенное значение при изучении личности в экстремальных обстоятельствах. Это сформулированное в философии немецкого экзистенциализма понятие пограничной ситуации. Согласно теории М. Хайдеггера, единственное средство вырваться из сферы обыденности и обратиться к самому себе – это посмотреть в глаза смерти, тому крайнему пределу, который поставлен всякому человеческому существованию. Под существованием имеется в виду, прежде всего духовное бытие личности, ее сознание. По К. Ясперсу, с точки зрения выявления экзистенции (то есть способности осознать себя как нечто существующее) особенно важны так называемые пограничные ситуации: смерть, страдание, борьба, вина. Наиболее яркий случай пограничной ситуации – бытие перед лицом смерти. Тогда мир оказывается «интимно близким». В пограничной ситуации становится несущественным все то, что заполняет человеческую жизнь в ее повседневности, индивид непосредственно открывает свою сущность, начинает по-иному смотреть на себя и на окружающую действительность, для него раскрывается смысл его «подлинного» существования. Эти выводы экзистенциалистов не абсолютны и не бесспорны, но в то же время нельзя не отметить, что чувства и поведение человека в минуту опасности обладают значительными особенностями по сравнению с эмоциями и действиями в обыденной ситуации и могут раскрыть свойства его личности с совершенно неожиданной стороны.
«Деятельность человека-бойца во время войны носит особый характер, – отмечал Р.К. Дрейлинг. – Она протекает в условиях хронической опасности, то есть постоянной опасности потерять здоровье или жизнь, а с другой стороны, в условиях не только безнаказанного уничтожения себе подобных, коль скоро они являются врагами, но и в прямой необходимости и в поощряемом желании делать это как во имя конечных целей общего благополучия для своего народа, так и в целях собственного самосохранения в условиях вооруженной борьбы».
В сущности, все основные, базисные элементы психологии человека, оказавшегося в роли комбатанта, формируются еще в мирный период, а война лишь выявляет их с наибольшей определенностью, акцентирует те или иные качества, связанные с условиями военного времени. Вместе с тем, специфика этих условий вызывает к жизни новые качества, которые не могут возникнуть в мирной обстановке, а в военный период формируются в максимально короткий срок. Однако эти черты и свойства очень сложно разделить по времени и условиям формирования, и речь, скорее, может идти о превращении качеств, единичных по своим проявлениям в условиях мирной жизни, в массовые, получающие самое широкое распространение в условиях войны.
«Только в бою испытываются все качества человека, – говорил в одном из своих выступлений легендарный комбат Великой Отечественной Б. Момышулы. – Если в мирное время отдельные черты человека не проявляются, то в бою они раскрываются. Психология боя многогранна: нет ничего незадеваемого войной в человеческих качествах, в личной и общественной жизни. В бою не скрыть уходящую в пятки душу. Бой срывает маску, напускную храбрость. Фальшь не держится под огнем. Мужество или совсем покидает человека или проявляется во всей полноте только в бою... В бою находят свое предельное выражение все присущие человеку качества».
Высшие проявления человеческого духа, довольно редкие в обычных обстоятельствах, становятся поистине массовым явлением в обстоятельствах чрезвычайных.
В то же время, в чрезвычайных условиях выявляются не только лучшие, но и худшие человеческие качества, которые могут приобретать в них принципиально иное значение: например, слабость характера, несмелость, вызывающая незначительную уступку в обычной жизненной ситуации, может обернуться трусостью и предательством во время войны. В периоды «бедствий народных» как положительные, так и отрицательные качества людей проявляются в гипертрофированном виде, ввиду того, что поступки оцениваются по иному, завышенному нравственному критерию, который диктуется особыми условиями жизни.
Одновременно боевая обстановка является катализатором многих психопатологических реакций, являющихся следствием того, что «пограничные ситуации» зачастую предъявляют к психике человека непомерные требования.
«Условия опасной ситуации, будучи сверхсильными психологическими раздражителями, могут вызвать резкие патологические изменения в психике и поведении воинов», – отмечал советский военный психолог М.П. Коробейников.
Анализ поведения солдат и офицеров в экстремальных условиях войны, в том числе в Афганистане и Чечне, обращает внимание на то, что «наряду с реальным героизмом, взаимовыручкой, боевым братством и другой относительно позитивной атрибутикой войны, грабежи и убийства, средневековые пытки и жестокость по отношению к пленным, извращенное сексуальное насилие в отношении населения (особенно на чужой территории), вооруженный разбой и мародерство составляют неотъемлемую часть любой войны и относятся не к единичным, а к типичным явлениям для любой из воюющих армий, как только она ступает на чужую землю противника».
Не случайно во время вооруженных конфликтов в массовом бытовом сознании широкое распространение имеет формула «война все спишет», которая используется для оправдания безнравственных поступков и перекладывает всю ответственность с индивида на объективные условия действительности. Впрочем, наряду с этим аморальным жизненным кредо существует и осуждающий его «противовес»: «кому война, а кому мать родна», выражающий презрение к тем, кто наживается на народном горе.
В ходе боев могут проявиться прямо противоположные качества их участников – трусость и героизм, шкурничество и самопожертвование. Это зависит от индивидуальных особенностей личности, сформировавшихся в предшествующий период, от качества боевой готовности и умения владеть оружием, от успешного или отрицательного поворота событий для одной из воюющих сторон, от продолжительности боевых действий и многих других факторов. При этом катализатором поведения человека становится именно экстремальная ситуация.
«Психология бойца – это изучение деятельности человека под угрозой опасности», – отмечал русский военный психолог Н. Головин.
Особую роль играет массовая психология, которая в ходе вооруженного конфликта может резко колебаться – от всплеска патриотических чувств к апатии и безразличию, вплоть до резкого неприятия войны, пацифистских и антиправительственных настроений в обществе. Примером патриотического подъема в начале Первой мировой служит поведение молодых офицеров, самовольно покидавших тыловые части, чтобы попасть на фронт. В отечественной историографии гораздо лучше освещена ситуация конца этой войны, отмеченной разложением армии, революционным брожением и массовым дезертирством.
Жизнь человека на войне насыщена пограничными ситуациями, сменяющими друг друга и постепенно приобретающими значение постоянного фактора.
«Война – область опасности», – подчеркивал Клаузевиц. И эта особенность вооруженных конфликтов оказывает воздействие на всю жизнь общества в данный период, решительным образом влияет на психологию людей. Личность ярче всего проявляется в опасной ситуации. Но, проявляясь, она не остается неизменной.
«Включение воина в реальные боевые условия, в опасную ситуацию приводит к резкой перестройке его основных жизненных отношений. Он как бы заново переосмысливает окружающий его мир... Очевидно, чем более необычными будут условия, тем большие сдвиги произойдут в психике воина...»
Экстремальные ситуации обостряют до предела человеческие чувства, вызывают необходимость принятия немедленных решений, предельной четкости и слаженности действий. Таким образом, военная обстановка выявляет те свойства личности, которые в мирное время оказываются в какой-то мере второстепенными или не требуют крайних своих проявлений.
Существует также несколько стереотипов поведения людей в сходных ситуациях (в зависимости от характера, воли, темперамента и т.п.), их оценок и восприятия действительности. И именно это позволяет делать обобщения и строить психологическую модель, основываясь на сопоставлении свидетельств участников различных вооруженных конфликтов. Ведь, как не без основания утверждает английский военный психолог Норман Коупленд, «из поколения в поколение оружие меняется, а человеческая природа остается неизменной».
Поведение человека в экстремальных обстоятельствах боя в значительной мере обусловлено его изначальной психологической установкой на отношение к войне в целом. С точки зрения социолога В.В. Серебрянникова, среди людей можно выделить следующие типы по отношению их к войне: «воины по призванию», «воины по долгу», «воины по обязанности», «вооруженные миротворцы», «профессионально работающие на обеспечение армии и войны», «пацифисты», «антивоенный человек» и др.
На наш взгляд, такая классификация может быть принята за основу в качестве одного из вариантов систематизации категорий участников вооруженных конфликтов по «отношению к войне».
Оставим в стороне работников военно-промышленного комплекса, а также активистов и членов антивоенных организаций, и обратимся к различным типам собственно «воинов».
К первой категории – «воинов по призванию» – относятся те, кто желает посвятить жизнь военному делу, сознательно ищет возможности «повоевать». Война для них – именно та стихия, где, по их представлениям, открывается возможность для наиболее полной реализации своих сил и способностей, самоутверждения в глазах других людей, удовлетворения материальных и духовных потребностей. Именно из этой, сравнительно немногочисленной категории (по мнению экспертов, она составляет около 3-5% дееспособного населения, а в специфической военной среде – до 60-70% кадровых офицеров и 70-90% отставников), набираются добровольцы для участия в локальных войнах и конфликтах, боевики различных военизированных формирований, бойцы особых отрядов по борьбе с вооруженной преступностью и т.п. Притом, что за категорией «воина по призванию» в действительности скрываются очень разные типы личностей и по психическому складу, и по системе ценностей, большинство из них, по существу, представляют собой особый тип милитаризированного человека, всегда готового к насилию.
По нашему мнению, следует отметить, что в отдельных случаях данный тип «человека-воина» формируется как результат посттравматического синдрома, когда человек, побывавший на войне, уже не представляет свое существование вне подобной экстремальной обстановки и всеми возможными способами стремится воссоздать ее вокруг себя. Здесь в качестве примера можно привести мировоззрение ветерана Первой мировой, известного немецкого писателя Эрнста Юнгера, чьи книги, в отличие от произведений его современника и соотечественника Э.-М. Ремарка, никогда не издавались на русском языке. Юнгер – певец войны, стиль и дух его фронтовой прозы диаметрально противоположен по смыслу роману Ремарка «На Западном фронте без перемен». Его книги воспевают романтику войны, героического начала, чудовищного напряжения моральных сил человека и преодоления трудностей. Они убеждают читателей в том, что война – самое естественное проявление человеческой жизни, что только она может принести народу обновление, а без нее начинают преобладать застой и вырождение. Именно в военных условиях человек проявляет свою истинную сущность, являя себя миру во время «танца на острие клинка», в момент пребывания между бытием и небытием. Многообразие жизненных форм упрощается до одного-единственного смысла: борьба, постоянный риск, балансирование на грани гибели, – все остальное становится незначительным и ничтожным. При этом чужая жизнь лишается какой-либо ценности, утрачивает всяческое значение: на войне управляет не разум, а глубинные «первородные» инстинкты, – желание ощутить запах и вкус крови, принять участие в охоте на себе подобных. «Наша работа – убивать, – пишет Юнгер, – и наш долг – делать эту работу хорошо».
Война со всеми ее ужасами, страданиями и преступлениями интерпретируется им как приключение, высшее испытание человеческих качеств. Причем, по мнению Юнгера, война сама по себе есть оправдание любых действий. Эти взгляды великолепно характеризуют психологию «диких гусей», наемников, любителей острых ощущений, то есть самую крайнюю категорию из числа «воинов по призванию».
Другая категория – «воины по долгу». Это люди, которые независимо от своего субъективного отношения к войне, часто весьма негативного, оказавшись перед необходимостью защищать свою страну и семейный очаг от захватчиков, сами добровольно идут на войну. В данном случае даже ненависть к войне не мешает их готовности взяться за оружие, чтобы отстоять свободу и независимость Родины и собственное право на жизнь. В мирных условиях к данному типу людей относится около 20-30% призывников, зато все они являются добровольцами в случае нападения агрессора. По отношению ко всему военнообязанному населению, по данным некоторых социологов, они составляют 8-12%. Однако, с нашей точки зрения, нельзя выделять данную категорию вне зависимости от типа и характера войны. Численность и удельный вес «воинов по долгу» напрямую зависит от того, насколько вооруженный конфликт глубоко затрагивает коренные, жизненные интересы населения конкретной страны в конкретное время.
Так, в двух разных войнах, но в одном и том же государстве, в одно «историческое» время, когда у основной массы населения сформирована и сохраняется все та же система ценностей, основные качества социальной психологии, традиции и т.п., масштабы патриотического порыва бывают качественно различными. Особенно наглядно это можно представить на примере вооруженных конфликтов, временной промежуток между которыми по историческим меркам ничтожно мал (год-два). Но здесь становится очевидной значимость различий между самими войнами – их масштабом, оборонительным или наступательным характером, справедливой или несправедливой сутью, и т.п. Особенно различаются в этом отношении локальные и мировые войны. Например, в СССР, несмотря на активную патриотическую пропаганду, в «зимней» советско-финляндской войне процент добровольцев не выходил за рамки традиционного, тогда как в период Великой Отечественной он был значительно выше, и именно «воины по долгу» составляли большинство фронтового поколения.
И, наконец, третья, как правило, самая многочисленная категория, – «воины по обязанности», избравшие мирные профессии и в целом негативно относящиеся к службе в армии, не рвущиеся на фронт в случае войны, но становящиеся в строй по закону о мобилизации. Они составляют почти 60-70% годных к военной службе призывников и отслуживших в армии воинов запаса, а в соотношении со всем военнообязанным населением – около 40-50%.
Однако независимо от своего отношения к войне и к участию в ней, в результате мобилизации все эти категории оказываются в боевых условиях и (за редким исключением) в одинаковой роли комбатанта. С этого момента на эмоционально-волевую сферу и поведенческие мотивы человека начинает оказывать воздействие целая система специфических факторов.
Героический порыв и паника на войне
Каждый бой представляет собой неповторимую обстановку для его непосредственных участников, потому что одинаковых и тем более стандартных условий в боевой обстановке не бывает. Динамика боя проявляется во всех видах боевых действий: в обороне и наступлении, в авиационных и танковых ударах, в артиллерийском и ружейно-пулеметном огне, во введении резервов, в неожиданных и внезапных маневрах, в применении нового оружия и т.д. При этом на нее влияют характер местности, время года и суток, климат и даже погода, приводя к бесконечному многообразию ее форм.
«Характеризуя условия боя, нельзя упустить из виду и такую их особенность, как чрезвычайно ощутимые жизненные неудобства», – подчеркивает военный психолог Г.Д. Луков и перечисляет некоторые особенности военного быта, неизбежно влияющие на внутреннее состояние воина, которое сказывается на его поведении в условиях боя: «Зимой – это стужа, когда застывает смазка даже на тщательно протертом оружии, когда кусок хлеба становится тверже льда, а сырые валенки, замерзнув, ломаются на ходу, как будто они сделаны из очень хрупкого материала. Бывает и летом, когда бойцы изнывают от жары, от недостатка воды, от жгучего песка и удушливой пыли, ослепляющих бойца и затрудняющих ему дыхание. Нередки случаи в боевой обстановке, когда человек недосыпает, недоедает, живет и действует в неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях, не имеет нормального жилья и уюта, физически и нравственно устает, переутомляется и т.д.»
Таковы основные особенности фронтового быта, на который накладывает дополнительный и весьма существенный отпечаток обстановка постоянной опасности, в которой живут и действуют люди. Обстановка боя, с точки зрения ее воздействия на человеческий организм и психику, представляет собой совокупность раздражителей чрезвычайно большой силы. Обе эти стороны военной действительности – опасность боя и повседневность быта – непосредственно формируют психологию комбатантов.
Какие же мотивы руководят воином в бою? По мнению советского военного психолога, участника русско-японской и Первой мировой войн П.И. Изместьева, их несколько: «Прежде всего ненависть к врагу, угрожающему родным очагам, чувство любви к отечеству, чувство долга. Чем устойчивее в нем (воине) все идеи об этом, тем сильнее волевой мотив. С другой стороны, его может двигать вперед привычка к повиновению начальникам, т.е. дисциплина, желание отличиться перед товарищами своей отвагой и мужеством, опасение прослыть трусом или же боязнь наказания при проявлении трусости, наконец, пример начальника».
Как видно из этого перечня, мотивы поведения комбатанта в экстремальной ситуации делятся на идейные и волевые, хотя по отдельности, «в чистом виде» они встречаются довольно редко. Обычно в боевой обстановке человек руководствуется смешанными идейно-волевыми мотивами, и понимание долга в его сознании неразрывно связано с подчинением воинской дисциплине, а любовь к родине – с проявлением личного мужества.
При этом смелость в бою представляет собой достаточно сложный психологический феномен и при всем сходстве внешних форм проявления имеет, как правило, весьма различное происхождение и основу. «Как трусость, так и храбрость бывают разнообразны и многогранны, – отмечал генерал П.Н. Краснов. – Бывает храбрость разумная и храбрость безумная. Храбрость экстаза атаки, боя, влечения, пьяная храбрость и храбрость, основанная на точном расчете и напряжении всех умственных и физических сил... Бывает храбрость отчаяния, храбрость, вызванная страхом смерти или ранения, или страхом испытать позор неисполненного долга».
В этой связи интересно мнение Клаузевица, который считал, что «мужество никоим образом не есть акт рассудка, а представляет собой такое же чувство, как страх; последний направлен на физическое самосохранение, а мужество – на моральное».
Но среди всего многообразия видов храбрости и трусости по их происхождению и проявлению можно выделить две основных формы обоих качеств – индивидуальную и групповую. На последней, характеризующей некоторые особенности коллективной психологии, следует остановиться отдельно и рассмотреть такие сложные и противоречивые явления, как героический порыв и паника на войне.
В военной психологии существует особое понятие «коллективные (групповые) настроения». Это наиболее подвижный элемент психологии, который способен к быстрому распространению: возникая у одного или немногих людей, настроения часто перекидываются на большую человеческую массу, «психически заражая» ее. Особенно часто это происходит при непосредственном контакте и общении людей в условиях жизни бок о бок. Именно тогда вступает в силу и активно действует социально-психологический закон подражания. При этом с одинаковой быстротой могут распространяться и «заражать» окружающих как положительные, так и отрицательные настроения и примеры поведения.
Важнейшее качество групповых настроений – их динамизм. Они способны легко переходить из одной формы в другую, из неосознанной в отчетливо сознаваемую, из скрытой в открытую. Столь же быстро настроения перерастают в активные действия. И, наконец, они часто подвержены колебаниям и могут почти мгновенно перестраиваться самым коренным образом.
В экстремальных условиях войны, под влиянием опасности, трудностей, постоянного физического и нервного напряжения, действие эмоционального фактора приобретает особенно интенсивный характер. При этом в боевой обстановке с одинаковой вероятностью могут проявиться прямо противоположные коллективные настроения: с одной стороны, чувство боевого возбуждения, наступательный порыв, экстаз атаки, а с другой, – групповой страх, уныние, обреченность, способные в определенной ситуации привести к возникновению паники. Таким образом, и паника, и массовый героический порыв – часто явления одного порядка, отражающие психологию толпы.
Этим во многом объясняется и феномен коллективного героизма, и сила героического примера. Так, подвиг одного человека (или воинского коллектива) в боевых условиях является мощным психологическим импульсом для окружающих, побуждающим их к активному действию, а вместе с тем являющимся и готовым образцом, своеобразной моделью поведения в опасной ситуации. В повторении этой модели реализуется эффект подражания и массового «психического заражения» – в их позитивной форме. В какой-то мере данное явление отразилось и в народных пословицах «На миру и смерть красна», «Один в поле не воин» и др., подчеркивающих социальную природу человека и приоритет во многих случаях социально-психологического над индивидуально-психологическим.
Наиболее ярким примером негативного воздействия «психического заражения» в боевой обстановке является паника. «На войне, под влиянием опасности и страха, рассудок и воля отказываются действовать, – писал П.Н. Краснов. – На войне, особенно в конце боя, когда части перемешаны, строй и порядок потеряны, когда в одну кашу собьются люди разных полков, войско превращается в психологическую толпу. Чувства и мысли солдат в эти минуты боя одинаковы. Они восприимчивы к внушению, и их можно толкнуть на величайший подвиг и одинаково можно обратить в паническое бегство. Крикнет один трус: «Обошли!» – и атакующая колонна повернет назад».
Часто активное воздействие на сознание специфики боя вызывает у человека игру воображения. В результате он начинает неадекватно оценивать обстановку, преувеличивать реальную опасность, что мешает ему успешно действовать в сложной ситуации. Такое «непроизвольное воображение», превращаясь в определенный момент в доминирующий психический процесс, пытается диктовать человеку те или иные поступки и может послужить причиной страха и паники.
«Как ни велика в бою действительная опасность, опытный солдат с нею справится. Гораздо страшнее, гораздо больше влияет на него опасность воображаемая, опасность ему внушенная. Когда части перемешались, когда они обратились в толпу, они становятся импульсивны, податливы ко внушению, к навязчивой идее, податливы до галлюцинаций. Глупый крик «наших бьют...» или еще хуже – «обошли», и части, еще державшиеся, еще шедшие вперед, поворачивают и бегут назад. Начинается паника».
В начальный период Великой Отечественной таким импульсом, заставлявшим целые части срываться с позиций и устремляться от мнимой опасности, обычно становился крик «самолеты», «танки» или «окружают». Вызвано это было и общим состоянием духа войск, успевших «привыкнуть» к ударам превосходящих сил противника, собственным неудачам и поражениям, к длительному отступлению, а потому сравнительно легко поддающихся малодушию, панике и бегству в тыл.
Паника случалась во всех армиях мира во все исторические эпохи. И боролись с нею весьма похожими методами, с одной стороны, беспощадно расправляясь с паникерами, а с другой – стараясь предотвратить ее возникновение. Так во время русско-японской войны командующий 2 Маньчжурской армией генерал Гриппенберг 22 декабря 1904 г. издал приказ, в котором среди других указаний о действиях пехоты в бою подчеркивал: «необходимо также принять меры против паник ночью, в особенности после боя, когда люди настроены нервно и когда достаточно иногда крика во сне кого-нибудь «неприятель» или «японец», чтобы все люди вскакивали, бросались к ружьям и начинали стрелять, не разбирая, куда и в кого. С этими явлениями нужно ознакомить войска, внушая им в подобных случаях оставаться и не поддаваться крику нервных людей, разъясняя им печальные последствия преждевременных криков «ура» и паники.
Но гораздо чаще, чем «разъяснения», армейское руководство использовало жесткие репрессивные меры, исходя из принципа: «солдат должен бояться собственного начальства больше, чем врага». Так, отмечая случаи массовой сдачи в плен нижних чинов русской армии в Первую мировую войну (не только после нескольких лет сидения в окопах, что можно объяснить усталостью от затянувшейся войны и общим разложением армии, но уже осенью 1914 г. командование издавало многочисленные приказы, в которых говорилось, что все добровольно сдавшиеся в плен по окончании войны будут преданы суду и расстреляны как «подлые трусы», «низкие тунеядцы», «безбожные изменники», «недостойные наши братья», «позорные сыны России», дошедшие до предательства родины, которых, «во славу той же родины надлежит уничтожать». Остальным же, «честным солдатам», приказывалось стрелять в спину убегающим с поля боя или пытающимся сдаться в плен: «Пусть твердо помнят, что испугаешься вражеской пули, получишь свою!» Особенно подчеркивалось, что о сдавшихся врагу будет немедленно сообщено по месту жительства, «чтобы знали родные о позорном их поступке и чтобы выдача пособия семействам сдавшихся была бы немедленно прекращена».
Среди причин массовой сдачи в плен в ноябре 1914 г., когда за две недели боев сдалась почти третья часть личного состава 13-й и 14-й Сибирских дивизий, в частном письме одного офицера приводится следующая: «Идет усиленный обстрел пулеметами, много убитых. Вдруг какой-то подлец кричит: «Что же, ребята, нас на убой сюда привели, что ли? Сдадимся в плен!» И моментально чуть ли ни целый батальон насадил на штыки платки и выставил их вверх из-за бруствера». Как в приведенном здесь, так и в других подобных случаях, имела место типичная ситуация «психического заражения».
Классическим примером борьбы с паникой в период Великой Отечественной войны стали приказы Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии № 270 от 16 августа 1941 г. и Наркома обороны СССР № 227 от 28 июля 1942 г. В первом из них каждый военнослужащий, оказавшись в окружении, обязан был «драться до последней возможности» и, независимо от своего служебного положения, уничтожать трусов и дезертиров, сдающихся в плен врагу, «всеми средствами, как наземными, так и воздушными». Особо изощренным видом давления на сознание отступающей армии явился пункт приказа, гласивший, что семьи нарушителей присяги будут подвергнуты аресту.
Причиной принятия приказа «Ни шагу назад!» явилась объективная, весьма угрожающая ситуация, сложившаяся летом 1942 г. на Юго-Западном фронте, когда за неполный месяц, с 28 июня по 24 июля, наши войска в большой излучине Дона отошли на восток почти на 400 км со средним суточным темпом отхода около 15 км, и нужны были резкие, неординарные меры, чтобы остановить отступление, которое грозило гибелью стране. Приказ № 227 призывал установить в армии «строжайший порядок и железную дисциплину», для чего создавались штрафные батальоны, в которых «провинившиеся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости» командиры и политработники могли «искупить кровью свои преступления против Родины». В том же приказе говорилось о формировании заградительных отрядов, которые следовало поставить «в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизии выполнить свой долг перед Родиной».
Главный способ борьбы с паническими настроениями в советской армии был очень прост: «Паникеры и трусы должны истребляться на месте». Можно по-разному относиться к его жестокости, но при этом нельзя отрицать его действенности. Ведь, в конечном счете, цель была достигнута: приказ № 227 сумел переломить настроение войск. Не исключено, что без такого весьма своевременного приказа не удалось бы победить под Сталинградом, да и в войне в целом.
Что же представляет собой паника как феномен массовой психологии? По мнению ряда авторов, это одно из проявлений инстинкта самосохранения, результат заражающего влияния толпы на индивида. Другие считают, что паника возникает в условиях мнимой опасности в результате психологического влияния одного паникера на массу других воинов. Третьи утверждают, что она возникает главным образом в обстановке реальной опасности, а ее причиной является не слепое подражание, а понижение уровня мотивации, притупление самоконтроля, что в экстремальной ситуации создает предрасположенность к исключительно защитному поведению, повышенной внушаемости и т.п. В то же время активизация высоких мотивов и нравственных чувств способствует приглушению простых эмоций и преодолению страха и паники.
Каковы же условия, провоцирующие возникновение паники? Как влияет на боевой дух войск ход и характер боевых действий, их конкретный этап, время суток и погодно-климатические условия? Вот что писал по этому поводу П.Н. Краснов: «Паника возникает в войсках или в самом начале боя, когда все чувства бойцов приподняты и страх неизвестности владеет ими, а в обстановке недостаточно разобрались и неприятель чудится везде, или в конце очень тяжелого, кровопролитного, порою многодневного сражения, когда части вырвались из рук начальников, перемешались и обратились в психологическую толпу. Особенно часто возникает паника в непогоду и ненастье... Паника рождается от пустяков и создает иногда надолго тяжелую нравственную потрясенность войск, так называемое “паническое настроение”«.
Впрочем, далеко не всегда основанием для него служат пустяки. Например, многочисленные случаи паники в начале Великой Отечественной войны, в период массового отступления советских войск, в значительной степени были вызваны общим состоянием глубокого психологического шока, который испытала армия в столкновении в реальной мощью противника, что решительно противоречило внушенным ей довоенной пропагандой лозунгам и стереотипам.
Очень часто паника возникает, когда солдат сталкивается на поле боя с чем-то непонятным, например, с применением противником нового вида оружия. Так, в Первую мировую войну ее вызывали первые применения танков, отравляющих боевых веществ, авиации, подводных лодок; во Вторую мировую – сирен на немецких пикирующих бомбардировщиках, радиовзрывателей, советских реактивных минометов «Катюш» и т.д. Кстати, этот психологический фактор был учтен и использован Г.К. Жуковым в начале Берлинской операции, когда вслед за мощной артиллерийской подготовкой последовала ночная атака танков и пехоты с применением 140 прожекторов, свет которых не только ослепил неприятеля, но и вызвал у него паническую реакцию: немцы решили, что против них пущено в ход неизвестное оружие.
Итак, причины возникновения паники крайне разнообразны: неожиданная или воображаемая опасность, крик, шум и т.п.
Чаще всего паника возникает:
1) при ночных операциях, когда темнота обостряет чувство страха;
2) после поражения или нерешительного боя с большими потерями, подрывающими боевой дух личного состава;
3) при вступлении войск в бой, в момент его завязки, когда всякая опасность преувеличивается воображением.
При этом «во время боя панику может вызвать всякая неожиданность: атака с тыла, с флангов, неожиданное, а иногда и мнимое превосходство противника. В этом случае довольно поддаться ужасу одному человеку, чтобы он передался массе. Последнее особенно часто случается в обозах, в тыловых частях армии, где дисциплина слабее».
Однако нервозность присуща людям не только в бою, но и после него, во время отдыха, когда во сне на уровне подсознания переживаются впечатления тяжелого дня. При этом крик спящего или случайный выстрел на передних позициях могут привести к массовой перестрелке, так называемой «огневой панике», а то и к беспорядочному бегству. «Паника, – по определению П.И. Изместьева, – это явление коллективного страха в высшей, в смысле эмоции, форме, т.е. ужаса, иногда совершенно необъяснимого, охватывающего войска. Этот безумный ужас, распространяясь со стихийной быстротой, превращает самое дисциплинированное войско в толпу жалких беглецов».
Однако, как уже отмечалось выше, групповым настроениям – и панике в том числе – присущ динамизм, необычайная подвижность, изменчивость, способность перестраиваться самым решительным образом. В состоянии особой податливости группы людей к внушению один вид «психического заражения» вполне может смениться другим, положительный отрицательным и наоборот, – главное, чтобы импульс к смене коллективного настроения оказался на данный момент сильнее предыдущего. Один из примеров такого рода мы находим в воспоминаниях о русско-японской войне.
В феврале 1905 г., во время Мукденского сражения некоторые русские части были окружены японцами. Масса людей и обозов сбилась в овраге, выходы из которого были перекрыты врагом. Разрозненные попытки вырваться из этой ловушки успеха не имели. «Люди совершенно пали духом и лежали безучастно, укрываясь скатами оврага от пуль». Никакие убеждения и команды офицеров не действовали. Но вот какой-то унтер-офицер выскочил быстро наверх, в руках его мелькал большой крест.
«Откуда взялся этот крест, трудно сказать. Вероятно, он принадлежал походной церкви. Унтер-офицер этот кричал: «Братцы, пойдем за крестом! За знаменем!» Кто-то крикнул: «Знамя! Выручай! Знамя пропадает!» И случилось что-то необычное: множество людей сняли папахи и, перекрестясь, быстро ринулись наверх, увлекая всех за собою. Без криков ура, молча, масса кинулась на заборы и валы, занятые японцами. Слышен был лишь топот бегущей толпы да ее тяжелое дыхание. Японцы оторопели и, прекратив стрельбу, бросились назад. Говорили, что наши в исступлении изломали пулеметы голыми руками. Через минуту огромная колонна беспрепятственно ползла из рокового оврага».
В данном случае особо следует подчеркнуть, что вся эта большая человеческая масса явно находилась в состоянии аффекта, когда, забыв об имевшемся у них оружии, люди дрались голыми руками и крушили ими вражеское железо. Психологи определяют аффект как «сильное и относительно кратковременное нервно-психическое возбуждение – эмоциональное состояние, связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств». Он развивается в критических условиях при неспособности человека найти адекватный выход из опасных, чаще всего неожиданных ситуаций. Формами проявления аффекта как крайнего душевного волнения могут быть ужас, оцепенение, бегство, агрессия, ярость, гнев. При этом для данного состояния характерно сужение сознания, при котором внимание целиком поглощается породившими аффект обстоятельствами и навязанными им действиями.
Таким образом, многие формы и героического порыва, и паники в экстремальных условиях войны носят в себе ярко выраженные симптомы состояния аффекта. Его механизмы в целом универсальны для человеческой психологии, особенно в групповых, коллективных, массовых проявлениях в боевой обстановке. Однако конкретные побудительные мотивы, запускающие этот механизм, могли быть весьма специфическими в конкретных войнах и зависеть не только от конкретно-исторической, но и от социо-культурной ситуации. Например, если боевое знамя на протяжении всего XX века (и много ранее) оставалось общепризнанной символической ценностью, утрата которой покрывала несмываемым позором воинскую часть и та в результате подлежала расформированию, то икона – религиозный символ-ценность – являлась таковой только в период высокой социальной значимости религиозных институтов, поддерживаемых государством. Соответственно утрата или необходимость защиты в бою этих символов-ценностей могла стать мощнейшим побудителем позитивных массовых аффектов – героического порыва, экстаза атаки и т.п.
Роль аффектов вообще весьма велика в любых вооруженных конфликтах. Даже за, казалось бы, одним и тем же явлением, оцениваемым обществом как безусловно позитивное действие, в экстремальных условиях войны могут стоять различные механизмы. Например, подвиг может стать результатом как сознательного волевого выбора человека, трезво оценивающего ситуацию, возможные последствия своих действий, готовности к самопожертвованию, так и аффективного, бессознательного порыва, импульсивного действия под влиянием очень различных обстоятельств. Здесь может иметь место и аффект массового «психического заражения» в момент атаки, и вспышка отчаяния в безвыходной ситуации, и даже страх. Поэтому стоит четко различать собственно психологические механизмы деятельности людей в боевой обстановке и их результаты, которым общество придает тот или иной социально-ценностный смысл. При этом, конечно же, в управлении войсками, а следовательно, и в их воспитании, прежде всего морально-психологической подготовке, приоритет обоснованно отдается сознательно-волевым качествам воинов. Это позволяет свести к минимуму негативные виды аффектов (страх, паника и т. п.): устойчивость к вовлечению в состояние аффекта зависит от уровня развития моральной мотивации личности и ее способности к сознательной саморегуляции.
Психология боя и солдатский фатализм
Предыдущий раздел был посвящен преимущественно групповой и массовой психологии, тогда как «атомарный» уровень, из которого складываются социально-психологические процессы и феномены, лежит в области психологии личностной. Здесь мы и рассмотрим некоторые аспекты индивидуальной психологии в контексте экстремальных боевых условий. Уже приведенная выше позиция английского военного психолога Нормана Коупленда о неизменности человеческой природы при постоянном усовершенствовании методов и средств ведения войны, прежде всего вооружения, дает пищу для размышлений и в этом случае. Как и всякая афористически выраженная мысль, она страдает некоторой односторонностью и упрощением: разумеется, человек существенно менялся в ходе социальной эволюции и исторического развития, причем постоянные и переменные величины в этом процессе лежат в разных плоскостях. Меняется смысловое, ценностное, информационное наполнение человеческой психики, тогда как психобиологическая ее составляющая остается чрезвычайно стабильной. Так, инстинкт самосохранения универсален и детерминирован биологической природой человека, однако механизмы защиты индивидуума в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни, определение линии поведения и даже психологического реагирования, «переживания» ситуации решающим образом зависят от социокультурных параметров личности: этнокультурной, религиозной и т. п. среды, определившей ее воспитание, ценности, установки, нормы поведения. Страх европейца-атеиста, христианина, мусульманина, буддиста и т.д. – это разные «страхи». И решения, принимаемые ими в схожих обстоятельствах, которые, казалось бы, должны рождать в людях одинаковые эмоции, и поведение могут оказываться не только различными, но даже противоположными. Конечно, в одной и той же этно- и социо-культурной среде в течение XX века эти качества также подвергались изменениям, но они не были столь очевидны: весьма широкий комплекс психологических качеств российских участников разных вооруженных конфликтов начала, середины или второй половины нашего столетия оставался относительно устойчивым. Отсюда – большое сходство мыслей, чувств, переживаний, оценок, прослеживаемых в документах личного происхождения военнослужащих, созданных в боевой обстановке.
Для проверки данного тезиса проведем сравнительный анализ однотипных источников периодов двух мировых и советско-афганской войн: писем, дневников, воспоминаний российских и советских солдат и офицеров, участников этих событий.
Начнем с психологической оценки русского солдата, которую дает в своем дневнике поэт-фронтовик Д. Самойлов: «Российский солдат вынослив, неприхотлив, беспечен и убежденный фаталист. Эти черты делают его непобедимым».
Но, читая эти записи, начинаешь понимать, что фатализм – основная черта солдатской психологии, свойственная не только российским, но всем без исключения комбатантам как особой категории людей: «Первый бой оформляет солдатский фатализм в мироощущение. Вернее, закрепляется одно из двух противоположных ощущений, являющихся базой солдатского поведения. Первое состоит в уверенности, что ты не будешь убит, что теория вероятности именно тебя оградила пуленепробиваемым колпаком; второе – напротив, основано на уверенности, что не в этом, так в другом бою ты обязательно погибнешь. Формулируется все это просто: живы будем – не помрем... Только с одним из двух этих ощущений можно быть фронтовым солдатом».
Первый тип ощущений ярко выражен в письме артиллерийского прапорщика А.Н. Жиглинского от 14.07.1916 г.: «Война – это совсем не то, что вы себе представляете с мамой, – пишет он с Западного фронта своей тете.– Снаряды, верно, летают, но не так уж густо, и не так-то уж много людей погибает. Война сейчас вовсе не ужас, да и вообще, – есть ли на свете ужасы? В конце концов, можно себе и из самых пустяков составить ужасное, – дико ужасное! Летит, например, снаряд. Если думать, как он тебя убьет, как ты будешь стонать, ползать, как будешь медленно уходить из жизни, – в самом деле становится страшно. Если же спокойно, умозрительно глядеть на вещи, то рассуждаешь так: он может убить, верно, но что же делать? – ведь страхом делу не поможешь, – чего же волноваться? Кипеть в собственном страхе, мучиться без мученья? Пока жив – дыши, наслаждайся, чем и как можешь, если только это тебе не противно. К чему отравлять жизнь страхом без пользы и без нужды, жизнь, такую короткую и такую непостоянную?.. Да потом, если думать: «тут смерть, да тут смерть», – так и совсем страшно будет. Смерть везде, и нигде от нее не спрячешься, ведь и, в конце концов, все мы должны умереть. И я сейчас думаю: «Я не умру, вот не умру, да и только, как тут не будь, что тут не делайся», и не верю почти, что вообще умру, – я сейчас живу, я себя чувствую, – чего же мне думать о смерти!».
Спустя двадцать семь лет с другой великой войны боец Петр Куковеров напишет своей сестре: «Скоро новый 1943-й год! Я верю, он будет для нас счастливым. Как же я хочу теперь жить! Я люблю жизнь и должен выжить. Я точно знаю: меня никогда не убьют!» – и погибнет в том же 1943-м году.
Участник Афганской войны, артиллерист полковник С.М. Букварев на вопрос «Были ли вы суеверны?» ответил: «Да, был и, наверное, остаюсь суеверным. Мне, когда я уезжал [в Афганистан], отец говорил: «Сергей, ты там это самое... смотри!..» А я ему говорю: «Чего там – смотри?! Вот ты четыре года с первого до последнего дня провоевал, и так повезло, что жив остался. А другим и одного дня хватило, чтобы погибнуть...» И тогда он мне сказал слова, которые я всегда повторяю: “Это как кому на роду написано”. Вот поэтому я суеверный. Верил в то, что все обойдется. И поэтому, наверное, так и получилось».
Другой тип ощущений находим в воспоминаниях полковника Г.Н. Чемоданова, командовавшего в Первую мировую пехотным батальоном. Он описывает марш-бросок на передовую 22 декабря 1916 г. на Рижском участке Северного фронта: «Я хорошо знал эти минуты перед боем, когда при автоматической ходьбе у тебя нет возможности отвлечься, обмануть себя какой-нибудь, хотя бы ненужной работой, когда нервы еще не перегорели от ужасов непосредственно в лицо смотрящей смерти. Быстро циркулирующая кровь еще не затуманила мозги. А кажущаяся неизбежной смерть стоит все так же близко. Кто знал и видел бои, когда потери доходят до восьмидесяти процентов, у того не может быть даже искры надежды пережить грядущий бой. Все существо, весь здоровый организм протестует против насилия, против своего уничтожения».
В минуты смертельной опасности (а боевая обстановка и есть такая опасность) в человеке пробуждается инстинкт самосохранения, вызывая естественное чувство страха, но вместе с тем и сознание необходимости этот страх преодолеть, не выдать его окружающим, сохраняя внешнее спокойствие, ибо внутренний трепет в той или иной мере все равно остается. В том-то и дело, что бой предъявляет к человеку требования, противоречащие инстинкту самосохранения, побуждает его совершать действия вопреки естественным чувствам.
«...Война как постоянная и серьезная угроза жизни, конечно, есть натуральнейший импульс к страху», – отмечал И.П. Павлов.
Страх становится фактором, препятствующим совершению эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, и это обстоятельство проявляется в очень широком диапазоне последствий: от массовой паники и бегства больших войсковых масс до индивидуальной психологической подавленности, утраты способности ясно мыслить, адекватно оценивать обстановку, вплоть до безынициативности и полной пассивности. Так, в период Второй мировой войны военные психологи США получили статистически значимые результаты исследования личного состава подразделений своей армии, действовавшей в Западной Европе в 1942-1945 гг., согласно которым лишь четверть солдат была реальными участниками боя, а 75% уклонялись от непосредственного участия в боевых действиях. При этом лишь 15% из всех, обязанных в соответствии с обстановкой пускать в ход личное оружие, вели огонь по неприятельским позициям, а проявлявших хоть какую-то инициативу было всего лишь 10%. Причинами этой пассивности, по мнению американских исследователей, являлись сугубо психологические факторы, особенно различные формы и степень тревоги и страха.
«Главное чувство, которое царит над всеми помыслами на войне, в предвидении боя и в бою, – ибо война и есть бой, без боя войны не может быть, – это чувство страха. К нему примыкают, усугубляя его, а иногда парализуя его, чувство физической и душевной усталости, ибо нигде не напрягаются так все силы человеческие, как на войне – в походе и в бою», – писал в 1927 г. в эмиграции участник трех войн казачий генерал П.Н. Краснов.
Не случайно в условиях сильнейшего стресса, каким является бой, во всех армиях используются те или иные способы смягчения нервного напряжения перед лицом возможной насильственной смерти (и своей, и своих товарищей, и неприятеля, которого солдат вынужден убивать). Это и различные химические стимуляторы (от алкоголя до наркотических веществ), и комплекс собственно психологических средств (обращение командира к личному составу, беседы священников и политработников, молитвы и молебны в религиозных формированиях и др.), и звуковые способы воздействия на психику (барабанный бой, звуки горна, волынки и т.п.; призывы, лозунги и воодушевляющие крики в момент атаки: «Ура», «Аллах акбар», «Банзай» и проч.). Они, как правило, одновременно выполняют целый ряд функций: и вытеснения из сознания воинов чувства страха в минуту повышенной опасности, всегда сопутствующей бою; и мобилизации решимости наступающих; и обострения чувства общности воинского коллектива («На миру и смерть красна»); и устрашения противника, на которого надвигается в едином, грозном порыве атакующая масса.
В русской армии таким боевым кличем издавна было «Ура». Вот как описывает момент штыковой атаки участник Первой мировой войны В. Арамилев: «Кто-то обезумевшим голосом громко и заливисто завопил: “У-рра-а-ааа!!!” И все, казалось, только этого и ждали. Разом все заорали, заглушая ружейную стрельбу... На параде «ура» звучит искусственно, в бою это же «ура» – дикий хаос звуков, звериный вопль. «Ура» – татарское слово. Это значит – бей! Его занесли к нам, вероятно, полчища Батыя. В этом истерическом вопле сливается и ненависть к «врагу», и боязнь расстаться с собственной жизнью. «Ура» при атаке так же необходимо, как хлороформ при сложной операции над телом человека».
Страх является одной из форм эмоциональной реакции на опасность. Не существует страха абстрактного, страха вообще. Страх бывает перед чем-то, в определенной конкретной ситуации. При этом для человека в экстремальной обстановке характерно чувство доминирующей опасности, обусловленное оценкой создавшегося положения, и часто то, что казалось опасным минуту назад, уступает место другой опасности, а следовательно, и другому страху. Например, страх за себя сменяется страхом за товарищей, страх перед смертью – страхом показаться трусом, не выполнить приказ и т. п. От того, какой из видов страха окажется доминирующим в сознании воина, во многом зависит его поведение в бою.
Иногда страх вызывает у человека состояние оцепенения, лишает его самообладания, провоцирует неадекватное поведение; в других случаях, напротив, заставляет мобилизовать волю, напрячь усилия, активизировать боевую деятельность. «Есть страх, который у человека парализует волю полностью, а есть страх иного рода: он раскрывает в тебе такие силы и возможности, о которых ты раньше не предполагал».
Впрочем, с точки зрения психолога Б.М. Теплова, высказанной в 1945 г., «страх вовсе не является единственно возможной реакцией на опасность», далеко не у всех участников боя возникает чувство страха и, следовательно, не все они оказываются перед необходимостью его преодоления. «Вопрос не в том, переживает человек в бою эмоцию страха или не переживает никакой эмоции, а в том, переживает ли он отрицательную эмоцию страха или положительную эмоцию боевого возбуждения. Последняя является необходимым спутником военного призвания и военного таланта. Бывают люди, для которых опасность является жизненной потребностью, которые стремятся к ней и в борьбе с ней находят величайшую радость жизни», – утверждает он в своей работе «Ум полководца».
Таким образом, Б.М. Теплов выделяет две категории воинов: к первой относятся те, кто переживают в бою страх и вынуждены преодолевать его, боевая обстановка их не увлекает; воины второй категории, напротив, стремятся к бою, испытывают «наслаждение в бою», их психическое состояние характеризуется отсутствием страха и наличием боевого возбуждения.
Однако обладатели последней из названных эмоций оказываются все-таки в меньшинстве. Согласно данным, опубликованным в США во время войны во Вьетнаме, «выраженный страх испытывает 80-90% участников боя... Часто чувство страха мешает солдату применять оружие... Лишь около 25% применяют оружие в бою... Притом эта цифра практически неизменна со второй мировой войны», в которой, по данным тех же американцев, пострадало от боевых стрессов около 1 млн. человек, причем 450 тыс. из них были уволены с психическими заболеваниями, что составило 40% от общего числа уволенных по болезням и из-за травм.
Разумеется, наряду со страхом существует и явление, ему противоположное. Это бесстрашие, которое также проявляется в разнообразных эмоциональных формах. Существуют два основных его вида – как черта характера и как временное, ситуативное состояние. Иногда человек не испытывает страха «по незнанию», не осознавая до конца опасности, не понимая специфических условий боя. Такое «бесстрашие» характерно для необстрелянных, неопытных бойцов.
«У меня в боевой обстановке отношение вначале такое было: интересно, – вспоминает «афганец» майор С.Н. Токарев. – В первый раз стрелять начали, – я на дерево залез посмотреть, откуда стреляют. А когда сучки рядом затрещали, дошло, что нельзя, оказывается, на дерево лазить. Ну, а потом, когда уже мудрым воином вроде бы становишься, на втором году, – то уже совсем другое отношение. Тут уже пытаешься просчитать обстановку: что, как, где, чего... Сначала интересно, какой-то рейнджерский дух, желание себя показать, некоторая бравада; а потом уже, после года [службы], – больший рационализм в поведении, – чтобы лишних движений не делать, лишний раз не подставиться нигде, ну и, как положено, саму задачу выполнить...»
Порою страх «притупляется» от чрезмерной усталости, истощения сил, моральной подавленности, когда человек становится безразличен к опасности. Такое состояние вызвано длительным пребыванием военнослужащих в экстремальных боевых условиях без отдыха, замены, отпусков. Бывает, что опасность вызывает не страх, а чувство боевого возбуждения, которое связано со своеобразным состоянием чрезвычайной активности. В некоторых случаях осознание опасности вызывает особое состояние, сходное с любопытством или азартом борьбы. И, наконец, участие в боях способно до неузнаваемости изменить характер человека, робкого и скромного в мирной жизни, превращая бесстрашие в одно из свойств его личности. При этом необходимо отметить, что бесстрашие заключается все же не в полном отсутствии страха, а в его активном преодолении.
Страх – всеобщее, но достаточно сложное, индивидуально окрашенное чувство. «Для меня, участника нескольких войн, не существует людей ни храбрых, ни трусливых, а есть лишь люди, умеющие в большей или меньшей степени владеть своими нервами, – утверждает Г.Н. Чемоданов. – Я знал людей, распускавшихся от небольшой опасности и хладнокровных в минуту смертельных ужасов. Настроение, самолюбие, чувство долга – вот главные факторы, руководящие человеком в боевой обстановке».
Будто откликом на эти слова звучат воспоминания ветерана Великой Отечественной, бывшего командира пулеметного взвода, лейтенанта в отставке В. Плетнева: «Страх за собственную жизнь, а порой, не скрою, и обреченность чувствовал, наверное, чуть ли не каждый из пехотинцев, наиболее из всех родов войск выбиваемых фронтом. Но все-таки выше, сильнее чувств каждого из нас как индивидуума было наше общее солдатское чувство и сознание, что без всех нас, без тяжелых потерь, без фронтового братства, взаимовыручки победы не добыть, и мы говорили: «Если не мы, то кто? Лишь бы хватило нас на победу! Скорей бы!» Наверное, такое чувство и есть чувство долга».
Майор-»афганец» В.А. Сокирко в ответе на вопрос «Какие чувства вы испытывали в боевой обстановке?» признался: «Первый раз я испытал страх, когда колонна, выдвигающаяся на боевые действия, попала в засаду, причем, засаду очень мощную, хорошо подготовленную, спланированную. У нас были подожжены в ущелье первые машины, колонна встала, и ее пытались расстрелять. Отбивались мы, в общем-то, неплохо, но когда я впервые увидел стреляющих в меня, с расстояния в 25-50 метров, а это, видимо, были обкуренные фанатики, потому что шли они без прикрытия в психическую атаку, – вот тогда страх был, и дрожь меня била, постоянно какая-то дрожь неприятная, потому что ее никак нельзя было унять. А успокоило то, что рядом со мной возле машины залегли два солдатика-связиста, у них был один автомат на двоих, и когда я посмотрел, как они по очереди стреляли из этого автомата, причем, когда один стрелял, второй давал ему целеуказания – показывал, откуда выскакивают «духи», – и вот так они менялись, и такое у них было спокойствие, какой-то детский азарт, как при игре в войну, что меня это успокоило. А потом уже во всяких ситуациях я старался держать себя в руках, и это получалось. Но, естественно, при звуке выстрелов в душе что-то всегда сжимается».
Как бы ни определяли психологи те чувства, которые испытывают в экстремальной ситуации комбатанты, можно с полным основанием утверждать, что абсолютно спокойного состояния в боевой обстановке не бывает. «...Спокойных нет, это одна рыцарская болтовня, будто есть совершенно спокойные в бою, под огнем, – этаких пней в роду человеческом не имеется. Можно привыкнуть казаться спокойным, можно держаться с достоинством, можно сдерживать себя и не поддаваться быстро воздействию внешних обстоятельств, – это вопрос иной. Но спокойных в бою и за минуты перед боем нет, не бывает и не может быть», – писал участник Первой мировой и Гражданской войн Д.А. Фурманов.
Само отношение к смерти на войне иное, чем в мирное время. Для того, кто ежечасно стоит перед возможностью собственной гибели и несет гибель другим по принципу «Если не выстрелишь первым, убьют тебя», кто каждый день одного за другим теряет и хоронит товарищей, – смерть волей-неволей становится привычным элементом повседневного быта, а ценность человеческой жизни как таковой нивелируется.
«Вид мертвеца в обстановке мирной жизни вызывает у очень многих некоторое чувство страха, которое обусловливается таинственностью акта самой смерти, – отмечает в 1923 г. участник двух войн П.И. Изместьев. – В военной обстановке отношение к трупу убитого совершенно другое. Первые дни пребывания на войне трупы убитых внушают какой-то страх, а затем к ним относятся безразлично. Весьма характерно, что труп одного убитого вначале производит большее впечатление, чем десятки или даже сотни таковых впоследствии. Причина смерти на поле боя каждому ясна, она не представляет ничего загадочного, хотя, в сущности, факт самой смерти должен быть так же таинственен, как и при мирной обстановке. Несомненно, что в данном случае играет большую роль некоторое притупление способности нервной системы реагировать на впечатления».
Добавим от себя, что такое «притупление чувств» является защитной реакцией нервной системы, которая на войне и без того напряжена до предела. Подобное наблюдение делает в своих мемуарах и Г.Н. Чемоданов: «Печальное поле проходили мы. Везде смерть в самых ужасных формах. Но нет отвращения, жути, нет чувства обычного уважения к смерти. Крышка гроба, выставленная в окне специального магазина, помнится, оставляла большее впечатление, чем этот ряд изуродованных, окровавленных трупов. Притупленные нервы отказывались совершенно реагировать на эту картину, и все существо было полно эгоистичной мыслью: “а ты жив”«.
Бывший военврач Г.Д. Гудкова описывает те же самые ощущения, испытанные ею во время Второй мировой: «Чудовище войны многолико. На фронте, как это ни ужасно, человеческую смерть, даже если человек молод, со временем начинаешь воспринимать как обыденное явление. Чувство отчаяния, чувство невосполнимости потери если и не исчезает полностью, то притупляется. А если обострится – его подавляешь, чтоб не мешало».
Впрочем, в данном случае накладывает свой отпечаток и специфика профессии: у медиков и в мирной жизни вырабатывается «защитный барьер» при виде человеческих страданий и смерти, с которыми они сталкиваются ежедневно по роду своей деятельности. При этом у них формируется даже своеобразный «черный юмор», производящий на других людей шокирующее впечатление.
Особенности восприятия человеком ужасов войны зависят также от устойчивости его психики. Кто-то умеет сдерживать эмоции и сравнительно быстро привыкает к увиденному, у других процесс адаптации к подобным явлениям протекает более болезненно, порой присутствуют неадекватные реакции. Свидетельства такого рода встречаются в воспоминаниях участников советско-афганской войны.
«Один солдатик, – рассказывал разведчик-десантник майор С.Н. Токарев, – молодой, только что из Союза приехал, позанимались с ним там, курс молодого бойца прошел, – и вот впервые увидел подрыв. Выбросило из БРДМа водителя, он еще жив был, но ... [изувечен] безобразно... Большой фугас под левым колесом оказался. Только что ехал – и... Даже вот сейчас с ужасом вспоминаю... А он впервые такое увидел, – ну и неадекватное поведение... В принципе, нормальная реакция психики на ненормальную обстановку. Остальные уже притерлись... Не хочу сказать, что это какой-то эффект привыкания к таким картинам, но тем не менее...». По его же словам, чувство страха, когда человек в первый раз видел погибшим другого человека, носило довольно своеобразный оттенок: не столько перед самим фактом смерти, сколько перед ее безобразным видом. Страшило не то, что сам умрешь, а то, что «вот будешь ты лежать такой раздувшийся, синий, некрасивый, и, может быть, какая-то брезгливость будет у тех, кто на тебя смотрит». Такие чувства высказывались довольно часто, но постепенно и они уходили на второй план.
Впрочем, на войне возникает проблема психологического привыкания не только к виду чужой, но и к мысли о возможности своей смерти, результатом чего становится притупление чувства самосохранения. Об этом 29 июня 1986 г. записал в своем афганском дневнике командир батальона М. М. Пашкевич: «Основная проблема – потери... Люди гибнут – это не может быть нормой. Люди устают, устают физически и морально. Притупляется чувство опасности, и гибнут. Нужен постоянный психологический допинг. Стиль работы [командира] должен быть таким, чтобы любым способом заставить чувствовать опасность... Самое страшное, что к мысли о возможной смерти как-то привыкаешь. И это расхолаживает».
«Нормальное» отношение к смерти возвращается к бывшим комбатантам, как правило, уже в мирной обстановке, после войны, но далеко не сразу. А на самой войне особое восприятие смерти оформляется у них в одну из сторон мировоззрения.
«Кто-то поднимется, кто-то не встанет,
Сердце разбив о гранитную твердь:
В Афганистане, в Афганистане
Цены иные на жизнь и на смерть», –
написал в 1980-х гг. участник Афганской войны, офицер и поэт Игорь Морозов.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что в экстремальных обстоятельствах войны и особенно в ситуациях, представляющих собой квинтэссенцию всех ее опасностей, крайнего напряжения физических и моральных сил ее участников, наиболее отчетливо реализуются и проявляются сложные механизмы рационального и иррационального в человеческой психологии. В этих обстоятельствах иррациональное выступает в качестве механизма психологической защиты, способствующей самосохранению психики человека в, по сути, нечеловеческих условиях. Иррациональная вера, которая выступает в форме «солдатского» фатализма, смягчает действие острейших стрессов, притупляет страх за собственную жизнь, отдавая ее в руки неких сверхъестественных сил (рока, судьбы, Бога и т.д.), как бы «разгружает» психику, освобождая ее от избыточных эмоций для рациональных решений и действий. Поэтому, даже с сугубо прагматической точки зрения, можно считать, что подобные «суеверия» в целом выполняют позитивную функцию, за исключением тех ситуаций, когда фатализм несет в себе негативные установки (например, человек «предчувствует», а чаще всего внушает себе, что непременно погибнет, и подсознательно действует в соответствии с этой деструктивной программой, доводя ее до реализации).
Военно-профессиональные категории на войне.
Профессиональная военная психология и ее особенности.
Другим важным элементом групповой военной психологии является психология профессиональная. Армия подразделяется на виды вооруженных сил и рода войск, условия деятельности которых существенно различаются, обусловливая тем самым наличие разных представлений, точек зрения на войну через призму конкретных боевых задач и способов их выполнения. Вот как понимает групповую военную психологию П.И. Изместьев: «В армии... могут быть группы, деятельность которых основана на отличных одни от других базисах, имеющих дело с отличными одни от других машинами, военное бытие которых создает далеко не однородное сознание... Под групповой военной психологией я мыслю психологию разных родов войск».
И далее продолжает: «Если проследить каждый род войск, то мы должны прийти к заключению, что на дух его влияет вся особенность, специфичность всех тех условий, в которых ему приходится исполнять свою работу».
Учитывая, что вид вооруженных сил – это их часть, предназначенная для ведения военных действий в определенной среде – на суше, на море и в воздушном пространстве, можно говорить о существенных особенностях психологии представителей сухопутных войск (армии), военно-воздушных сил (авиации) и военно-морских сил (флота). Все эти виды вооруженных сил имеют присущие только им оружие и боевую технику, свою организацию, обучение, снабжение, особенности комплектования и несения службы, а также способы ведения военных действий. Но каждый вид, в свою очередь, состоит из родов войск, обладающих особыми боевыми свойствами, применяющих собственную тактику, оружие и военную технику.
До XX в. существовали два вида вооруженных сил, сухопутные и морские, и три рода войск: пехота, кавалерия и артиллерия. С созданием нового оружия и военной техники, а также с изменением способов ведения боевых действий, уже в начале столетия возникла авиация, появились новые рода войск, а кавалерия, хотя и постепенно, но к середине века полностью утратила свое значение. Со временем различия между родами войск возрастали, неизбежно формируя у каждого из них свой собственный взгляд на войну. При этом особенности восприятия военной действительности представителями разных родов войск и военных профессий определяются следующими наиболее существенными условиями:
1) конкретной обстановкой и задачей каждого бойца и командира в бою;
2) наиболее вероятным для него видом опасности;
3) характером физических и нервных нагрузок;
4) спецификой контактов с противником – ближний или дальний;
5) взаимодействием с техникой (видом оружия);
6) особенностями военного быта.
Все эти признаки получают окончательное оформление в период Второй мировой войны, но проявляются уже в начале века, хотя там они менее выражены.
Уже русско-японская война была войной совершенно нового типа, потому что велась новыми боевыми средствами. В ней впервые в русской армии были широко применены магазинные винтовки (системы капитана Мосина), пулеметы, скорострельные пушки, появились минометы, ручные пулеметы, ручные гранаты. Иным стал и размах военных действий, которые вышли за рамки боя и сражения.
Фортификационные сооружения (люнеты, редуты) остались в прошлом: им на смену пришли оборонительные позиции, оборудованные окопами, блиндажами, проволочными заграждениями, протянувшиеся на многие десятки километров. Оборона стала глубокой и эшелонированной. Действия пехоты в сомкнутых строях и штыковой удар как ее основа потеряли свое значение, поскольку широко применялись новые средства борьбы, а сила огня резко возросла. В дальнейшем влияние технических переворотов в средствах ведения войны на характер боевых действий, условия и способы вооруженной борьбы не только сохранялось, но стало перманентным, периоды между техническими «микро-революциями» в области вооружений сокращались.
Что же мы видим в Первую мировую войну? Военный флот существовал и ранее, со своими законами и традициями. Однако в этот период впервые широко применяются в боевых действиях подводные лодки. Уже существует авиация. Хотя она используется в основном для разведки и оперативной связи, но постепенно нарабатывается опыт бомбовых ударов и воздушных боев с неприятелем. Вместе с тем, внутри сухопутных сил такой важный фактор, как развитие техники, еще не дает резкого разделения, несмотря на то, что уже активно применяются бронемашины, бронепоезда, появляются первые танки, то есть зарождаются механизированные части. При этом пехота, кавалерия и артиллерия продолжают оставаться в очень сходных условиях, определяющих многие общие черты психологии «сухопутных» солдат. Более того, по сравнению с войнами прошлого, они на этом этапе даже сближаются.
«Если мы вдумаемся в современную организацию вооруженных сил, особенно при тенденции к машинизации армии, – писал в 1923 г. П.И. Изместьев, – то мы увидим, что каждому роду войск приходится иметь дело с различными машинами. Пехота пережила те же периоды земледельческой общины и мануфактуры и перешла в век машинного производства, т. е. от простого ударного оружия, лука, пращи, арбалета, перешли к автоматическому оружию. Конница, владевшая только холодным оружием, сблизилась постепенно с пехотой, сохраняя способность к сильному ударному действию и к подвижности, должна быть готова к действию машинами и т.д. Следовательно, без особой натяжки можно сказать, что служащие в различных родах войск стали ныне более близки друг к другу, чем прежде в своей работе».
Пожалуй, здесь с Изместьевым можно и поспорить. Если и происходило в тот краткий исторический период некоторое сближение между сухопутными родами войск в использовании технических средств, то лишь затем, чтобы в дальнейшем они резко и радикально размежевались: кавалерия постепенно сошла на нет, а ее подвижность сменила мобильность механизированных, прежде всего, танковых частей. Артиллерия также стала мобильной и дифференцированной по мощности и дальности стрельбы. А пехота так и осталась пехотой, хотя неуклонно нарастала ее механизация, огневая мощь и мобильность. Интересен и такой исторический казус: на перепутье технического перевооружения чуть не появился новый «род войск» – имели место случаи использования таких «мобильных» подразделений, как отряды велосипедистов (например, в августе-сентябре 1914 г. в ходе Восточно-Прусской операции, со стороны немцев).
Несмотря на некоторые элементы сближения, у каждого из родов войск всегда существовали важные особенности как в условиях боевой деятельности, так и в деталях повседневного быта.
«...Артиллерист, например, особенно тяжелой артиллерии, – отмечал вскоре после окончания Первой мировой войны А. Незнамов, – меньше подвергается утомлению, почти нормально питается и отдыхает, до него редко долетают пули винтовки, пулемета, но зато на него обращено особое внимание противника-артиллериста, и он должен спокойно переносить все, что связано с обстрелами и взрывами, часто очень сильными, фугасных снарядов. Он должен спокойно и точно работать (его машина много сложнее пехотного оружия), в самые критические периоды боя. От точности его работы зависит слишком многое, так как артиллерия очень сильно воздействует на течение боя».
А вот не теоретическая оценка, но непосредственные личные впечатления и опыт участника Первой мировой «из окопа». В 1916 г. прапорщик А.Н. Жиглинский отмечал различную степень опасности для разных родов войск: «Не хочу хвастать, но мне уж не так страшно, как раньше, – да почти совсем не страшно. Если бы был в пехоте, – тоже, думаю, приучил бы себя к пехотным страхам, которых больше».
И далее: «Единственное, что мог я уступить животному страху моей матери, – это то, что я пошел в артиллерию, а не в пехоту».
Здесь уже ясно прослеживается специфика «страхов» и риска у профессиональных категорий на войне.
В середине и в конце века та же артиллерия и особенно авиация имели преимущественно «дальний» контакт с противником, принимающий характер стрельбы «по мишени». «Мы никогда не видим последствий своей работы, – записал 24.08.1941 г. в дневнике стрелок-радист Г.Т. Мироненко, – а те, кто находится вблизи от нашей цели, наблюдают ужасные картины бомбежек».
О том же свидетельствует участник Афганской войны полковник авиации И.А. Гайдадин: «Крови мы не видели, – вспоминает он. – То есть мы наносили удар, а потом нам говорили, что, по данным разведки, такой-то объект уничтожен, столько-то народу побито. А кто они, что они... Эта особенность в какой-то мере вызывала даже безразличие: когда стреляешь на расстоянии и не видишь противника “глаза в глаза”«.
Однако в Первую мировую практически для всех родов войск преобладал именно «ближний» контакт, что накладывало особый отпечаток на психологию людей, ясно видевших «последствия» своей боевой деятельности, которая заключается в необходимости убивать. В этот период штыковая и кавалерийская атака были весьма распространенными, обыденными видами боя, оставшимися от прошлых войн. Так же как и потом, в братоубийственной Гражданской.
Наиболее определенно дифференцированность родов войск проявилась в ходе Второй мировой войны. Соответственно и психологическая их «особость» здесь всего очевиднее: в отличие от предшествующих войн она достигла полного развития и проявилась наиболее ярко. Поэтому мы уделим Великой Отечественной войне максимум внимания.
Начнем с главного фактора, влияющего на психологию родов войск в условиях боевых действий – со специфики видов, форм и степени опасности, присущих каждому из них. «Чувство опасности присутствует у всех и всегда, – писал в 1942 г. К. Симонов. – Больше того. Продолжаясь в течение длительного времени, оно чудовищно утомляет человека. При этом надо помнить, что все на свете относительно... Человеку, который вернулся из атаки, деревня, до которой достают дальнобойные снаряды, кажется домом отдыха, санаторием, чем угодно, но только не тем, чем она кажется вам, только что приехавшим в нее из Москвы».
При огромном количестве случайностей, неизбежных на войне, каждому роду войск соответствовал свой собственный, наиболее вероятный «вид смерти». Для летчика и танкиста самой реальной была опасность сгореть в подбитой машине, для моряка – утонуть вместе с кораблем вдали от берега, для сапера – подорваться на мине, для пехотинца – погибнуть в атаке или под обстрелом, и т.д. и т.п. При этом, привыкая к «своему» виду опасности и со временем почти не реагируя на него, солдаты, оказавшись в непривычных условиях, иногда терялись, испытывая чувство страха там, где представители других родов войск чувствовали себя естественно и непринужденно, так как для них именно такая обстановка была повседневной реальностью.
Вот как описывает подобную ситуацию бывший танкист, полный кавалер ордена Славы И. Архипкин: «Воевать везде одинаково трудно, что в пехоте, что в танковых... Но, как бы сказать, пехотинцу, он окоп выкопал, лег, понимаете, – и отстреливайся. А если он в танк попадет? Вот у нас десантники были, танкодесантники... Ну, там по нескольку человек – по шесть, по восемь на танке, когда сколько. И командир отделения у них, боевой такой парень, симпатичный, красивый, грудь в орденах вся. И вот, бывало, попросим его: давай, мол, в танк залезем – ну, когда по стопочке там есть, все такое. Так он залезет, стопку выпил, схватил кусочек колбасы там или сала – все, он выскакивает. Я, говорит, не могу в нем сидеть: понимаете, вот какое-то ощущение – снаряд прилетит сейчас, попадет... А уж земля, говорит, она меня и укроет, и все тут».
Если на пехотинца «давило» тесное, замкнутое пространство танка, казалось, что все пушки врага нацелены на этот «стальной гроб» и достаточно одного попадания, чтобы его уничтожить, то танкист, в свою очередь, очень неуютно чувствовал себя в бою под открытым небом, когда не был защищен броней от пуль и осколков. Так же и летчик, по неблагоприятному стечению обстоятельств оказавшийся в наземных войсках, с трудом адаптировался в новых условиях.
На войне каждый видел жизнь через то дело, которым занимался, имея свой собственный «радиус обзора»: пехотинец – окоп, танкист – смотровую щель танка, летчик – кабину самолета, артиллерист – прицел орудия, врач – операционный стол. Но разница в их восприятии войны была обусловлена также тем, что, выполняя, каждый по-своему, тяжелую солдатскую работу, связанную на войне с необходимостью убивать, представители разных родов войск осуществляли ее по-разному: кто-то вблизи, встречаясь с противником лицом к лицу, успевая увидеть его глаза; а кто-то на расстоянии, посылая снаряд или бомбу в намеченную цель и не всегда представляя размеры разрушений и количество смертей, вызванных этим снарядом. Для последних противник не был «очеловечен», представляясь, скорее, безликой фигуркой на мишени. Убивать вблизи было труднее и страшнее. Вот как вспоминает рукопашный бой бывшая санинструктор О.Я. Омельченко: «Это ужас. Человек таким делается... Это не для человека... Бьют, колют штыком в живот, в глаз, душат за горло друг друга. Вой стоит, крик, стон... Для войны это и то страшно, это самое страшное. Я это все пережила, все знаю. Тяжело воевать и летчикам, и танкистам, и артиллеристам, – всем тяжело, но пехоту ни с чем нельзя сравнить».
Впрочем, в бою выбора не было, все сводилось к простой дилемме: либо ты успеешь убить первым, либо убьют тебя. Танкисты, не только стрелявшие из башенного орудия и пулеметов своей машины, но и давившие гусеницами огневые точки врага вместе с прислугой, «утюжившие» вражеские траншеи, подобно пехоте входили в непосредственное соприкосновение с противником, то есть убивали вблизи, хотя и посредством техники. Психологически для них особенно тяжело было «ехать по живому». Но в других родах войск это происходило не так заметно и менее болезненно для человеческой психики. «Наш лагерь стоял в лесу, – вспоминает бывшая летчица А.Г. Бондарева. – Я прилетела с полета и решила пойти в лес – это уже лето, земляника была. Прошла по тропинке и увидела: лежит немец, убитый... Знаете, мне так страшно стало. Я никогда до этого не видела убитого, а уже год воевала. Там, наверху, другое... Все горит, рушится... Когда летишь, у тебя одна мысль: найти цель, отбомбиться и вернуться. Нам не приходилось видеть мертвых. Этого страха у нас не было...».
XX век с бурно развивающимся техническим прогрессом предопределил возникновение системы «человек – машина». Военная техника объединяла такое количество людей, какое было необходимо для ее функционирования в бою, создавая тем самым особый вид коллектива с особыми внутренними связями: пулеметный и орудийный расчет, танковый и летный экипаж, команду корабля и подводной лодки, и т.д. Возник и такой феномен человеческих отношений, как «экипажное братство», наиболее ярко проявлявшееся у танкистов и летчиков. Несколько человек, заключенных в один стальной или летающий «гроб», в одинаковой степени рисковали жизнью, и жизнь всех членов экипажа в бою зависела от четкости и слаженности действий каждого, от глубины эмоционального контакта между ними, понимания друг друга не только с полуслова, но и с полувзгляда. Чем сильнее были подобные связи, тем больше была вероятность уцелеть. Поэтому вполне закономерным является тот факт, что командир танка всегда делился своим офицерским доппайком со всем экипажем. Покидая горящую машину, уцелевшие танкисты вытаскивали из нее не только раненых, но и убитых. Боевая действительность определяла кодекс поведения и взаимоотношения людей.
Еще один аспект проблемы «человек и техника» – это превращение некоторых родов войск в элитарные – не по принципу подбора кадров, а по стратегическому значению в данной войне и формированию особой психологии личного состава. В Великую Отечественную таким особым сознанием своей значимости отличались бронетанковые войска, авиация и флот, причем, военно-воздушные и военно-морские силы – наиболее ярко. В психологическом плане у летчиков и моряков было много общего. В бою и для тех, и для других гибель боевой техники почти всегда означала собственную гибель – самолет, подбитый над территорией противника, оставлял экипажу, даже успевшему выпрыгнуть с парашютом, мало шансов на спасение; у моряков с потопленного корабля было также мало шансов доплыть до берега или быть подобранными другим судном. Поэтому у других родов войск те и другие слыли за отчаянных храбрецов. Впрочем, они и сами старались поддерживать подобную репутацию. Летный состав, состоявший преимущественно из офицеров, имел ряд льгот и особые традиции.
Традиции на флоте были более древними, так же, как и сам флот, и соблюдались с необыкновенной тщательностью, являясь для представителей других родов войск предметом зависти и восхищения. В воспоминаниях капитан-лейтенанта Л. Линдермана, командира БЧ-2 минного заградителя «Марти», есть такой эпизод. При эвакуации с полуострова Ханко в Ленинград сухопутных войск на борту корабля их размещали следующим образом: командный состав – в каюты комсостава, старшин – в старшинские, личный состав – по кубрикам. Командир стрелкового полка, оказавшись в роскошной офицерской каюте, где царили идеальные чистота и порядок, а затем в кают-компании за накрытым крахмальной скатертью, сервированным, как в хорошем ресторане, столом, не выдержал и воскликнул: «Ну, ребята, в раю живете, ей-богу! Даже лучше: там пианино нет и картин по стенкам... Да... Так воевать можно!»
И только по окончании тяжелейшего похода, в котором экипажу пришлось вести напряженную борьбу с плавучими минами, авиацией и береговой артиллерией противника, признал, прощаясь: «Уж ты извини меня, моряк, за тот разговор о райской жизни. Скажу откровенно: лучше два года в окопах, чем две ночи такого похода».
Незначительные преимущества в быту, которыми пользовались моряки и летчики, были ничтожной компенсацией за те труднейшие условия, в которых им приходилось сражаться. И, наконец, в отношении человека к своей боевой машине, будь то танк, самолет, корабль или подводная лодка, было что-то от отношения кавалериста к лошади: техника воспринималась почти как живое существо и, если была хоть малейшая возможность ее спасти, даже рискуя собственной жизнью, люди это делали. Впрочем, в этом проявлялась и воспитанная сталинской системой привычка ценить человека дешевле, чем самый простой механизм, тем более на войне.
Человек на фронте не только воевал – ни одно сражение не могло продолжаться бесконечно. Наступало затишье – и в эти часы он был занят работой, бесконечным количеством дел, больших и малых, выполнение которых входило в его обязанности и от которых во многом зависел его успех в новом бою. Солдатская служба включала в себя, прежде всего, тяжелый, изнурительный труд на грани человеческих сил. Бывший пехотинец А. Свиридов вспоминает: «Все рода войск несли тяготы военных лет, но ничего не сравнится с тяготами пехоты. Кончалось преследование противника, и солдат-пехотинец, если его не зацепила пуля и не задел осколок, переходил к обороне. И начиналась изнурительная физическая работа – окапывание. В подразделении после наступательных боев бойцов оставалось мало, а фронт обороны прежний – уставной. Вот и копал наш труженик за троих, а то и за четверых. Ночь копал до изнеможения, а перед рассветом всю выброшенную из окопа землю маскировал снегом. И день проходил в муках, потому что ни обсушиться, ни обогреться негде было. Разогреться, распрямиться нельзя: подстрелит враг. Заснуть тоже невозможно – замерзнешь. И так, шатаясь от усталости, дрожа от холода, он коротал день, а ночью – снова надо было копать. Весной и осенью в ячейках, ходах сообщения, да и в землянках воды набиралось почти по колени, день и ночь она хлюпала в сапогах. Иной раз по команде в атаку подняться сразу не всегда удавалось: примерзала шинель к земле и не слушалось занемевшее тело. Ранение воспринималось как временное избавление от мук, как отдых».
Пехота, «царица полей», великая труженица войны, не была однородной. Она включала в себя множество боевых профессий с присущей им спецификой. Так, в наиболее сложных условиях приходилось действовать снайперу-»охотнику», в течение долгих часов, выслеживая врага, чтобы поразить его с первого выстрела, а самому остаться незамеченным, не дать себя обнаружить. Здесь требовались огромная выдержка и хладнокровие, особенно во время снайперской дуэли, когда в смертельный поединок вступали равные по меткости и сноровке противники. Такие же качества требовались и для пехотной разведки, которая, по словам Владимира Карпова, всегда была «ближе других к смерти», отправляясь на задание в тыл врага – в поиск за «языком» или в разведку боем, специально вызывая огонь противника на себя.
«Я вскоре понял разницу между обыкновенной пехотой и разведкой, – писал в военных записках Д. Самойлов. – Назначение пехоты – вести бой. Разведки – все знать о противнике. Ввязывание в бой (если это не разведка боем), в сущности, для разведки – брак в работе. Пехоте легче в обороне, особенно в долгосрочной. Разведке легче в наступлении, когда для того, чтобы ворваться в расположение противника, не надо преодолевать минные поля и проволочные заграждения».
Из всех многочисленных видов разведки (за исключением агентурной), пехотная разведка была самой опасной и напряженной.
Не меньшие, чем у пехотинцев, нагрузки приходились на долю артиллеристов, тащивших на себе тяжелые пушки по размытым и разбитым дорогам войны. Велико было и их психологическое напряжение в бою. Не случайно в наводчики орудия выбирали самых волевых и хладнокровных.
«На тебя идет танк, – вспоминает фронтовик К.В. Подколзин. – Ты видишь его в прицел. Как бы ни было тебе страшно, надо подпустить его ближе. Осколки стучат, а ты должен точно наводить, не ошибиться, не дрогнуть. Ведь орудие само не стреляет».
Другой бывший артиллерист В.Н. Сармакешев описывает свое состояние так: «В горячке боя взрывы никто не считает, и мысли только об одном: о своем месте в бою, не о себе, а о своем месте. Когда артиллерист тащит под огнем снаряд или, припав к прицелу, напряженно работает рулями горизонтального и вертикального поворота орудия, ловя в перекрестие цель (да, именно цель, редко мелькает мысль: «танк», «бронетранспортер», «пулемет в окопе»), то ни о чем другом не думает, кроме того, что надо быстро сделать наводку на цель или быстро толкнуть снаряд в ствол орудия: от этого зависит твоя жизнь, жизнь товарищей, исход всего боя, судьба клочка земли, который сейчас обороняют или освобождают».
А танкисты в бою задыхались от пороховых газов, скапливавшихся внутри танка, когда стреляло орудие, и глохли от производимого им грохота. Командир и башнер могли не только сгореть заживо вместе с танком, но и быть разорванными пополам, когда от прямого попадания отлетала башня. По горькому, но меткому определению одного из ветеранов, «судьба танкиста на войне – это обгорелые кисти рук на рычагах подбитой машины».
По-разному влияли на представителей разных родов войск и особенности местности, где велись боевые действия, и природно-климатические условия. Характерным примером может служить переход наших войск через пустыню Гоби в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 г.: «Для нашего полка воды требовалось больше, чем для любого другого, – вспоминает участник этих событий бывший артиллерист А.М. Кривель, – нужно было напоить лошадей. Наши четвероногие друзья в эти дни научились не хуже человека пить из фляги. И солдаты делили с ними те скудные капли, которые получали из «централизованного» фонда. Еще труднее было танкистам. В металлической коробке танка жаркий, будто расплавленный воздух, руками не тронешь нагретое железо. У всех пересохло в горле, стали сухими губы. Танки передвигались на расстоянии ста метров друг от друга. Взметенный горячий песок набивался внутрь, слепил глаза, лез во все щели, как наждак, перетирал стальные детали гусениц».
Впрочем, при всех различиях, присущих разным родам войск, те из них, которые относились к сухопутным войскам, имели между собой много общего, – именно потому, что сражались на земле. У летчиков восприятие боевой обстановки было качественно иным, как и сама эта обстановка. Они испытывали особый риск и особые нагрузки, причем, для каждого вида авиации свои, но эти различия не столь значительны и существенны, так как реальность воздушного боя была единой для всех.
«Воздушный бой длится мгновения, – вспоминает бывший летчик-истребитель И.А. Леонов. – И бывали у нас в полку случаи, когда за эти несколько минут у молодых летчиков появлялась седина. Такое испытывали тяжелое нервное напряжение... Сначала видишь в небе крохотные точки. Не можешь даже определить – чьи летят самолеты: свои или чужие. Точки быстро растут. И по одному тому, как к тебе приближается вражеский летчик, идет ли в лобовую атаку – ты можешь определить, примерно, и опыт его, и норов. В бою, как говорится, приходится вертеть головой на 360 градусов. Отовсюду может достать враг. Бросаешь самолет в такие фигуры, которые в иное время, может быть, и не сделал бы. Ты заворачиваешь вираж, догоняя врага. Или на крутом вираже стараешься оторваться от него. Камнем направляешь машину вниз и круто выводишь из пике. В этот момент испытываешь большие перегрузки: веки сами закрываются, щеки обвисают от натуги, все тело будто налито свинцом. А самое главное в бою – ты должен в доли секунды принять единственно верное решение. От него зависит – выйдешь ли ты победителем или погибнешь. В те дни почти каждый вылет истребителей был сопряжен с воздушным боем. Мы искали врага в небе, чтобы победить. Приходилось вылетать по четыре-пять раз. Это было очень тяжело даже для молодых, тренированных летчиков. Случалось, кто-нибудь из ребят приведет самолет на аэродром и вдруг тяжело ткнется головой в приборы. Что такое? Ранен? Убит? Нет, потерял сознание от переутомления... Но молодость выручала нас. Пройдет два-три часа, и мы снова готовы к полету».
У моряков, особенно у подводников, были не менее чудовищные физические и нервные нагрузки. Вот описание только одного боевого эпизода, в котором участвовала гвардейская подводная лодка «Щ-303»: «Вражеские катера обнаруживают подводников и начинают бомбежку. Лодка оказалась в кольце противолодочных кораблей. Сорок пять часов она уже под водой. Тяжело дышать. У многих началось кислородное голодание. Чтобы меньше был расход кислорода, люди лежат – таков приказ командира. Слипаются глаза, клонит ко сну... Лодку сильно бомбят, и она ложится на грунт. Почти два часа продолжается бомбежка. «Два часа ада»... Чтобы уменьшить шумы на лодке, краснофлотцы сняли обувь, обмотали ветошью ноги и двигаются по палубе неслышно. Обстановка тяжелая. Люди задыхаются. Немеют пальцы, деревенеют подошвы ног, тело покалывает иголками. Уснул электрик Савельев. Дышит тяжело. На губах розовая пена... Мы не знаем, когда наступит смерть от удушья. По теоретическим расчетам, нам полагалось задохнуться после трех суток пребывания под водой...» – вспоминает командир лодки капитан 3-го ранга И.В. Травкин. Лодке удалось вырваться из блокады, пройдя под водой через минное поле. Выдержать подобное напряжение мог не каждый.
Но вот еще одна сторона войны – в восприятии тех, кто по роду своей службы спасал от смерти, облегчал страдания искалеченным, возвращал раненых в строй. «Мало кто задумывался и задумывается над тем, какие переживания выпали в годы войны на долю медицинского персонала наших войск, – пишет бывший военврач Г.Д. Гудкова. – А между тем война – даже в периоды успешных наступательных операций – оборачивалась к нам, медикам, исключительно тягостной, губительной стороной. Мы всегда и везде имели дело с муками, страданиями и смертью. Наблюдать это нелегко. Еще тяжелее хоронить тех, кого не сумел выходить, спасти. Тут не выручает никакой профессионализм... На войне мучения и страдания, даже гибель становится повседневным, рядовым уделом миллионов сильных, здоровых, как правило, именно молодых людей. Да и спасать жертвы войны приходится, не зная, избавишь ли их от новых мук или от неисправимой беды...».
По свидетельству многих, на фронте человеческая смерть со временем воспринималась как обыденное явление, чувство отчаяния и невосполнимости потери притуплялось. Психологическая разрядка наступала уже потом, и тогда случайные события из мирной послевоенной жизни вызывали в памяти болезненные ассоциации с тем, что пришлось пережить в войну. Многие медики были вынуждены бросить свою работу.
«После войны в родильном отделении акушеркой работала – и не смогла долго, – вспоминает бывший командир санитарного взвода гвардии лейтенант М.Я. Ежова. – У меня аллергия к запаху крови, просто не принимал ее организм. Столько я этой крови на войне видела, что больше уже не могла. Больше организм ее не принимал... Ушла из «родилки». Ушла на «Скорую помощь». У меня крапивница была, задыхалась...».
С другой стороны, большинство фронтовиков, связавших впоследствии свою судьбу с медициной, сделали это в знак высшей благодарности к тем, кто спасал им жизнь на фронте, в медсанбатах и госпиталях. Именно там уставшие убивать солдаты давали себе клятву: «Если останусь жив, буду так же спасать людей».
«Было в те первые послевоенные годы в нашем Медицинском институте, – вспоминает В.Н. Сармакешев, – стрелянных и покалеченных ребят около пятидесяти из двух тысяч студентов. Но самое удивительное то, что среди тех пятидесяти, пришедших с фронта, не было ни одного медика: пехотинцы, танкисты, артиллеристы, саперы, даже летчики, но ни одного фельдшера». У каждого из них была «своя» война и забыть о ней каждый тоже старался по-своему.
Взаимоотношения родов войск: взаимодействие и соперничество
Особую проблему представляют взаимоотношения родов войск. В бою они применяются, как правило, в тесном взаимодействии друг с другом – для наиболее эффективного использования боевых свойств каждого из них.
«Общая функция армии видоизменяется по родам войск... Каждый род войск должен быть проникнут сознанием своей специальной функции, но в то же время он должен сознавать, понимать, что эта специальная работа каждого в сумме должна составлять лишь слагаемую общей работы всей армии в целом. Отсюда ясно, что, допуская своего рода дух каждого рода войск, мы не можем допускать между ними розни», – подчеркивал П.И. Изместьев и имел для подобного заявления все основания.
Разделение армии по родам войск существовало еще с древности, и исторически сложилось, что одни из них являлись привилегированными, элитарными, где служили представители правящих слоев общества (например, конница, колесницы, иногда тяжелая пехота), а другие (в основном легкая пехота) оставались уделом простолюдинов. Элитарность конницы и непривилегированное положение пехоты сохранялись на всем протяжении исторического развития, порождая между ними своего рода антагонизм, снисходительное, а порой и презрительное отношение друг к другу. Наличие «психологической розни» между родами войск, причем не только старыми, но и новыми, недавно появившимися, отмечалось и в начале XX века.
«К сожалению, прежде между родами войск не было должной солидарности, а, наоборот, пышно процветал какой-то особый военный сепаратизм, который самым пагубным образом влиял на важнейший принцип, принцип “взаимной поддержки”, хотя и проповедывалось “сам погибай, а товарища выручай”«, – писал, основываясь на опыте русско-японской и Первой мировой войн, П. И. Изместьев.
О розни и отчужденности, которые в конце XIX – начале XX в. наблюдались не только между «родами оружия», но и между отдельными подразделениями внутри них, в том числе и среди офицерского состава, свидетельствует и А.А. Керсновский: «Гвардеец относился к армейцу с холодным высокомерием. Обиженный армеец завидовал гвардии и не питал к ней братских чувств. Кавалерист смотрел на пехотинца с высоты своего коня, да и в самой коннице наблюдался холодок между «регулярными» и казаками. Артиллеристы жили своим обособленным мирком, и то же можно сказать о саперах. Конная артиллерия при случае стремилась подчеркнуть, что она составляет совершенно особый род оружия... Все строевые, наконец, дружно ненавидели Генеральный штаб, который обвиняли решительно во всех грехах...».
Следует отметить, что неприязнь строевых офицеров к штабистам, фронтовиков к тыловикам характерна для всех без исключения войн. Что касается родов войск, то со временем отношения между ними становились более ровными, хотя отдельные элементы психологической «обособленности» продолжали сохраняться на всем протяжении XX столетия.
В период войны такая «отчужденность» во многом зависела от конкретных задач каждого рода войск в боевой обстановке, свойственных ему способов их выполнения, а следовательно, разного восприятия боевой действительности.
«Артиллерист должен поддерживать пехоту; пехоте кажется, что он ее плохо поддерживает, а ему кажется, что она плохо идет. Танкисты говорят, что пехота не пошла за танками; а пехотинцы говорят, что танки от нее оторвались. А истина боя где-то на скрещении всех этих точек зрения», – вспоминая Великую Отечественную, отмечал К. Симонов.
Впрочем, там, где взаимодействие было хорошо организовано и давало реальные результаты, «психологическая рознь» уступала место совершенно иным чувствам. Такого рода свидетельства встречаются, например, в записках военного корреспондента А.Н. Толстого за сентябрь 1914 г.: «Артиллерийская стрельба, как ничто, требует спокойствия и выдержки, причем это последнее качество заменяется у русского солдата несокрушимым хладнокровием, отношением к бою, как к работе. Про артиллерию так и говорят, что она работала, а не она стреляла или она дралась. Теперь, после месяца боев, пехотинцы смотрят на наших артиллеристов как на высших существ, в армии началось их повальное обожание, о них говорят с удивлением и восторгом; при мне один увлекшийся офицер воскликнул: “Я видел сам, как у них целовали руки”«.
Однако в период Первой мировой, по мере превращения войны в позиционную, действия своей артиллерии все чаще вызывали у солдат-окопников раздражение, а то и враждебность, потому что обстрелы ими противника неизбежно вызывали его ответный огонь по позициям все той же пехоты, которая привыкла подолгу сидеть в окопах в достаточно спокойной обстановке. А на заключительном этапе войны отношение к артиллеристам иногда перерастало в открытую ненависть, так как во время «братания» русской пехоты с неприятельскими солдатами по ней нередко стреляли свои же пушки, то есть артиллерия в этих условиях, по сути, оказалась в роли «заградотрядов» Великой Отечественной, выполняя карательную функцию против собственных войск.
Кстати, во Второй мировой советские солдаты-пехотинцы очень не любили, когда во время обороны на их участок приезжали легендарные «катюши» и, отстрелявшись по врагу, немедленно уезжали прочь, а разъяренный противник обрушивал всю огневую мощь на то место, откуда недавно велся обстрел и где теперь оставалась на своих позициях только пехота. Зато в период наступления прибытие реактивных артиллерийских установок означало, что враг еще до вступления в бой основных наших войск понесет значительные потери, его оборона окажется ослаблена, а значит, наступать будет легче и многие пехотинцы останутся в живых именно из-за своевременного залпа «катюш». Разумеется, в такой обстановке их встречали радостно и с энтузиазмом.
Особые отношения складывались у сухопутных войск с авиацией. В начале XX века человек наконец сумел подняться в небо на аппаратах тяжелее воздуха – и практически сразу стал применять новое изобретение для уничтожения себе подобных. Боевой путь авиации начался в период итало-турецкой и двух балканских войн (1911-1913 гг.). Таким образом, еще до Первой мировой войны появился и стал быстро развиваться принципиально новый вид войск.
К 1 августа 1914 г. русская авиация имела 244 машины, причем на каждый самолет приходилось в среднем по два летчика. К 1 июля 1916 г. Россия располагала на фронте 383 самолетами, из них находились в строю 250 и 133 в ремонте. За все время войны количество самолетов, одновременно находящихся в строю, в среднем не превышало пятисот. Роль авиации поначалу сводилась к воздушной разведке, фотографированию расположения вражеских частей. «От разведки произошла бомбардировка: отправляясь в полет, пилоты часто брали с собой бомбы, чтобы не только сфотографировать, но и разрушить объекты противника».
Затем на первый план постепенно выдвинулась необходимость бороться с самолетами противника: так возникла истребительная авиация. В то время еще не было специального бортового оружия, поэтому в первых воздушных боях широко использовались тараны, долгое время называвшиеся «битье колесами сверху». Кстати, именно такой таран применил П. Нестеров. Также сверху на неприятельские машины сбрасывали различные «снаряды» (дротики, гири, бруски металла, связки гвоздей), которыми старались повредить самолет или убить вражеского пилота. Затем летчиков стали вооружать пистолетами и карабинами, чтобы они могли застрелить врага в воздухе, а к 1916 г. авиация всех воюющих стран уже имела истребители, оснащенные встроенными пулеметами.
Однако с земли, из окопов казалось, что война в воздухе совершенно иная, чем внизу, свободная от крови и грязи. Не случайно в те годы летчиков называли «рыцари неба». Романтическое отношение к авиации и самих летчиков, и армии, и общества в целом было следствием недавнего рывка технического прогресса, непривычности такого рода деятельности, которое еще несколько десятков лет назад было просто немыслимым, фантастическим. Ассоциации с птицами, с Икаром, поэтизация летного дела имели и другую сторону: военное начальство достаточно долго относилось к этому виду войск весьма скептически, не давая ему возможности выйти за рамки второстепенного и вспомогательного. Даже в основной сфере, в которой в то время была задействована авиация, в разведке, предпочтение в начале войны отдавалось традиционному средству – армейской коннице. Так, в августе 1914 г. командующий 2-й армии в Восточной Пруссии генерал А. К. Самсонов пренебрег информацией своих летчиков, предупреждавших о движении неприятельского корпуса на правом фланге армии, за что, в частности, и поплатился, потерпев жестокое поражение. А вот в мае 1916 г., в знаменитом «Брусиловском прорыве» авиационная разведка сыграла одну из решающих ролей, обеспечив русское командование точной информацией о расположении всех австрийских частей, причем массового привлечения летчиков к разведке требовал сам А.А. Брусилов. Таким образом, в ходе Первой мировой войны произошла быстрая эволюция авиации, доказавшей, что она может быть действенной боевой силой, причем не только в разведке: начинали со сбрасывания гвоздей на «Цеппелины», а завершили войну массированным бомбометанием и значительной огневой мощью. Но в целом даже по количеству боевых самолетов в начале и в конце мировой войны можно сделать вывод, что в ее ходе значение авиации так и не выросло принципиально. Рывок произошел в период между двумя мировыми войнами, и в Великой Отечественной авиация уже представляла собой один из решающих видов вооруженных сил, когда господство в воздухе оказалось в ряду основных факторов победы или поражения.
Для советской авиации начало Великой Отечественной войны оказалось таким же трагичным, как и для всей армии. Только к полудню 22 июня она потеряла 1200 самолетов, причем 800 из них было уничтожено на земле, на приграничных аэродромах, даже не успев взлететь. В те дни, когда немецкое господство в воздухе было очевидным и почти не встречало противодействия, а бомбардировки германской авиации наводили ужас на гражданское население и наземные войска, отношение к летчикам было особым: все с нетерпением ждали появления немногочисленных «сталинских соколов», пытавшихся дать отпор превосходящим силам противника. Вот свидетельство участника тех событий.
«Грозовая облачность заставила нас сделать посадку вблизи станции Лоухи, – записал 24 августа 1941 г. в своем дневнике летчик Г.Д. Мироненко. – Как нас встречали! Нам не дали ничего делать самим. Все почему-то считали, что мы сильно устали... Пригласили на ужин. Видимо, все, что у них было лучшего, они выложили на стол... В Лоухи мы узнали, как наземники ценят авиацию. Мы ко всему привыкли, со всем сжились и в своей работе ничего не видели особенного. А со стороны, оказывается, видней...» «Нам нужно несколько дней, да и не без потерь, чтобы сделать то, что вы сегодня сделали», – говорили пехотинцы о результатах бомбежек и просили: «Вы только бейте авиацию!», утверждая при этом, что со «своим» врагом-пехотой и сами справятся.
Эти настроения показательны не только своим восторженным отношением к авиации, но и возлагавшимися на нее надеждами: в начале войны в массовом сознании преобладало убеждение, что главная задача советских летчиков бороться с самолетами противника. Однако к этому времени внутри самой авиации уже существовало четкое разделение на истребительную, штурмовую и бомбардировочную, причем каждый из этих видов выполнял специализированные задачи. При переходе советских войск в наступление радикально возрастала роль именно штурмовой и бомбардировочной авиации как средств поддержки наземных вооруженных сил.
Через несколько десятилетий, в других исторических условиях, особую роль в малой войне стал играть новый тип авиации – вертолетная. В Афганистане от своевременного прибытия вертолетов зависели не только доставка грузов, огневая поддержка наземных войск, но, в первую очередь, эвакуация раненых и убитых, спасение людей из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Действовала там и воздушная разведка. А вот истребителям в небе Афганистана делать было практического нечего ввиду отсутствия вражеских самолетов, хотя отдельные иногда залетали с территории Пакистана. Зато велика была роль штурмовой и бомбардировочной авиации: с количеством и качеством их ударов по вражеским объектам напрямую были связаны потери других родов войск.
«У нас была особенность та, что авиация – это офицерский вид войск, – вспоминает полковник Ю.Т. Бардинцев. – Трудности, они везде есть. Но что-то такое окопное – это уже не у нас». Внутри авиации, по его словам, какого-то психологического деления на летающую «элиту» и аэродромную «обслугу» не существовало. Напротив, у летчиков ощущение было такое, что огромное количество людей, подвозивших на аэродром горючее и средства поражения, разгружавших колонны, готовивших технику к полету, «работало на тебя, чтобы ты выполнил боевую задачу, и если ты задачу не выполнил, появлялось чувство вины перед ними».
При этом наиболее остро ощущалась вина перед теми, кто доставлял топливо, перевозил горюче-смазочные материалы. По свидетельству многих ветеранов Афганистана – десантников, разведчиков, то есть представителей самых уважаемых и героических военных профессий, – именно служба военных водителей была связана с наибольшей опасностью и риском для жизни.
«Самое страшное было – это когда «наливников» сопровождали. Я, например, понимаю, что это такое, – вспоминает майор П.А. Попов. – Там, в Афганистане, их называли «смертники». Одна пуля – и все... Там такой факел, что в радиусе 100 метров первые тридцать секунд воздуха нет, все выгорает, люди задыхаются... А в телевизоре показывают, что если горит бензовоз, подъезжает танк и спихивает его с дороги. Это такая лирика...».
Не было у авиации и какого-то психологического антагонизма с пехотой: были взаимопомощь и взаимозависимость, «чувство, что все мы едины и находимся в одной упряжке». Это объяснялось тем, что «авиация чаще всего работает в интересах наземных войск и совместно с наземными войсками». Для нанесения точного удара по цели требовалась грамотная работа авианаводчиков, специально обученных людей из самих наземных войск.
«Иногда расстояние между нашими войсками и войсками противника было всего 100, 200, 300 или 500 метров. Оказание помощи нашим в таких условиях – большой риск и большая ответственность: можно было нанести удар не по противнику, а по своим войскам, – отмечает Ю.Т. Бардинцев. – Выполнение общей задачи зависело от того, как налажена взаимосвязь авиации с наземными войсками».
Другой летчик полковник И.А. Гайдадин рассказывал, что они «не щадили ни сил, не средств, – только бы помочь наземным войскам», понимая, «что там, на земле, нашим солдатикам тяжелей», и «особенно с удовольствием летали, когда на переднем крае шли бои». По его утверждению, с общевойсковыми командирами у авиации был «полный контакт». Но особо теплые отношения складывались у летчиков с десантниками: стоявший на том же аэродроме парашютно-десантный полк помогал своим соседям «и морально, и физически». А когда десантникам была поставлена задача – уничтожить банду, на помощь им пришла авиация.
«Окружили они банду, а там оказалось три или четыре дота, с пушками, с пулеметами. Потеряли там пять или шесть человек, пока обнаружили огневые точки, – вспоминает И.А. Гайдадин. – И они вызвали нас. И нашим звеном был нанесен такой удар, что ничего там не осталось. После этого приехали командиры, говорят: «Спасибо, ребята, вы нас выручили. Мы не знали, что делать, как выкручиваться. Камни, – говорят, – не спрятаться нигде, а они бьют почти в упор». И мы были с ними с начала и до конца, и до сих пор дружим».
Среди родов самих наземных войск, пожалуй, в значительно большей степени присутствовал дух соперничества, соревновательности, чем между разными видами вооруженных сил, которые были слишком далеки друг от друга, а потому и «делить им было нечего». Шутливые прозвища, которыми награждали друг друга представители разных военных профессий, отражают внешнюю сторону их отношений. Со временем этот профессиональный «сепаратизм» если и не исчезает полностью, то смягчается и принимает достаточно невинные формы, например, создание собственных традиций, специфических ритуалов и т.п. Так, участник Афганской войны майор С.Н. Токарев отмечал существование особого духа корпоративности и кодекса чести у разведчиков-десантников, что, безусловно, влияло на настроение людей, играя мобилизующую роль в сложных обстоятельствах. Каждый знал, что его не бросят, чувствовал свою принадлежность к особому «маленькому этносу», который в любом случае защитит. Взвод воспринимался как семья.
«Даже когда на помощь высылали мотострелковую роту, чтобы они помогали трупы нам спускать, ответ был один: “Разведбат свои трупы несет сам!”« – вспоминает он.
По его словам, в их подразделении присутствовал «дух гордости своеобразной за принадлежность именно к разведке»: разведчик-десантник мог «где-то свысока смотреть на пехоту», соревноваться по уровню подготовки с обычными десантниками или со спецназовцами, сравнивая результаты и с удовольствием делая вывод: «Да нет, мы вроде лучше!»
Такой «особый дух» играл, несомненно, позитивную роль, ни в коей мере не перерастая во «вражду» с представителями других родов войск, но являясь мощным фактором сплоченности и боеспособности своего подразделения.
* * *
Таким образом, психологические особенности личного состава, связанные с его принадлежностью к конкретным видам вооруженных сил, родам войск и военным специальностям, представляют собой важный «срез» групповой военной психологии, накладывающей свой «отпечаток» не только на массовые категории военнослужащих, но и на каждого бойца и командира. Пожалуй, этот элемент психологии, наряду со спецификой, вытекающей из принадлежности к рядовому или командному составу, в наибольшей степени отражает собственно военно-психологические характеристики всех военнослужащих, приобретающих тем большую устойчивость и даже характерологические (индивидуально-личностные) свойства, чем дольше срок службы человека в армии. Это своего рода «профессиональная» психология, смыкающаяся с личностной. В боевых условиях подобный «профессионализм» впитывается человеком гораздо быстрее и приобретает более устойчивые формы.
На протяжении XX века, в том числе и от войны к войне, происходили определенные, весьма существенные изменения в структуре Российской (Русской, Красной, Советской) армий: происходила смена видов вооруженных сил, внутри которых, в свою очередь, менялся состав и приоритет тех или иных родов войск, происходило их слияние, размежевание, приход и уход с военно-исторической сцены, массовая смена – отмирание старых, зарождение и распространение новых военных профессий. Все это со временем – иногда постепенно, иногда скачкообразно, но в конце концов качественно, коренным образом изменяло профессиональный состав вооруженных сил, структуру деятельности большей части военнослужащих. Распространение сложной техники вызывало глубокую специализацию не только между видами вооруженных сил, но и между родами войск в их составе, и в рамках самих родов войск, вплоть до полкового, батальонного и даже ротного уровней. Такой резкой дифференциации, безусловно, не существовало даже в конце прошлого века, хотя, конечно, профессиональные различия между бойцом пехоты, кавалерии и артиллерии были весьма значительны. Новым в XX веке, причем нарастающим по глубине и масштабам, стало резкое усложнение профессиональных навыков, требующихся в каждой из военных специальностей, которых, в свою очередь, стало намного больше. Если, например, в начале столетия возникла такая новая профессия как «летчик», то к концу века принадлежность к авиации как виду вооруженных сил вовсе не свидетельствовала о том, что входящий в нее личный состав относился к одним лишь «летчикам»: здесь уже были десятки узкоспециализированных профессий, каждая из которых требовала специального, как правило, высшего образования и длительной подготовки. Даже разные типы машин требовали различной подготовки, а в составе экипажей существовало несколько должностей с соответствующими функциями (пилот, штурман, стрелок и т.д.). Резко увеличилось количество вспомогательного персонала (техники, ремонтники и т.п.). Виды вооруженных сил нередко стали «пересекаться», включая в себя родственные рода войск. Так, в Военно-Морском флоте появилась морская авиация. Свои десантные войска имеют и морские, и воздушные, и сухопутные силы, и т.д. Эволюция вооруженных сил под влиянием технического прогресса радикальным образом повлияла на личный состав, требования к которому резко повысились и по части уровня образования, и по специальной подготовке, и по интеллектуально-психологическим качествам.
В боевых условиях конкретных войн, в которых участвовала Россия в XX веке, «профессиональная» психология оказывалась особенно значимой, причем роль ее возрастала от одного вооруженного конфликта к другому, по мере развития видов оружия, усложнения технического оснащения войск и структуры вооруженных сил.
Девиантное поведение на войне*
А.Г. Караяни, В.Г. Чайка
Постановка вопроса об отклонениях на войне вполне оправданна, поскольку от некоторых девиантных поступков (например, предательство) нередко зависит жизнь многих военнослужащих и успех боевых операций, другие (самоубийство) оказывают угнетающее или разлагающее (мародерство) воздействие на участников боевых действий, третьи (пьянство, наркотизм) разрушают психическое здоровье воинов, четвертые (дезертирство, симуляция и т.п.) дезорганизуют их взаимодействие, значительно возрастает боевая нагрузка на добросовестных участников боевых действий и т.д. Для того чтобы разобраться в сущности девиантного поведения, необходимо рассмотреть понятие «норма».
Существует несколько представлений о норме поведения:
1. Норма как типичное (усредненное) поведение, характерное для большинства представителей данной социальной группы, признаваемое в этой группе как приемлемое. Эта норма облекается в форму, содержащую в себе механизм априорного социального прощения за девиацию, например: «на войне как на войне», «война все спишет» и др. Изучение показывает, что такие нормы практически всегда вырабатываются в воинских коллективах и служат мощным средством неформальной регуляции поведения военнослужащих в боевой обстановке. В подразделении, где нормой поведения является коллективизм, всякие тенденции к эгоизму, самоизоляции, «пупизму» жестко порицаются, а нередко подвергаются групповым санкциям. В подразделениях, слабо подготовленных к ведению боевых действий, морально дезорганизованных, никто не предъявит претензий воину, допустившему трусость. Ясно, что такое понимание нормы не может служить основанием для официальной оценки поведения военнослужащих в военное время.
2. Норма как оптимальное поведение, обеспечивающее устойчивое социальное и профессиональное функционирование человека и группы в конкретных условиях. Безусловно, такая трактовка нормы эвристична, функциональна, но лишь в идеальном воинском подразделении, в идеальной армии. На самом деле весь опыт боевых действий свидетельствует о том, что человек не может устойчиво функционировать как безупречно отлаженная машина, подчиняющаяся сверхтребованиям, в течение бесконечно долгого времени и в условиях предельных нагрузок. Очень ярко и образно описал это явление генерал Краснов: «Возмутившаяся плоть под влиянием голода, жажды или животной страсти, чувства любви или ненависти, гнева, радости, печали, стыда, мести, страха вдруг обращает разумную жизнь человека то в страшную драму, то в комедию. И как ни силится человек владеть всеми этими чувствами, как редко ему удается ими овладеть!»
Можно сколько угодно говорить о том, что девиации чаще всего носят фрагментарный характер, что они не характерны для армии того или иного типа, однако реальность жизни такова: ни одна из войн не обходилась без самых грубых и жестоких отступлений от правовых и моральных норм, выработанных «мирным» обществом.
3. Норма как отсутствие недопустимых отклонений от установленных законом, общественной и групповой моралью схем, моделей, правил поведения. Когда речь идет о девиациях военного времени официально, то чаще всего в качестве нормы используется ее третья ипостась. Нормальным в боевой обстановке считается поведение, которое осуществляется в правовом пространстве, ориентировано на основные нравственные установки военного времени, не вносит дезорганизацию в деятельность коллектива и не ставит под угрозу жизнь и здоровье самого субъекта поведения и сослуживцев.
Девиантное поведение не представляет собой единую синдромальную единицу, оно многообразно, многолико, многоаспектно. В зависимости от того, какие нормы нарушаются или не выполняются военнослужащим в военное время, его поведение может квалифицироваться как асоциальное, антисоциальное.
Асоциальное поведение связано с невыполнением прежде всего правовых, моральных, культурных норм, но не преступает границ закона. Примерно так же определяется понятие противоправного поведения.
Антисоциальное поведение – это поведение, направленное против общества, его интересов, грубо нарушающее его правовые и моральные требования. Это понятие близко по значению понятию делинквентного поведения.
Делинквентное поведение (от лат. delinquents – «совершающий поступок») – криминальное, преступное поведение.
Девиантное поведение необходимо четко отграничивать от поведения аномального. Аномальное поведение связано с отклонением от нормы психического здоровья: Если психически больной человек чаще всего не сознает возможные пагубные последствия своего поведения, то девиант в большинстве случаев отдает отчет в своих действиях и их возможных последствиях, но в силу различных причин (трусость, безразличие, поиск личной выгоды и др.) совершает девиантный поступок.
Готовность человека к девиантным поступкам по-разному объясняется представителями различных научных традиций и школ в психологии. Представители биогенетического подхода объясняют ее неблагоприятной наследственностью. Сторонники психоанализа связывают причины девиаций с дефектами раннего развития личности, апологеты бихевиоризма - с недостатками социального научения и т.д. Видимо, как обычно, истину следует искать в интеграции позиций сторонников тех или иных научных подходов. Скорее всего, в девиации проявляются как дефекты личностного развития, так и ошибки воспитания, сочетаемые с неблагоприятной ситуацией.
Обобщение и систематизация отклоняющегося поведения военнослужащих в боевой обстановке позволяет выделить следующие его виды: дезертирство, предательство, добровольная сдача в плен, трусость, членовредительство, симуляция невозможности участия в боевых действиях, «хорошие» (лжеобоснованные) уклонения от участия в боевых действиях, жестокое обращение по отношению к противнику и населению, мародерство, алкоголизм, наркомания, убийство командиров и сослуживцев, самоубийство, сексуальное насилие и др.
Ясно, что всякая классификация имеет свои изъяны и ограничения, однако даже простое перечисление этих психологических феноменов открывает командирам, специалистам по морально-психологическому обеспечению, военным психологом целый мир психологической жизни армии в боевой обстановке, указывает направления профилактической и психокоррекционной работы.
Рассмотрим подробнее основные виды девиантного поведения. Трусость представляет собой поведение, в процессе которого под воздействием страха попираются как нравственные, так и моральные нормы, создается угроза жизни социальному статусу субъекта активности либо безопасности других людей.
Трусость является как самостоятельной девиацией, проявляющейся в самостоятельном прекращении боевой активности и занятии безопасного укрытия или оставлении поля боя. При этом одним из психологических механизмов реализации поведения выступает самоуспокоение: «Будь что будет, главное – выжить». Трусость может также являться причиной или фоном других видов отклоняющегося поведения (дезертирство, самоубийство, убийство сослуживцев и командиров, требующих продолжения участия военнослужащего в боевых действиях, и др.).
Трусость не тождественна страху. Страх на войне испытывают практически все психически здоровые люди. Однако обстоятельства боевой обстановки, боевая задача, внутригрупповое распределение боевых функций, возможные трагические последствия и другое не дают участнику боевых действий права подчиниться страху. Вот как об этом говорил один из самых бесстрашных в отечественной истории командиров Скобелев: «Нет людей, которые не боялись бы смерти; а, если тебе кто скажет, что не боится, плюнь тому в глаза; он лжет. И я точно также не меньше других боюсь смерти. Но есть люди, которые имеют достаточно силы воли этого не показать, тогда как другие не могут удержаться и бегут перед страхом смерти. Я имею силу воли не показывать, что я боюсь; но зато внутренняя борьба страшная, и она ежеминутно отражается на сердце». Трус же игнорирует все остальные побудители, свое прошлое и будущее, судьбу сослуживцев, исход боя и отдается страху без остатка.
Дезертирство (от фр. deserter) в большинстве известных дефиниций определяется как самовольное оставление военной службы или уклонение от призыва в армию. С психологической точки зрения дезертирство .представляет собой выход из острого внутриличностного кризиса путем крайне конфликтного разрыва с привычным социальным окружением, его нормами, предполагающий наступление социальных санкций. Причинами дезертирства могут стать самые различные обстоятельства – от трусости, психологической и профессиональной неподготовленности к боевым действиям до гипертрофированного желания «помочь маме заготовить сено».
Своеобразной формой дезертирства является немотивированный отказ военнослужащего участвовать в боевых действиях, в выполнении конкретной боевой задачи.
В случае «срабатывания» в групповом поведении военнослужащих психологических законов толпы возможно массовое оставление ими поля боя. Особенно остро и массово дезертирство проявляется в периоды общего снижения морально-психологического состояния войск, резкого падения воинской дисциплины, снижения популярности войны и роста антивоенных настроений в обществе, длительного неуспеха (поражения, большие потери) в вооруженном противоборстве с противником. Отмечается, что в качестве своеобразных катализаторов массового дезертирства выступают негативные явления в национальных и социальных отношениях, в области материально-бытового и боевого обеспечения и управления войсками. Массовые дезертирства имели место в армии Наполеона в 1812 г. после бегства французских войск из Москвы, в армии России после революционных событий в 1917 г. и практически во всех воюющих армиях в годы Первой и Второй мировых войн. В американской армии в последние годы их участия в боевых действиях во Вьетнаме дезертировало почти 43 человека из каждой тысячи воинов.
Учитывая огромный вред, наносимый дезертирством даже отдельных военнослужащих морально-психологическому состоянию войск, их боеспособности, во всех армиях мира принимаются самые жестокие меры по его предупреждению и пресечению (вплоть до расстрела).
Предательство рассматривается как измена интересам и ценностям группы членства, предполагающая возможность нанесения ей серьезного ущерба, в пользу интересам референтной группы. Психологическими «пружинами» предательства чаше всего выступают идеологические, религиозные разногласия с группой членства, различного рода обиды, чувства ненависти, презрения, мести, а также прогнозирование перехода в новую группу (к противнику) как более выгодного в материальном, моральном и других отношениях. Предательство может заключаться в сообщении противнику стратегически и тактически важной информации, проведении акций саботажа, вредительства и др. Предатель чувствует себя приобщенным к референтной группе, в качестве которой выступает противник.
Добровольная сдача в плен является одной из ипостасей предательства, представляющего собой физическое оставление военнослужащим группы членства и вступление в социальную группу с неопределенным социальным статусом, с неопределенными перспективами личной свободы и физического выживания. Психологическими побудителями к сдаче в плен противнику выступают самые различные феномены, например личные убеждения, религиозная вера, уверенность в победе противника, ненависть, отчаяние, трусость, конфликты с командирами и сослуживцами, неприятие норм и ценностей группы членства, неудовлетворенность социальным статусом, психическое заражение и др.
Членовредительство заключается в нанесении военнослужащим себе травм, ранений и увечий, позволяющих избежать или прекратить участие в боевых действиях. Чаще всего главной причиной членовредительства является трусость, болезненное переживание за свою судьбу. При этом избираются такие способы нанесения себе вреда, которые бы не препятствовали жизни и деятельности в мирных условиях. В этих девиациях часто проявляется логика «меньшего из зол», то есть спасения жизни за счет увечья. Основными разновидностями членовредительства выступают нанесение себе увечий, самоотравление, самозаражение, самообморожение и др.
Нанесение себе увечий военнослужащим осуществляется путем ранений себя самим военнослужащим или сослуживцем в те части тела, выход из строя которых влечет обязательную демобилизацию, но позволяет более или менее социально и профессионально функционировать в мирной обстановке. Этот способ избегания участия в войне стар как мир. Известны данные о том, что еще во II в. до н.э. в римской армии отмечались случаи нанесения воинами себе ранений в целях уклонения от участия в бою. Во избежание повального уклонения таким способом от участия в войнах было принято решение о применении за такие действия смертной казни.
Р. Габриэль описывает технологию осуществления подобной девиации во время войны США во Вьетнаме. «Во время войны во Вьетнаме, отмечает он, - в некоторых портах, откуда происходила отправка людей и техники во Вьетнам, была выявлена и арестована целая группа хирургов за распространение и продажу инструкций для новобранцев, где рекомендовалось как можно избежать отправки в район боевых действий. Один из способов заключался в том, чтобы «случайно» прострелить себе ногу». Он же приводит сведения о том, что во время Второй мировой войны проявился феномен, названный «ранением на миллион долларов». Его сущность сводилась к желанию солдата получить незначительное, не опасное для жизни ранение, позволяющее ему демобилизоваться или эвакуироваться в тыл и при этом не считаться трусом, не выполнившим свой воинский долг.
В одной из частей наших войск, действовавших в Афганистане, быстро выявилась тактика симуляции офицера А.: перед каждым выходом на боевую операцию он «случайно» ломал один из пальцев правой руки. Причем эти «несчастья» так и не позволили А. за весь срок службы поучаствовать в серьезном боевом деле.
Не менее изощренным способом членовредительства является самоотравление. Его сущность сводится к замаскированному под боевое поражение ОВ сознательному нанесению на собственное тело (или прием вовнутрь) сублетальных доз боевых химических рецептур, позволяющих получить травму, сопряженную с последующей эвакуацией с поля боя. Примеры таких девиаций отмечались еще в годы Первой мировой войны, когда солдаты разных армий наносили на свое тело с помощью специальных палочек небольшие дозы иприта; вызывавшие образование язв и всю симптоматику боевого поражения ОВ. По некоторым данным, таким образом боевые ряды покинули тысячи военнослужащих.
Самозаражение заключается в добровольном заражении себя вирусами болезней, требующих временной эвакуации с поля боя или полной демобилизации. Такое заражение осуществляется путем преднамеренного контакта с инфекционными больными без соблюдения мер личной гигиены. Существуют и более изощренные способы самозаражения. Некоторые участники боевых действий в Афганистане отмечали, что отдельные наши военнослужащие, заболевшие гепатитом, сумели сделать на этом своеобразный «навар». Они продавали свою мочу желающим заразиться этой инфекцией.
Не меньше находчивости, терпения и, как ни странно, воли требует такой способ членовредительства, как самообморожение. Суть его состоит в том, что солдат выставляет на лютый мороз чаще всего ночью одну из своих конечностей и ждет до тех пор, пока процесс обморожения примет характер травмы. При этом приходится преодолевать жестокие мучения, однако цель, поставленная девиантом, оправдывает средства. Р. Габриэль отмечает, что «обморожения происходят, как правило, на той руке, которая используется для нажатия на курок».
Широкий круг способов уклонения объединен под названием «симуляция невозможности участия в боевых действиях». Можно выделить следующие разновидности симуляции: симуляция соматических заболеваний; симуляция психических заболеваний; симуляция выхода из строя боевой техники и оружия, лжесанитария, лжеманевр и др. Рассмотрим их.
Симуляция соматических заболеваний заключается в постоянном воспроизведении выученных симптомов, составляющих целостную картину заболевания, дающего возможность симулянту на время или навсегда прекратить свое участие в боевых действиях или в выполнении наиболее опасных боевых задач. Такие военнослужащие регулярно жалуются на боли различной локализации, на неимоверную слабость, на головокружение и другое. Они практически «прописываются» в батальонных и полковых медицинских пунктах, требуют глубокого обследования, направления в госпиталь и т.п. У сослуживцев создается образ такого воина как хронически больного человека. Ему постепенно перестают доверять ответственную, потом и сложную работу и постепенно исключают из числа участников активных боевых действий.
Факты симуляции психических заболеваний отмечались еще в древние времена, а в годы Первой и Второй мировых войн приняли массовый характер. В частности, многими исследователями отмечался тот факт, что симулянты быстро «вычисляли», какие симптомы считались врачом конкретного полка показателями психического расстройства, и научались убедительно демонстрировать их. Таким образом, получалось, что в зависимости от теоретической ориентации врача полка из его части демобилизовывались по психологическим основаниям лица, демонстрировавшие одинаковые симптомы.
Не менее древним видом симуляции невозможности участия в бою является имитация выхода из строя боевой техники и оружия. Так, еще в глубоком Средневековье отмечались факты «перерезания тетивы на арбалетах», в более позднее время выводились из строя личное оружие, орудийные системы и боевая техника. Опросы показывают, что многие участники боевых действий в Афганистане и Чечне лично встречались с этим явлением.
В свое время еще Наполеон обратил внимание и жестоко искоренял такой вид симулятивного поведения, как лжесанитария. Суть его состоит в том, что симулянты используют для оставления поля боя факт ранения сослуживца. Как правило, находится несколько человек, желающих эвакуировать пострадавшего товарища в тыл. Свидетели утверждают, что иногда некоторые из них считают необходимым вынести с поля боя и вещи раненого. Количество таких «санитаров» может достигать десять и более человек. Не случайно еще Наполеон принял суровые меры, чтобы прекратить это пагубное для исхода боевых действий явление.
Нередко в боевой обстановке можно встретить симулянтов, использующих такой прием отлынивания от коллективных действий в бою, как лжеманевр. Как правило, когда после боя начинается уточнение, где был в процессе выполнения боевой задачи такой симулянт, он рисует картину его тактически грамотного расположения на выгодной позиции, эффективного боевого контакта с противником, по существу спасшего боевых товарищей от смерти. На самом деле в бою он не участвовал, а отсиживался в безопасном месте. Опыт Афганистана и Чечни свидетельствует о том, что нередко такие симулянты возвращаются с поля боя с полным комплектом боеприпасов, то есть, не израсходовав ни одного патрона.
Жестокое обращение с населением, нелояльно относящимся к действующим войскам, является вопросом крайне сложным для нравственной оценки. Если использовать критерии мирного времени, то, безусловно, неактуальную, не вызванную конкретными действиями мирного населения жестокость следует отнести к девиантному поведению. Однако измененная система ценностей и моральных критериев, формирующаяся у участников войны, как бы выводит агрессию к нелояльному населению из перечня девиаций. Особенно это характерно для случаев, когда население ведет активную партизанскую, диверсионную борьбу, совершает террористические акты против войск. Как правило, днем боевики из числа некомбатантов являются мирными жителями (дехкане, рабочие, учителя), а ночью – диверсантами, террористами, партизанами, подпольщиками. Жестокие расправы над населением, так или иначе способствующим врагу, имели место во все исторические эпохи. Так, при взятии Трои греки-триумфаторы казнили всех лиц мужского пола старше десяти лет, а оставшиеся в живых, то есть женщины и дети, были проданы в рабство. Практиковали жестокое обращение с населением Александр Македонский, Святослав, Наполеон. Причем Наполеон мог уничтожить десятки тысяч людей только потому, что они являлись «обузой», «раздражающим фактором».
Безусловно, важную роль в формировании жестокого отношения к населению имеет и общее ожесточение людей на войне. Вот как об этом говорит один из героев Э.М. Ремарка: «Мы превратились в опасных зверей. Мы не сражаемся, мы спасаем себя от уничтожения. Мы швыряем наши гранаты не в людей - какое нам сейчас дело до того, люди или не люди эти существа с человеческими руками и в касках? В их облике за нами гонится сама смерть, впервые за три дня мы можем взглянуть ей в лицо, впервые за три дня мы можем от нее защищаться, нами владеет бешеная ярость, мы уже не бессильные жертвы, ожидающие своей судьбы, лежа на эшафоте; теперь мы можем разрушать и убивать, чтобы спастись самим, чтобы спастись и отомстить за себя». И далее: «Мы укрываемся за каждым выступом, за каждым столбом проволочного заграждения, швыряем под ноги наступающим снопы осколков и снова молниеносно делаем перебежку. Грохот рвущихся гранат с силой отдается в наших руках, в наших ногах. Сжавшись в комочек, как кошки, мы бежим, подхваченные этой неудержимо увлекающей нас волной, которая делает нас жестокими, превращает нас в бандитов, убийц, я сказал бы – в дьяволов и, вселяя в нас страх, ярость и жажду жизни, удесятеряет наши силы, – волной, которая помогает нам отыскать путь к спасению и победить смерть. Если бы среди атакующих был твой отец, ты, не колеблясь, метнул бы гранату и в него!»
В психологической этиологии агрессивного поведения по отношению к местному населению могут лежать некоторые акцентуации характера. Е.В. Снедков установил, что лица, отличающиеся эпилептоидной или гипертимной акцентуациями в большой степени предрасположены демонстрировать в боевой обстановке взрывы аффектов злобы, гнева, агрессии. При этом поводом для таких появлений могут стать даже малозначительные события. Особенностью данного типа реакций является то, что они часто сопровождаются использованием оружия, что придает им особо брутальный характер и часто приводит к тяжелым последствиям.
Мародерство представляет собой девиацию, заключающуюся в ограблении трупов.
В основе мародерства могут лежать различные причины. Одной из них является стремление завладеть давно и остро желанной вещью. Другой причиной является общая тенденция личности девианта к наживе. Третья причина связана с интересом владения «вещью с войны». Четвертая причина кроется в стремлении девианта психологически зафиксировать победу, превосходство над поверженным противником. Пятая причина обусловлена такими социально-психологическими явлениями, как традиция и мода накопления личных «трофеев». Общим условием, способствующим развитию этого отклонения, является отсутствие дисциплины в войсках, предельное падение нравов, превращающие войну в грабеж.
Пьянство – чрезмерное употребление спиртных напитков, не достигшее уровня физической зависимости организма от алкоголя. С психологической точки зрения представляет собой явление своеобразной компенсации, попытку психологически выключиться из ситуации смертельной опасности, преодолеть страх, забыть об утратах.
Развитию пьянства на войне в определенной степени способствует официальная позиция военного руководства по этому вопросу, например систематическая выдача личному составу спиртного «для смелости», «для снятия напряженности» и др. В годы русско-японской войны Г.Е. Шумков очень тщательно и добросовестно исследовал влияние алкоголя на боевую эффективность и установил крайне пагубные последствия употребления спиртного перед боем. В частности, им отмечалось, что уже в первые минуть; боя у лиц, употребивших алкоголь, возникает состояние, близкое к абстинентному: учащается дыхание, появляется общая слабость, дрожание конечностей, нарушаются основные качества внимания, восприятия, эмоциональных процессов и др. Такой боец видит лишь малую часть поля боя, не может вести прицельный огонь по противнику, не способен точно регулировать свои действия и т.д. Поэтому активную борьбу против пьянства в боевой обстановке ведут практически во всех армиях мира.
Наркотизм (аддиктивное поведение) – поведение, характеризующееся психической зависимостью от психоактивных веществ, то есть это тот уровень употребления наркосодержащих препаратов и веществ, при котором у человека еще не сформировалась физическая зависимость от них. В исследованиях С.В. Литвинцева показано, что аддитивное поведение составляло около 50% всех психических дисгармоний, которые были зафиксированы в наших войсках, действовавших в Афганистане.
Существенное место в общей картине психических нарушений они занимали и в период боевых действий в Чечне. Е.В. Снедковым показаны основные причины распространенности этого вида девиаций:
– стремление участников боевых действий снизить уровень тревоги (51,9% обследованных);
– желание получить удовольствие (48,7%);
– субмиссивные мотивы (34,8%);
– мотивы гиперактивации (17,8%).
Среди способствующих факторов выделены: легкость приобретения наркотических веществ (59,5%); отрыв от дома (40,4%); напряженная боевая обстановка (26,2%).
Убийство командиров и сослуживцев представляет собой крайний способ устранения фрустрирующей преграды на пути сохранения или возвышения личностного статуса девианта. Такие убийства чаще всего происходят тогда, когда командир или сослуживец выступает для девианта в качестве своеобразной внешней инстанции совести, вины, морального судьи, мешающей реализовать какие-либо аморальные или отклоняющиеся от социальной нормы цели.
Самоубийство на войне – явление особенное и трудно объяснимое. По существу оно представляет собой форму инфантильного бегства из психотравмирующей ситуации. Сам факт того, что в ситуации, когда при желании можно практически в любое время расстаться с жизнью по геройски, «на миру», оставив о себе добрую память, человек выбирает другой вариант смерти, осуждаемой верой и моралью, сложен, противоречив и труден для осмысления. Ведь нередко человек сводит счеты с жизнью именно из-за страха смерти. Иначе, боясь быть убитым, человек кончает жизнь самоубийством. Безусловно, имеется множество других причин, по которым человек на войне совершает самоубийство. И их круг весьма широк: от боязни быть уличенным в трусости, предательстве, некомпетентности, совершенном преступлении до страданий, вызванных событиями, происшедшими со значимыми людьми за тысячи километров от линии фронта. Но практически всегда пусковым механизмом суицида является наличие такого внутриличностного ценностно-смыслового кризиса, который человек не может разрешить всеми имеющимися в его распоряжении средствами и который переживается как мощная, эмоционально окрашенная драма. Конфликтная ситуация становится суицидоопасной, когда военнослужащий осознает ее как высокозначимую, предельно сложную, а свои возможности по ее разрешению недостаточными.
Пусковым механизмом самоубийства на войне также нередко выступают акцентуации личности. Е.В. Снедков установил склонность лиц с демонстративной акцентуацией изображать стремление покончить собой с использованием показных угроз, нескрываемых приготовлений к самоубийству, мелкого членовредительства. У сенситивных личностей, на почве опасений перед возникновением жизнеопасных ситуаций формируется сниженный фон настроения, достигающий под воздействием дополнительных психотравм аффекта отчаяния. Наличие оружия в подобных ситуациях, как правило, ускоряет суицид. Опасными в плане развития суицидных тенденций являются и астенодепрессивные типы характера.
Следует иметь в виду, что одной из причин суицида на войне является психическое заболевание военнослужащего, создающее ложную субъективную картину кризисной ситуации.
Принято выделять истинный (осознанный, «твердый», планируемый, целенаправленный), аффективный (возникший под влиянием внезапного острого психотравмирующего события) и демонстративный (ложный, рассчитанный «на испуг» значимых лиц, не предусматривающий сведение счетов с жизнью) суицид. Это деление весьма условно, ведь на войне любое суицидальное поведение содержит в себе некоторый демонстративный аспект, рассчитанный на акцептацию, подчеркивание причины, вызвавшей его. Не случайно здесь особенно четко выделяются фазы, предшествующие самому суициду, – суицидальные мысли, суицидальные настроения, суицидальные намерения и другие, по которым суицидальное поведение может быть своевременно обнаружено командирами, военными психологами и сослуживцами.
Братание с противником представляет собой довольно экзотическую форму отклонений боевого поведения, заключающуюся в одиночном или массовом вхождении в мирный контакт с противником. При этом происходит временная трансформация образа боевой обстановки из военной в мирную и образа противника из «лютого врага» в «рубаху парня», которые вновь приобретают адекватное значение при возникновении стимулов или символов боевой обстановки (приказ командира, выстрел и др.).
Особенно широкое распространение братание имело в годы Первой мировой войны, 1914-1918 гг.
Сексуальный вопрос на войне способен приобретать особо острые черты и порождать девиации в виде насилия над женской частью населения (особенно на территории противника), а также мужеложство.
Таким образом, поведение человека на войне характеризуется не только возвышающими душу героическими поступками и самопожертвованием, но и низменными проявлениями человеческой природы, пороков воспитания, деструктивным влиянием социальных и боевых ситуаций. Существует большой класс поведенческих схем, отклоняющихся от моральных и правовых норм, определяющих поведение участников войны. Каждая из них имеет собственные и общие причины, внутреннюю логику, функцию, но главное, что их объединяет в отдельную категорию, – это анормальность поступков и психическая полноценность их субъектов.
Знание видов и форм проявления девиаций позволяет проводить их целенаправленную профилактику и искоренение.
Дата: 2019-04-23, просмотров: 487.