В основе всякого классического сюжета лежит то, что в американской литературоведческой традиции, более прагматичной и «предметно-ориентированной», именуется «основным драматическим вопросом» (Major Dramatic Question), а в европейской, более устоявшейся — «фабулой».
Классическая фабула возникает при наложении друг на друга двух вещей. Первая — это протагонист. От «просто» персонажа он отличается тем, что именно с ним может и хочет идентифицировать себя читатель — физически, интеллектуально или эмоционально. Конечно, сложные большие романы могут иметь более одного протагониста (Болконский, Пьер, Наташа) или протагонист может раздваиваться, как Нарцисс и Гольдмунд в одноименном романе Германа Гессе. Но хотя бы одного — должен иметь любой фикшн.
Протагонист должен чего-то сильно хотеть. Как мы уже говорили в прошлый раз, желания должны быть у всех персонажей, но желание протагониста выкристаллизовано в цель — которая и движет историю вперед.
Цель может быть банальной — как венский стул, в который зашиты бриллианты, в «12 стульях». Или изысканной: сохранившийся в единственном экземпляре второй том «Поэтики» Аристотеля, за которой ведут охоту герои «Имени Розы». Или просто несусветной, как в фантастическом боевике Андреаса Эшбаха «Видео Иисус»: видеокассета, на которой запечатлен въяве Иисус Христос. Может она быть и чем-то абстрактным, как «любовь» или «всеобщее восхищение». Но в этом случае задача писателя состоит в том, чтобы облечь это неосязаемое в осязаемые формы. Например, миллионер-нувориш Джей Гэтсби мечтает войти в нью-йоркское общество, но его практическая цель — завоевать любовь Дэйзи. Булгаковская Маргарита получает своего Мастера, а сам Мастер получает нечто куда более отвлеченное — покой. Но Булгаков делает так, что эта отвлеченная цель становится осязаемой и материальной — уютный домик XVIII века под черепичной крышей.
Воплощение, материализация цели — очень важная задача, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать. Но можно «обыгрывать», переводить в символическую плоскость. Так, завязка «Преступления и наказания» подчеркнуто символична: убив старуху-процентщицу, чтобы доказать себе, что он относится к породе «сверхчеловеков», Раскольников на практике получает смехотворную сумму. После чего его целью становится получить прощение, избавиться от моральных мучений. И развязка, «наказание», столь же зрима и столь же символична, как и само преступление: он становится на Сенной площади на колени и объявляет перед всем честным народом: «я убил».
При этом понятно, что цель протагониста не обязательно должна быть столь всеобъемлюща, как спасение человечества или, как в случае с Мастером, вечный потусторонний Покой. Цель может быть вполне практичной — выйти замуж за миллионера — и даже смешной, как в известной повести Майю Лассилы «За спичками» — но она должна быть важна для протагониста. Он должен быть готов чем-то ради нее рискнуть, пожертвовать и приложить все силы для ее достижения.
Когда протагонист отправляется за своей целью — мы и получаем фабулу в самом кратком виде. Причем, если следовать американской традиции с ее «основным драматургическим вопросом», получаем ее как раз в виде простого вопроса. Вот несколько примеров:
· Удастся ли Германну разбогатеть с помощью трех карт?
· Останется ли Анна Каренина с Вронским?
· Сумеет ли Грегор Замза выжить в облике насекомого?
Вспомните несколько своих любимых произведений и сформулируйте сами их основной драматургический вопрос.
Что же касается ответа — хотя его всегда можно сформулировать как «да» или «нет» (в трех приведенных выше примерах — однозначное «нет»), порою эти «да» и нет" могут оказаться буквально вывернуты наизнанку. Так, главному герою «Видео Иисус» не удается заполучить драгоценную запись, но, оказывается, в этом и не было никакой необходимости: она давно уже растиражирована и ее существование не доставляет церковным иерархам никаких неудобств: ее просто объявили очередной ересью, вот и всё. А Остап Бендер получает в конце «Золотого теленка» свой миллион на блюдечке с голубой каемочкой — но эта победа разрушает его: из веселого и обаятельного авантюриста он превращается в озлобленного неуравновешенного хама, а под конец — просто выступает как «жалкая ничтожная личность», говоря словами Паниковского.
Виртуозно играет с такими «ответами-перевертышами» Борис Акунин. Что и не удивительно: строгие рамки детективного жанра требуют, чтобы протагонист — Фандорин — добился успеха, и автору приходится проявлять недюжинную фантазию, чтобы этот предсказуемый конец всякий раз оказывался для читателя как можно менее предсказуем. Но и у него порой это получается не всегда. Так, относительная неудача первого романа про магистра Николаса Фандорина «Алтын-Тулубас» объясняется — в том числе — и тем, что цель оказалась «смещена»: магистр не докапывается, в переносном и в прямом смысле слова, до оставленного его предком клада, за которым шла охота во время романа, зато находит, без особых проблем, жену и в самом конце открывает консультационную контору — что оказывается не только полной неожиданностью для читателя, но и разочаровывает его: а как же сокровище???[3]
Конфликты
Итак, фабула — это когда протагонист отправляется в погоню за своей целью. Конечно, вам бы хотелось, чтобы герой (особенно если он автобиографичен) достиг ее, как можно меньше при этом мучаясь и страдая. Но в этом случае у вас выйдет или чистая арт-терапия (попытка сочинить улучшенный вариант своей жизни), или пустой, безжизненный опус вроде сталинских кинооперетт «о борьбе хорошего с лучшим». Кинооперетту может спасти хорошая музыка, а что спасет книгу?
Книгу спасут конфликты. Чаще они возникают вне протагониста — их «продуцируют» другие персонажи, исторические и природные катаклизмы, общество, наконец, сверхъестественные существа, боги и духи. Но не менее приемлем вариант, когда источником конфликта выступает сам протагонист, — его, как говорят теннисисты, «невынужденная ошибка», неправильно принятое решение, роковое стечение обстоятельств (Эдип убивает незнакомца, не зная о том, что это его отец — и тем самым начинает осуществлять пророчество о том, что его суждено убить своего отца и жениться на собственной матери), ставящее протагониста вне закона, или просто неустранимая особенность психики, как в «Записках сумасшедшего» Гоголя, «Идиоте» или «Лолите».
Деление это условно; в лучших историях, конечно, внутренние причины органично сочетаются с внешними. Так, в обоих романах про Остапа Бендера главный герой, кажется, действует, примеряясь к возникающим на его пути внешним обстоятельствам. Но они вырастают из его внутреннего неразрешимого конфликта — конфликта с советской действительностью.
Роберт Льюис Стивенсон оставил в назидание потомкам прямо-таки образцовый пример реализации внутреннего конфликта во внешнем мире: преуспевающий и во всех смыслах положительный доктор Джекил, выпустивший наружу подавленную темную сторону своего «я» — злобного и тщедушного Хайда, ставшего одновременно внешним и внутреннимантагонистом знаменитого романа.
(Основной драматический вопрос его звучит так: «Сможет ли Джекил обуздать Хайда?» Ответ — «нет».)
Как вы уже поняли, антагонист — это носитель и выразитель конфликта. Именно он в классической фабуле создает препятствия на пути протагониста к цели. Хоть и не всегда в такой предельно заостренной форме, как у Стивенсона.
 И вообще, это далеко не всегда злой демон или «плохой парень», как Рошфор для д’Артаньяна или Элен для Пьера Безухова. Антагонистом Обломова, понукающим его совершать какие-то поступки, выступает его лучший друг Штольц, искренне желающий ему добра. А враждебные силы, с которыми борется старик Сантьяго в «Старике и море» персонифицированы в огромной рыбе марлине, которая, разумеется, не хочет старику зла, а просто борется за свою жизнь. Кстати, из этого видно, что «антагонист» не обязательно должен быть антропоморфным. Да и не обязательно персонифицированным. В «Петре I» Алексея Толстого главный герой борется не с каким-то конкретным боярином и даже не с царевной Софьей или Карлом XII, а с косностью своего окружения и отсталостью России. В «Смерти в Венеции» Томаса Манна главное препятствие, стоящее на пути героя к счастью — его собственное ratio, холодная рассудочность, которую он сам выстроил в себе с ранней молодости. Но будьте осторожны с такими «распределенными» носителями антагонистического начала в своих произведениях: нужно обладать не только талантом, но и огромным опытом Алексея Толстого и Томаса Манна, чтобы конфликт не оказался отвлеченным и просто неинтересным.
И вообще, это далеко не всегда злой демон или «плохой парень», как Рошфор для д’Артаньяна или Элен для Пьера Безухова. Антагонистом Обломова, понукающим его совершать какие-то поступки, выступает его лучший друг Штольц, искренне желающий ему добра. А враждебные силы, с которыми борется старик Сантьяго в «Старике и море» персонифицированы в огромной рыбе марлине, которая, разумеется, не хочет старику зла, а просто борется за свою жизнь. Кстати, из этого видно, что «антагонист» не обязательно должен быть антропоморфным. Да и не обязательно персонифицированным. В «Петре I» Алексея Толстого главный герой борется не с каким-то конкретным боярином и даже не с царевной Софьей или Карлом XII, а с косностью своего окружения и отсталостью России. В «Смерти в Венеции» Томаса Манна главное препятствие, стоящее на пути героя к счастью — его собственное ratio, холодная рассудочность, которую он сам выстроил в себе с ранней молодости. Но будьте осторожны с такими «распределенными» носителями антагонистического начала в своих произведениях: нужно обладать не только талантом, но и огромным опытом Алексея Толстого и Томаса Манна, чтобы конфликт не оказался отвлеченным и просто неинтересным.
Какова ни была бы природа конфликта — протагонист до самого конца не имеет права прекращать борьбу, с надеждой на успех или без нее. Более того: по мере продвижении от начала к концу произведения борьба должна ожесточаться, а надежда — истончаться. Это звучит так, словно речь идет о древних мифах. Что ж, классическая фабула восходит именно к ним. И осознано это было еще тогда, когда мифы были не столь древними.
Три составные части сюжета
Состав классического сюжета четко определил еще Аристотель в своем трактате, известном как «Поэтика» — том самом, вторую часть которого пытаются разыскать герои «Имени Розы». Он сделал это в III веке до нашей эры — но это определение прекрасно работает и для подавляющего большинства «нормальных» произведений современного фикшна. Вот оно:
Нами принято, что трагедия есть подражание действию законченному и целому, имеющему известный объем, ведь бывает целое, и не имеющее объема [то есть слишком короткое — МВ]. А целое есть то, что имеет начало, середину и конец. Начало есть то, что само не следует необходимо за чем-то другим, а, [напротив], за ним естественно возникает или существует что-то другое. Конец, наоборот, есть то, что само естественно следует за чем-то по необходимости или по большей части, а за ним не следует ничего другого. Середина же — то, что само за чем-то следует, и за ним что-то следует. Итак, нужно, чтобы хорошо сложенные сказания не начинались откуда попало и не кончались где попало, а соответствовали бы сказанным понятиям[4].
Вы можете здесь пожать плечами и сказать, что и без Аристотеля знаете, что начинать надо с начала и заканчивать концом. Но когда доходит дело до дела, определить начало и конец оказывается очень непросто даже опытным сочинителям. Ярчайший пример — замысел Льва Толстого, связанный с «романом о декабристе».
После объявленной в 1856 году Александром II амнистии Толстой начал собирать материалы и даже написал в 1860 году первую главу, в которой описывается, как бывший участник декабрьского восстания 1825 года возвращается в Москву после тридцати лет, проведенных на каторге и в ссылке в Сибири.
Но после этого, работая с историческими материалами, Толстой сам почувствовал, что он не соблюдает аристотелево правило о том, что «начало есть то, что само не следует необходимо за чем-то другим»: действия и сам характер его героя останутся непонятными, если он не начнет повествование с самогó декабрьского восстания. Но и «отскочив» на тридцать лет назад, понял, что ничего не поймет в восстании 24 декабря 1825 года, не описав всколыхнувшие все русское общество наполеоновские войны. Причем и их начинать надо не с 1812 года, а гораздо раньше... Так и вышло, что «Война и мир», в которую, как вы уже поняли, трансформировался «роман о декабристе», начинается в 1805 году, а до самого декабрьского восстания даже не доходит — конец, «за которым не следует ничего» тоже оказался совсем не там, где виделся автору поначалу.
Начало, середину и конец называют еще экспозицией, развитием и финалом.
Назначение экспозиции — познакомить читателя с основными персонажами и местом действия. Кроме того, экспозиция выполняет еще одну важнейшую, но с бóльшим трудом формализуемую функцию: она задает интонацию и стилистику, служит своего рода камертоном для всего произведения. Эта последняя функция, как правило, реализуется уже в первом абзаце, порою в первой фразе. Вспомните начало «Золотого теленка»: «Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества». Или начало пелевинского «СССР Тайшоу Чжуань»: «Как известно, наша вселенная находится в чайнике некоего Люй Дун-Биня, продающего всякую мелочь на базаре в Чаньани». Последний пример особенно примечателен: я помню, как в 93-м году, вскоре после выхода книги мало тогда известного автора под названием «Синий фонарь», подсунул ее своей родственнице — совершенно гоголевской «даме, приятной во всех отношениях», — и та, прочитав одну только эту фразу, с благородным негодованием вернула мне книгу: литературным критиком она, конечно, не была, но тотчас поняла, что эта книга не для нее. И была совершенно права.
Экспозиция заканчивается неким событием, которое по-английски величают incitingincident, то есть буквально «побудительный инцидент», а по-русски запросто называют «трамплином», потому что оно, собственно, приводит в движение фабулу: героя буквально вбрасывает в сюжет, и его вовлеченность в происходящее приобретает необратимый характер.
«Трамплин» бывает достаточно длинным. В «Золотом теленке» он разжимается только во второй главе: это момент, когда Балаганов рассказывает Бендеру о том, что в Черноморске живет подпольный миллионер. В «СССР Чайшоу Дзюань» это момент, когда к пьяному крестьянину во двор въезжает черная машина с референтами ЦК КПСС, чтобы везти его в Москву. В «Собаке Баскервиллей» таким трамплином выступает эффектная фраза: «Мистер Холмс, это были отпечатки лап огромной собаки!». Мы еще ничего не знаем, но уже примерно понимаем, чтó ждет Холмса в этот раз и заинтригованы.
Обратите также внимание, что у «трамплина», особенно если он длинный, часто бывает «приступочка»: событие, которое еще не запускает фабулу, но уже приковывает читательское внимание. В «Золотом теленке» это знаменитая фраза: «Узнаешь брата Колю»? По тому, как остроумно жулики выкручиваются из сложившегося неприятного положения, понимая друг друга с полуслова, мы догадываемся, что этим двум колоритным персонажам предстоит взаимодействовать и дальше.
В «Коде да Винчи», в полном соответствии с жанром мистического триллера, читательское внимание оказывается приковано первой же сценой убийства через решетку. Но трамплин, определяющий ход повествования, разжимается только через несколько страниц — когда Лэнгдон узнаёт от Софи, что он сам — главный подозреваемый.
Развитие — это, собственно, само действие, само содержание вашего фикшна. И это почти всё, что можно про него сказать «в общем» — слишком разнообразно содержание каждого конкретного произведения. «Почти» — потому что необходимо добавить очень важную вещь. По мере приближения к концу произведения напряжение фабулы должно нарастать. Чем ближе к финалу, тем серьезнее становятся препятствия, и тем больше усилий приходится преодолевать протагонисту для их преодоления. Такую схему часто сравнивают с горой: чем ближе вершине, тем круче.
В триллерах, чем ближе к концу, тем чаще происходят убийства. В конспирологических романах (том же «Коде да Винчи» или в «Одиночестве 12») — чем ближе к концу, тем глобальнее становится масштаб заговора, которой распутывают герои. В любовных и психологических — тем безнадежнее становится отчаяние героя. В мистических и фантасмагорических — тем гуще чертовщина. И так далее.
Финал классического сюжета в общем случае состоит из трех частей или фаз:
· кризис
· кульминация
· развязка.
Кризис — это момент, когда происходит нечто, возносящее конфликт на предельную высоту — то, про что протагонист может сказать «пан или пропал». Можно сказать еще, что это совершено отвесный участок скалы перед пиком горы, на которую взбирается герой. Для доктора Джекила — это момент, когда Хайд совершает убийство. Доктор должен или обуздать свое созданное ради развлечения и вышедшее из-под контроля alter ego, или погибнуть. Для Холмса в «Собаке Баскервиллей» — это смерть беглого каторжника. Холмс взбешен: ситуация вышла из-под его контроля, он должен решительно действовать против неизвестного злоумышленника.
Кульминация — это непосредственная реакция протагониста на кризис, физическая или ментальная. Понявший, что он недооценил противника и выведенный из состояния наблюдения Холмс устраивает ловушку «на живца». Измученный борьбой с гигантской рыбиной старик Сантьяго отчаянно бьет веслом приплывших на запах крови акул — хотя, выходя на ловлю, он едва ли предполагал, что ему придется это делать. Доктор Джекил делает решительную попытку загнать Хайда обратно внутрь себя. Можно сказать, что в этой реакции проявляются все изменения, «накопленные» героем в ходе развития, то есть повествования.
Развязка. Должна содержать в себе прямой ответ на основной драматический вопрос. Причем, как мы уже отмечали выше, лучше для читателей, если этот ответ окажется парадоксальным. Так, старику Сантьяго не удается довезти до гавани свой рекордный улов, но ему удается нечто более важное — вернуть уважение других рыбаков.
Не говоря уж про то, что в развязке должны сводиться все повествовательные линии и распутываться все сюжетные узлы.
Впрочем, начиная со времен модернизма, т.е. с 1920-х годов, писатели порою демонстративно пренебрегают этим, казалось бы, естественным правилом. В новейшем итальянском бестселлере «Одиночество простых чисел» 26-летнего Паоло Джордано (в течение 2008 года в одной только Италии продано более миллиона экземпляров — то есть книгу купил каждый шестидесятый итальянец, включая грудных детей) в начале книги у героя, Маттео, пропадает без вести, по его вине, умственно отсталая сестра-близнец. Это остается на всю жизнь его тяжелейшей травмой, то есть, в наших терминах, препятствием и источником внутреннего конфликта. Но незадолго до конца книги другая главная героиня, Аличе, видит в больнице девушку, очень похожую на Маттео и при этом явно умственно отсталую. Аличе оторопевает — а когда приходит в себя, незнакомка уже исчезает — ее уводит монахиня: ненормальную привозили из приюта на какую-то процедуру. И... ничего. Книга заканчивается, а мы так и не узнаём — пропавшая ли это сестра? Впрочем, эта странная, тупиковая вспомогательная сюжетная линия вполне в духе основной, посвященной не-отношениям героев.
Это кажется очевидным, но все-таки необходимо отметить, что развязка должна оказаться непосредственным результатом действий самого протагониста. Иначе возникает комический эффект «бога из машины» — когда все противоречия разрешаются внешним трюком, оставляя читателя в недоумении. В хорошей литературе примеры такого рода по понятным причинам практически не встречаются, но можно вспомнить «Роковые яйца» Булгакова. Фабула в этой фантастико-сатирической повести 1924 года развивается по нарастающей, и наконец оказывается, что по неосторожности одного энтузиаста окрестности Москвы заполнились гигантскими, размером в десятки метров, змеями, крокодилами и прочими рептилиями, которые двинулись на завоевание столицы, охваченной паникой и безумием. А потом —
В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу <...>. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пресмыкающихся, <...>.
Их задушил мороз.
Впрочем, назвав последнюю главу повести «Морозный бог на машине», Булгаков показал, что он сам прекрасно отдает себе отчет в несообразности и механистичности такой развязки — продиктованной, очевидно, внелитературными соображениями (цензура, нехватка места в журнале). Даниил Хармс пятнадцатью годами позже, будучи авангардистом и нон-конформистом, поступил честнее. Свою повесть «Старуха» он не завершил, а просто оборвал фразой:
На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась.
Смерть в Венеции
Итак, классическая сюжетная фабула подчиняется «Аристотелеву правилу», гласящему, что всякое произведение должно включать в себя экспозицию, заканчивающуюся «трамплином», развитие и трехчастный финал.
Рассмотрим теперь, как она работает. Чтобы продемонстрировать действенность и универсальность вышеизложенных правил, возьмем не жанровую прозу, а одну из самых известных и перегруженных смыслами новелл XX века — «Смерть в Венеции» Томаса Манна. Напомню содержание этой новеллы, опубликованной в 1912 году.
Пользующийся заслуженным признанием писатель Густав Ашенбах, которому за пятьдесят, чувствует утомление от своего упорного труда и решает отдохнуть в фешенебельном отеле на острове Лидо, с внешней стороны венецианской лагуны. По пути туда он во всем видит знамения и мистические совпадения. Особенно его поражает встреча с компанией развязных молодых людей на пароходе: к своему ужасу он видит, что один из них — никакой не юноша, а пожилой человек, старше самого Ашенбаха, грубо загримированный под юношу. В ресторане отеля Ашенбах в первый же вечер встречает прекрасного 14-летнего поляка Тадзио, в которого добропорядочный Ашенбах, вдовец, имеющий замужнюю дочь, к собственному изумлению и смущению, натуральным образом влюбляется. Чувство это совершенно платоническое: Ашенбах и не пытается познакомиться с Тадзио, а просто повсюду наблюдает за ним, и на пляже, и во время экскурсий по городу. Тем временем в Венеции распространяется эпидемия холеры. Венецианские власти всячески скрывают это, опасаясь оттока туристов. Наконец польская семья собралась уезжать. Ашенбаху нездоровится, но он идет на пляж, чтобы в последний раз увидеть на пляже Тадзио. Там они встречаются взглядами — третий раз за четыре недели — и Ашенбах падает замертво.
Таким образом, основной драматургический вопрос новеллы можно сформулировать так:
Сможет ли Ашенбах добиться любви Тадзио?
Ответ — «нет».
Объем новеллы — почти четыре листа. В моем покетбуке[5] она занимает ровно 80 страниц.
Экспозиция. Новелла начинается с того, что знаменитый писатель Ашенбах, выйдя прогуляться, сталкивается со странным человеком: одетым явно не как местный житель, рыжим, тощим и курносым, с рюкзаком за плечами. Чужеземец в упор глядит на Ашенбаха — тот смущается и торопливо уходит. И это дает его мыслям новый толчок: хотя он упорно работает над очередным крупным произведением и вообще привык все в своей жизни заранее четко планировать, неожиданно решает уехать отдохнуть на две-три недели.
Только после того, как мы узнаем об этом скоропалительном решении, принятом под воздействием встречи, истолкованной протагонистом как мистическая, — типичная «приступка» к будущему трамплину — автор сообщает подробные сведения об Ашенбахе — о его происхождении, писательской карьере, внешности, складе характера, отношении к своему труду и к читателям. Такая последовательность кажется обратной, — казалось бы, естественнее сначала познакомить читателей с героем, а потом уже рассказывать, что с ним произошло — ведь тогда будет понятнее, почему он придал такое преувеличенное значение случайной встрече с незнакомцем.
Но, конечно, такая последовательность не случайна. Манн просто соблюдает два простых правила:
1. не начинайте повествование с описания обыденной жизни героя; начните с чего-то, являющегося для него из ряда вон выходящим;
2. не выдавайте сразу слишком много информации о героях. Читателям это пока что не столь интересно — ведь они еще не «сжились» с героями.
Как и в случае с правилом Аристотеля о начале и конце, эти советы кажутся самоочевидными — пока вы не начнете писать сами и не обнаружите, что для соблюдения этих правил понадобятся сознательные усилия.
Дальше Манн подробно описывает, как Ашенбах покупает билет, плывет в Венецию на пароходе (где сталкивается с этим самым молодящимся стариком), препирается с гондольером и наконец прибывает в отель. Весь его путь полон многозначительных символов (что вы хотите, это 1911 год). Он переодевается к ужину, спускается в ресторан, обращает внимание на польскую семью — и встречается глазами с Тадзио. Это и есть «трамплин».
В «Смерти в Венеции» трамплин разжимается на 36-й странице 80-страничной новеллы — но это особенности мышления Томаса Манна и, конечно, излишки декадентской эпохи. В современном фикшне «трамплин» приводится в движение гораздо раньше — на первых страницах или даже первых абзацах, в зависимости от объема произведения. Ну и, конечно, в зависимости от его жанра.
Развитие. Как я уже сказал, основное содержание новеллы — мучительная борьба в душе героя двух начал: любви, Эроса, воплощенного в Тадзио, и смерти, Танатоса, воплощенного в охватившей Венецию холере. Но если вычленить поступки, совершенные Ашенбахом под влиянием встречи с Тадзио, они сведутся к следующему. Он:
· делает все, чтобы сорвать собственное же разумное решение покинуть Венецию, в которой установилась нездоровая погода;
· начинает приходить на пляж как можно раньше, чтобы не упустить появление Тадзио;
· пишет эссе, хотя приехал отдыхать — ему хочется творить в присутствии Тадзио;
· выписывает себе большую сумму денег и не заботится больше о сроке каникул — хотя изначально установил себе срок максимум в три недели;
· начинает тайком следовать за польской семьей в ее экскурсиях по Венеции;
· собирается сообщить об опасности польской даме, чтобы она увезла поскорее Тадзио и двух его сестер — и не в силах это сделать.
· начинает одеваться ярко, по-молодежному;
· позволяет парикмахеру покрасить себе волосы и наложить косметику чтобы выглядеть моложе
Из этого перечня видно, что события и впрямь идут по нарастающей. До определенного момента потерявший голову Ашенбах еще может притворяться перед собой, что он сам решает оставаться в отеле, сам хочет написать эссе. Даже что он сам решил продлить себе каникулы, а Тадзио здесь ни при чем. Но после того, как европейская знаменитость нанимает гондолу, чтобы тайком плыть за гондолой, в которой сидят безвестные поляки, притворяться перед собой больше не имеет смысла — Ашенбах влюблен, и предмет его любви — польский мальчик. При этом переход от одной стадии к другой отделен четким знаком — Тадзио второй раз, впервые после первого дня, встречается взглядом с Ашенбахом. Это, можно сказать, «точка перегиба» — место где уклон «горы» становится больше 45°.
После этого основной драматургический вопрос — сможет ли Ашенбах добиться любви Тадзио? — начинает звучать уже не подспудно, а, так сказать, во весь голос. Одновременно с нарастанием напряжения фабулы нарастают и препятствия, стоящие на пути протагониста. В Венеции всё явственнее проявляются признаки холеры, Тадзио вот-вот или увезут или он сам, будучи слабого здоровья, подцепит заразу и умрет, оставив Ашенбазха безутешным. Как мы видим, правило «чем ближе к вершине горы, тем круче путь» тоже соблюдается.
Отдавая себя в руки парикмахера, Ашенбах делает именно то, что привело его в ужас при взгляде на молодящегося старика в начале новеллы; это кульминационная точка развития, после которой дальнейшее нагнетание напряжения невозможно — неизбежно наступает финал.
Финал. Ярко выраженным кризисом в «Смерти в Венеции» служит известие о том, что польская семья наконец собралась уезжать. Отношения Ашенбаха с Тадзио подходят к решительной точке. Кульминация — Ашенбах в третий раз ловит взгляд мальчика — и откидывается на шезлонге, сраженный внезапным инсультом. Такова развязка новеллы. Ашенбах проиграл схватку с Эросом — его поглотил Танатос. Казалось бы, такая развязка несколько искусственна, слабо связана с кульминацией — тот самый «бог из машины», от которого я вас предостерегал. Но Манн показывает нам, что связана, причем напрямую. Когда протагонист ловит взгляд Тадзио,
ему чудилось, что бледный и стройный психагог издалека шлет ему улыбку, кивает ему, сняв руку с бедра, указует ею вдаль и уносится в роковое необозримое пространство. И, как всегда, он собрался последовать за ним[6].
Это довольно важный момент. Известная американская поговорка гласит — after not because, «после не значит потому что». Например, если после этих курсов вы станете знаменитыми писателями, это не обязательно потому, что я вас так хорошо научил. Так вот: фикшн — это всегда «потому что». Американский же романист Е.М. Форстер сформулировал это более красочно, чтобы подчеркнуть разницу между историей и сюжетом. Фраза «Король умер и затем королева умерла» — это история, а фраза «король умер и затем королева умерла от горя» — это сюжет.
[1] От латинского narrare — «рассказывать», откуда это слово перекочевало во все европейские языки.
[2] Что, впрочем, уже начало происходить в виртуальных мирах.
[3] Редкий случай, когда нравоучитель явно берет в Акунине вверх над беллетристом: убежденному либералу-западнику Чхарташвили очень важна мысль о том, что собственный бизнес — вот настоящий клад.
[4] Перевод М. Гаспарова
[5] Томас Манн. Смерть в Венеции и другие новеллы. СПб, Азбука-Классика, 1997 год
[6] Перевод Наталии Ман.
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
4 октября 2012
Повествовательная позиция
Рассмотрев, откуда берутся герои и как компонуется сюжет, мы можем перейти к вопросу о том, как, собственно, вести повествование. И первейшим здесь встает вопрос о повествовательной позиции.
Речь, конечно, не идет о его политических убеждениях автора или о моральной оценке происходящего, а о позиции в самом прямом смысле слова
— откуда, с какой точки зрения ведется рассказ? Видим ли мы происходящее глазами максимально вовлеченного главного героя, сочувственного свидетеля или всезнающего Господа Бога? Пылкого юноши или умудренного старика? Или вообще глазами собаки или сумасшедшего? А может, через глазок видеокамеры, бесстрастно фиксирующей происходящее? Ведь в зависимости от выбранной точки зрения рассказ об одной и той же последовательности событий может сильно отличаться. И те же сильно может отличаться то, что и как мы узнаём о внутреннем мире героев.
О собаке и сумасшедшем поговорим позднее, а начнем с более простого: с того, что рассказ, в соответствии с законами русской грамматики, может вестись от первого, третьего или второго лица. Каждое из этих «лиц» имеет свои подтипы и свои особенности. Начнем, естественно, с себя любимого — то есть с первого лица, «Я».
Первое лицо
Когда мы говорим «рассказ ведется от первого лица», то подразумеваем, что рассказчик является одним из героев истории. Он называет себя «я», прочие герои обращаются непосредственно к нему. То, что мы читаем — это то, что он видит, слышит, думает и чувствует.
Несмотря на всю кажущуюся простоту и естественность такого «я-повествования», в его реализации возможны два совершенно противоположных подхода:
1. Рассказчик в повествовании — это заведомо и есть сам реальный автор;
2. Рассказчик не имеет и заведомо не может иметь ничего общего с самим автором.
3. И между этими двумя полюсами пролегает полный спектр возможностей — от «рассказчик подозрительно похож на реального автора» до «в рассказчике, наверно, есть что-то от реального автора». А кроме того, необходимо разобрать еще два дополнительных возможных варианта «я-повествования»:Периферийное первое лицо.
4. Распределенное первое лицо
Крайнее проявление первого подхода — когда у читателя нет никаких сомнений, что «я» в тексте — это и есть «я» автора. Таковы все произведения Эдуарда Лимонова, Джека Керуака и те вещи , Сергея Довлатова и Венедикта Ерофеева, которые написаны от первого лица. Конечно, реальный Венедикт Ерофеев не разговаривал с ангелами, но его тождественность Веничке едва ли нуждается в доказательствах. И это является огромным преимуществом такого типа «я-повествования». Мы, как в фантастическом научном опыте (или как в фильме «Быть Джоном Малковичем»), получаем прямой доступ в мозг незаурядного человека и можем пережить опыт, который в своей жизни едва ли можем получить (и слава Богу, как правило). Но эта же уникальность является его огромным недостатком. Писатели, практикующие только такой тип прозы, грешат однообразием или вообще остаются в памяти авторам одного — пусть гениального — произведения, как тот же Веничка.
Я сильно подозреваю, что невероятная политическая и гражданская активность реального Эдуарда Вениаминовича Лимонова по возвращении в Россию — мотался по балканским войнам, создавал заведомо нелегальные партии, издавал экстремистские газеты, угодил в тюрьму — объясняется не только его неуемным темпераментом, но и сознательным расчетом. Чтобы писать так, как пишет он, и при этом оставаться «на уровне», ему нужно выстраивать собственную человеческую биографию как литературное произведение. И он сам это понимает: объясняя в книге СМРТ, зачем он поехал на сочащиеся кровью Балканы, он не распространяется, в духе своих статей для белградской газеты «Борьба», про братьев-сербов, а спокойно объясняет:
Мне тогда казалось (и через годы я подтверждаю это видение), что Балканы — это мой Кавказ. Что как для Лермонтова и нескольких поколений российских дворян и интеллигенции Кавказ служил ареной погружения в экзотику в XIX веке, так для меня балканские войны стали местом испытаний в конце двадцатого.
Не все писатели готовы жить как Лимонов, и поэтому, как правило, «выплеснувшись» в первом-втором романе, далее начинают «разбавлять» собственное человеческое «я» типовыми и литературными чертами. Что тоже совершенно нормально и естественно. Причем «разбавлять» в таких объемах, что самого реального автора разглядеть уже становится не так-то просто.
Можно вспомнить юмористическое стихотворение Саши Черного:
Когда поэт, описывая даму,
Начнёт: «Я шла по улице. В бока впился корсет»,
Здесь «я» не понимай, конечно, прямо,
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:
Поэт — мужчина. Даже с бородою.
Обычно это бывает в тех случаях, когда автор «нащупал» своего типического героя. Сам автор становится все старше, а его герой — нет. Это случай Пелевина. Герой его ранних произведений, сделавших увлекающегося дзен-буддизмом фантаста культовым автором — юноша и молодой человек, ищущий (на свой лад) смысла жизни. И этот герой заведомо имел ощутимые черты самого Вити Пелевина. Но Витю давно на полном серьезе зовут Виктором Олеговичем, а герой довольно удачного романа «Empire V» — по-прежнему молодой человек... Но есть и более экзотичные случаи. Недавний пример: журналист-китаист Дмитрий Косырев, выпускающий под именем «Мастер Чэнь» экзотические ретрошпионские романы. Главное действующее лицо двух первых— живущий в Китае в X веке голубоглазый согдийский купец Маниах, трех последующих — живущая в Макао в 1929 году жгучая брюнетка, португалка Амалия Соза. Конечно, и в Маниахе, и в Амалии наверняка найдется что-то от самого Дмитрия — но всё-таки это явно не Эдичка по отношению к Эдуарду Лимонову и не Веничка по отношению к Венедикту Ерофееву.
Когда элемент присутствия подлинного автора в рассказчике снижается практически до нуля — говорят о «лирическом герое» и о «сказе». Величайшим мастером такого «подставного я» в XX веке был Михаил Зощенко. Он принял упрек Маяковского — "улица корчится безъязыкая«[1], и показал в своих коротких рассказах убогий мир современного ему ленинградского обывателя — причем показал не сверху, снисходя, а изнутри, говоря его же языком и передавая его менталитет. И получалось у него это насколько органично, что эти самые обыватели полностью признавали его «своим», отказываясь верить, что Зощенко — дворянин, потомственный интеллигент, офицер.
Преимущества такого, каламбурно говоря, «не-я повествования», понятны — говоря от не своего, но все равно первого лица, автор существенно расширяет возможности высказывания, повышает доверие к нему — не теряя свойственной первому лицу искренности и вовлеченности в происходящее. Именно этим воспользовались проживающий в Петербурге дворянин Николай Гоголь, выдавая свою «Сорочинскую ярмарку» за опусы некоего грамотея-пасечника Рудого Панька, и учитель Павел Бажов, сочиняя сказы, вошедшие в «Малахитовую шкатулку». Кроме того, лирический герой может говорить и вести себя так, как реальный автор не хочет и не может себе позволить. Или просто не может, даже если хочет — например, заехать противнику пяткой в нос, одновременно увертываясь от удара ломом по голове.
Недостаток здесь в том, что, расширяя личные границы допустимого, можно проиграть в достоверности. Бажов вырос среди уральских рабочих. И поэтому его сказам — веришь.
Если же интеллигентный автор на самом деле никогда не заезжал никому пяткой в нос и не срывал ни с кого атласный корсет, читатель очень хорошо это почувствует, как бы автор н пытался убедить его в обратном. Попросту горя — играйте, но не заигрывайтесь.
Но существует и такое «я — повествование», где заигрываться как раз необходимо. Это крайнее проявление второго подхода — когда автор делает так, что у читателя нет ни малейших иллюзий по поводу рассказчика: рассказчик заведомо не может быть автором. И поэтому внимать его рассказам следует критически. В первую очередь — это заведомо безумный рассказчик, как Поприщин в «Записках сумасшедшего» или безымянный герой «Сердца-обличителя» Эдгара По. Эта новелла начинается так:
Правда! Я нервный — очень даже нервный, просто до ужаса, таким уж уродился; но как можно называть меня сумасшедшим? От болезни чувства мои только обострились — они вовсе не ослабели, не притупились. И в особенности — тонкость слуха. Я слышал все, что совершалось на небе и на земле. Я слышал многое, что совершалось в аду. Какой я после этого сумасшедший? Слушайте же! И обратите внимание, сколь здраво, сколь рассудительно могу я рассказать все от начала и до конца[2].
Чем настойчивее убеждает нас рассказчик в своей нормальности, тем явственнее мы понимаем — да он безумен!
Другой возможный вариант — когда рассказчик не понимает в полной мере происходящего, будучи чужеземцем, ребенком, умственно ограниченным человеком (как даун Бэнджи — один из трех носителей повествовательной позиции в «Шуме и ярости» Фолкнера). Или просто не человеком, а, например, собакой — но он настолько точно передает происходящее, что читатель из его «наивных» описаний сам вполне способен воссоздать картину. Писатели обожают этот ход, когда хотят добиться остранения — то есть описать что-то хорошо известное как нечто новое и необычное, «отстраненное» и «странное» одновременное. В «Холстомере» Толстой хотел показать несправедливость института частной собственности — и добивается этого, предлагая взглянуть на самые обыденные вещи глазами лошади:
...я никак не мог понять, что такое значило то, что меня называли собственностью человека. Слова «моя лошадь» относились ко мне, живой лошади, и казались мне так же странны, как слова «моя земля», «мой воздух», «моя вода».
Об этом вычлененном Виктором Шкловским приеме мы поговорим подробнее в следующей лекции, когда сосредоточимся на описаниях, а пока вспомним один из самых ярких примеров такого рода в русской литературе — «Собачье сердце». Это композиционно сложно устроенное произведение, повествовательная позиция в котором несколько раз меняется, но первая глава, как мы помним, написана от лица, и, главное, с точки зрения безымянного уличного пса:
В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.
— Фить-фить!
Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе.
— Да не бойся ты, иди.
— Здравия желаю, Филипп Филиппович.
— Здравствуй, Федор.
Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец — ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает!
Сам Филипп Филиппович, разумеется, просто не обратил внимания на то, что швейцар пропустил вместе с ним уличного пса: для него этого совершенно естественно. Да и сам Фёдор едва ли об этом задумался: раз барин ведет с собой уличного пса, значит, не его это, Фёдора, собачье дело. И только выбранная автором «собачья» позиция позволяет оценить, какое колоссальное значение имеет этот мелкий факт.
А в следующей главе (прием профессором Преображенским пациентов) «собачья» повествовательная позиция позволяет автору лишь вскользь намекнуть на такой деликатный момент: независимость доктора и его неуязвимость перед членами домкома обеспечивается тем, что он... делает аборты несовершеннолетним любовницам партийных бонз. Что с собаки взять — всё слышит, но не все понимает[3].
Периферийное первое лицо
Обычно при «я-повествовании» подразумевается, как само собой разумеющееся, что «я-рассказчик» и есть главный герой рассказываемой им истории, то есть протагонист. Но так бывает не всегда. В начальных главах «Собачьего сердца» нам кажется, что пес Шарик — и есть его протагонист. Но потом повествование «перехватывает» доктор Борменталь. И это ничуть не мешает связности рассказываемой истории, потому что настоящий протагонист «Собачьего сердца» — профессор Преображенский. И вышеприведенный яркий пассаж позволяет нам обратить внимание на другой возможный тип «я-повествования», известный как «периферийное первое лицо». В рассказах и романах про Шерлока Холмса повествование ведется, как известно, от лица его спутника, доктора Ватсона. И это помогает автору, не играя в прятки (то есть умалчивая о каких-то важных подробностях), сохранить саспенс — читатель глазами Ватсона вроде бы все видел и все слышал, но решение разгадки возникает в самом конце, мгновенно, а не постепенно, как складывается оно в голове сыщика. Возьмите те крайне немногочисленные рассказы из холмсовского канона, что написаны от лица самого Холмса, и вы увидите, насколько труднее тому же самому автору добиться подобного эффекта вовлеченности и неожиданности одновременно.
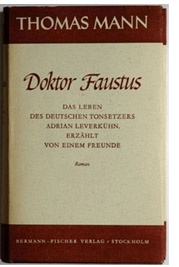 Но периферийное первое лицо — далеко не обязательно удел детективного жанра. Герой такой интеллектуальной книги, как «Доктор Фаустус» Томаса Манна — заумный композитор-авангардист (додекафонист, если быть точным) Адриан Леверкюн. Но не меньшее значение имеет в книге рассказчик — скромный человек по имени Серенус Цейтблом, который после смерти своего гениального друга пишет его биографию, опираясь как на многочисленные личные воспоминания, так и поступившие в его распоряжение документы. Недаром полное название романа — «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом». Нетрудно заметить, что композитор Леверкюн и сыщик Холмс имеют так же много общего, как и их конфиденты Цейтблом и Ватсон. Первые — замкнутые гении, скупые на эмоции; вторые —добропорядочные, но вполне посредственные люди, склонные к красивостям и изъявлению чувств. Читателю проще отождествить себя с симпатичным, но заурядным человеком, чем со странным гением.
Но периферийное первое лицо — далеко не обязательно удел детективного жанра. Герой такой интеллектуальной книги, как «Доктор Фаустус» Томаса Манна — заумный композитор-авангардист (додекафонист, если быть точным) Адриан Леверкюн. Но не меньшее значение имеет в книге рассказчик — скромный человек по имени Серенус Цейтблом, который после смерти своего гениального друга пишет его биографию, опираясь как на многочисленные личные воспоминания, так и поступившие в его распоряжение документы. Недаром полное название романа — «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом». Нетрудно заметить, что композитор Леверкюн и сыщик Холмс имеют так же много общего, как и их конфиденты Цейтблом и Ватсон. Первые — замкнутые гении, скупые на эмоции; вторые —добропорядочные, но вполне посредственные люди, склонные к красивостям и изъявлению чувств. Читателю проще отождествить себя с симпатичным, но заурядным человеком, чем со странным гением.
Ну и, наконец, не будем забывать, что рассказчик «Бесов» Достоевского сам тоже был вовлечен в потрясшие Скотопригоньевск события, которые нам описывает.
Распределенное первое лицо
Главное или периферийное, первое лицо не только открывает перед автором широчайшие возможности, но и накладывает существенные ограничения. Рассказчик не может всюду присутствовать и всё знать — даже то, что существенно для истории. Так, в вышеприведенном примере Серенус Цейтблом, естественно, ничего не может знать о ключевом моменте биографии своего друга — мистическом происшествии, которое сам Леверкюн трактует как «сделку с дьяволом». Добросовестный биограф собирает всевозможные сведения, но так ничего вразумительного сказать и не может. В данном случае это, конечно, только на руку автору, который не хотел бы, что его опус однозначно трактовался как история болезни или как мистический хоррор. Но обычно это ограничение доставляет автору при ведении повествования массу неудобств. Чтобы избежать их, автор использует так называемое «множественное первое лицо» — когда повествование ведется последовательно от лица нескольких героев, главных и второстепенных, каждый из которых рассказывает свою часть истории. Причем их рассказы могут накладываться, пересекаться и даже противоречить друг другу. Это немного запутывает читателя — но доставляет ему, как правило, живейшее удовольствие.
Классический образчик такого рода — «Лунный камень» Уилки Коллинза (1868). Книга состоит из пролога, двух больших частей и эпилога. Пролог и эпилог написаны в виде документов — письма из семейного архива и протоколов допросов трех свидетелей. А в двух основных частях позиция рассказчика распределена следующим образом: вся первая часть — в которой речь идет о краже алмаза из загородного дома —представлена в виде мемуара дворецкого, служащего в этом доме. Вторая часть — поиски алмаза — изложена в виде мемуаров восьми разных персонажей, включая протагониста, джентльмена по имени Фрэнклин Блэк, узколобую ханжу мисс Клак и врача-наркомана. Все они, естественно, уже появлялись в первой части под пером рассудительного дворецкого, не особо тонкого психолога. И поэтому когда они начинают говорить своими голосами — это создает неожиданный и сильный эффект.
Не менее эффектна форма, избранная (впервые в русской литературе —фактически, изобретенная) Лермонтовым в «Герое нашего времени». Повествование везде ведется от первого лица. Но сначала это первое лицо безымянного (но отнюдь не безликого!) рассказчика, который появляется в книге собственной персоной («Я ехал на перекладных из Тифлиса...» — для тогдашнего читателя это значило примерно то же, что доля современного значило бы «Я поймал попутку из Моздока»). Потом мы узнаём о Печорине из уст периферийного персонажа (Максима Максимыча), потом рассказчик описывает свою случайную встречу с Печориным и то, как именно к нему в руки попадают его дневники. А потом уже предъявляет нам сами эти дневники, в которых Печорин говорит от своего лица.
Современные примеры — «Каспар, Бальтазар и Мельхиор» Мишеля Турнье, история библейских трех волхвов, каждого из них которых привела в Вифлеем своя звезда. Из русских — «Белка» Анатолия Кима. Это замечательное, но очень сложное произведение, в основе которого история четырех студентов художественного училища, соседей по комнате в общежитии. По окончании училища судьбы их резко разошлись, и мы узнаем об этом из их собственных уст. В частности, один из них рассказывает, как у него через несколько лет, проведенных в полной изоляции в деревне, вырос на бедре брат-близнец, болтливый и наглый. А другой, навестив старого друга, с ужасом видит, что у него на бедре выросла огромная злокачественная опухоль...
Истоки такой формы — эпистолярные романы XVII-XVIII веков, такие, как «Опасные связи». К XX веку они практически вышли из употребления, но можно ожидать, что в XXI веке, с расцветом электронной переписки возродятся. Правда, пока что ничего существеннее , «Одиночества в Сети» Януша Вишневского так и не появилось — дерзайте!
Здравый смысл подсказывает, что один голос должен отделяться от другого по крайней мере новой главой — иначе у читателя в голове случится страшная путаница. Но есть писатели, которые сознательно этим пренебрегают — как тот же Анатолий Ким в другом своем романе, «Отец-лес». Там позиция повествователя может меняться буквально в одной фразе, которая начинается от лица одной героини, а заканчивается от лица другого героя, жившего за восемьсот лет до нее. Это кажется крайне неудобным и дезориентирующим читателя, но в пантеистической картине мира, которую выстраивает русский кореец Ким, где все персонажи как бы являются разными воплощениями единого Мирового духа, — это оказывается совершенно естественно.
Подытожим: «Я-рассказчик» может быть идентичен автору, отличен от него или вообще заведомо не иметь с ним ничего общего. Кроме того, он может быть протагонистом или вспомогательным персонажем. Но в любом случае, рассказ от первого лица создает ощущение подлинности, вовлеченности в повествование.
Третье лицо
Мировой дух, о котором толкует Анатолий Ким — это, конечно, не самый обычный прием. Он должен быть чем-то подкреплен. Например, глубоким философским содержанием, как у Кима. Гораздо чаще авторы, которые не хотят быть привязаны к телу, глазам и голосу одного конкретного персонажа, просто ведут повествование в третьем лице.
Необходимость такого перехода может буквально заявлять о себе вслух. Так, доведя повествование в романе «Лавка древностей» от первого лица (периферийного первого лица, добавим мы) до третьей главы, Диккенс понял, что избранная повествовательная форма лопается под натиском сюжета. Но поскольку роман уже печатался главами в журнале, ему пришлось сделать в конце третьей главы такой единственный в своем роде пируэт:
А теперь, доведя рассказ до этого места от своего имени и познакомив читателя с моими героями, я в интересах дальнейшего повествования отстранюсь от него и предоставлю тем, кто играет в нем главные и сколько-нибудь существенные роли, действовать и говорить самим за себя[4].
При ведении рассказа от третьего лица тоже существуют варианты, — в общем, параллельные тем, какие используются в первом лице.
Самый простой и понятный вариант — это сосредоточенное третье лицо, когда повествование «привязано» к конкретному персонажу: мы видим только то, что видит он и порою «подслушиваем» его размышления. Фактически, это то же самое, что повествование от первого лица, только дающее автору больше свободы. Например, рассказывать, какой герой молодец. По этому пути пошел Николай Островский (и его редакторы), превращая автобиографический роман «Как закалялась сталь» в настоящее житие коммунистического святого. Или —какой герой мерзавец.
Классический пример сосредоточенного третьего лица — та же «Смерть в Венеции» Томаса Манна. Использование третьего лица позволяет автору прямым текстом высказывать мысли и сокровенные желания Ашенбаха, которые он сам ни за что на свете не стал бы артикулировать, даже про себя. Пример из другой части литературного спектра — романы Александры Марининой про Настю Каменскую. Мы видим только то, что видит Настя, удивляемся тому, чему удивляется она.
«Митина любовь» Бунина намертво — в прямом смысле слова — привязана к протагонисту, который мучается оттого, что ему не пишет оставленная в Москве возлюбленная. Поэтому последняя фраза повести —
...он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил.
На этом повествование обрывается — со смертью героя перестает существовать весь его мир.
Примерам этим воистину несть числа. Можно только заметить, что бывает повествование и от третьего «ограниченного» лица — когда мы видим происходящее как бы стороны, но все равно видим только то, что видит герой, обладающий ограниченными возможностями восприятия. Таков рассказ Алексея Ремизова «Турка» — трагические события «кровавого воскресенья» 1905 года, увиденные глазами мало что понимающего молодого турка. А вот Каштанка впервые попадает в цирк:
Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ; из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи: лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то одна толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта.
Расределенное третье лицо
Как мы видим, этот способ повествования несет на себе те же ограничения, что и рассказ от первого лица. И точно также авторы обходят их, меняя повествовательную позицию. Например, в «Коде да Винчи» мы вместе с американцем Лэнгдоном поражаемся, увидев в Париже автомобильчик «Смарт», а потом вместе с фанатиком Сайласом переживаем религиозные экстазы, хлеща себя плеткой.
Как уже упоминалось, довольно сложно устроено повествование в «Собачьем сердце». В начале и в конце повествовательная позиция привязана к Шарику — сначала в первом, а потом в третьем лице, а в середине, когда верный пес превращается в злобного хама, повествовательная позиция оказывается привязана к доктору Борменталю — опять-таки, с элементами прямой речи в виде его «дневника наблюдений».
Сложность построения Булгакова вынуждена: она обусловлена введенным им фантастическим допущением о превращении собаки в человека. Но порою авторы иронично обыгрывают этот способ повествования, создавая комический эффект. Так, в «Алмазной колеснице» Акунин сначала описывает первое утро, проведенное Масой в качестве слуги Фандорина, глазами одного из них, потом глазами другого, и выясняется, что они друг друга не понимали категорически: Фандорин знаками показывает, чтобы Маса бил его пяткой в грудь, желая взять урок каратэ, а Маса думает, что это какой-то особый европейский способ любви. Но оба остаются удовлетворены: Фандорин — уроком, а Маса — тем, что, несмотря ни на что, не растерялся и смог выполнить свой долг.
Всевидящий всезнающий автор
Распределенное третье лицо — очень удобная, универсальная на первый взгляд позиция. Но на примере того же «Кода да Винчи» видны и ее недостатки. Когда повествовательные позиции равномерно чередуются, читатель становится похожим на зрителя теннисного матча, вертящего головой туда-сюда, а «пропуск» смены позиции через какое-то время воспринимается уже как огрех. Это хорошо для остросюжетного триллера, но далеко не всегда подобная механистичность и предсказуемость оказывается уместной. Кроме того, так расфокусируется внимание читателя. Ему сложнее понять, кто протагонист, а кто — просто персонаж. Чтобы избежать этого, автор принимает одну из двух безличных позиций.
Первая из них — это позиция всевидящего и всезнающего автора — демиурга, которому все известно про персонажей. Самый яркий пример такого рода — это, конечно, Лев Толстой. Ему эта позиция органична как никому. Когда ему нужно, он буквально «влезает в голову» персонажей и говорит от их имени — например в сцене, когда неискушенная Наташа Ростова попадает на балет и видит только как «мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами». А когда нужно — не чурается периодов, начинающихся со слов «князь Андрей не знал еще того, что...» или «Наполеон не мог предвидеть, что...» или просто смотрит на своих героев как на кукол с «открытыми головами»:
Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья.
Не говоря уж про знаменитое и скандальное начало «Анны Карениной» — «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая — несчастлива по-своему». Скандальное — потому что Толстой не утруждает себя обоснованиями или мотивацией своего неочевидного (и легко выворачиваемого наизнанку) высказывания. Он просто изрекает непреложную истину, и всё тут!
Не менее выдающийся образец повествования от лица всевидящего автора, чем в толстовских эпопеях, дал нам Хорхе Луис Борхес в маленьком рассказе «Тайное чудо». Речь в нем идет о чешском еврее Яромире Хладике, которого ведут на расстрел гестаповцы. Стоя перед строем, он жалеет только об одном — что он не успел написать задуманную им драму в стихах. И Бог (или автор?) совершает тайное чудо: пули, вылетевшие из ружей, застывают в воздухе: время для Хладика остановилось, пока он не допишет мысленно свою драму. Он неторопливо и тщательно оттачивает каждую сцену, сокращает, переставляет местами реплики. Наконец он понимает, что ему осталось найти один эпитет. Находит его — и в тот же миг пули оживают и впиваются в его тело. Для посторонних наблюдателей все происходящее не заняло и секунды. Но для Хладика прошел почти год — и кто, кроме автора-демиурга, может это подтвердить?
Но, конечно, далеко не все писатели считают себя вправе вещать подобно Господу Богу. Чаще они не выпячивают свое всезнание и маскируют демиургическое начало, предпочитая роль тактичного собеседника, делящегося с читателем известной ему занятной историей. А порою даже вступающим с ним, c читателем, в полушутливый диалог по этому поводу, как Проспер Мериме в «Хрониках царствования Карла IX».
— Господин автор! Сейчас вам самое время взяться за писание портретов! И каких портретов! Сейчас вы поведете нас в Мадридский замок, в самую гущу королевского двора. И какого двора! Сейчас вы нам покажете этот франко-итальянский двор. Познакомьте нас с несколькими яркими характерами. Чего-чего мы только сейчас не узнаем! Как должен быть интересен день, проведенный среди стольких великих людей!
— Помилуйте, господин читатель, о чем вы меня просите? Я был бы очень рад обладать такого рода талантом, который позволил бы мне написать историю Франции, тогда бы я не стал сочинять. Скажите, однако ж, почему вы хотите, чтобы я познакомил вас с лицами, которые в моем романе не должны играть никакой роли?[5]
Объективное повествование
У позиции «всевидящего всезнающего автора» есть прямая противоположность — так называемое объективное повествование, когда автор вообще не «влезает в голову» ни одного из персонажей, ни прямо, ни косвенно — и сообщает нам только то, что доступно наблюдению постороннего наблюдателя — диалог, жесты, мимика, поступки — чтобы читатель сам понимал, чтó происходит. Например, современный итальянец Джузеппе Куликкья (р. 1965) в романе «Все равно тебе водить» нарочито бесстрастным тоном описывает вечеринку в клубе, на которую его автобиографичного героя приглашает бывшая одноклассница, и завершает ее простой фразой — «я ушел не попрощавшись». Но, конечно, эта беспристрастность и «стертость» — мнимая: для итальянцев, с их культом долгих церемонных прощаний, одной этой простой фразы достаточно, чтобы понять: «я был взбешен, раздосадован и твердо решил, что знать этих людей больше не желаю».
Этот тип повествования — его еще называют «нулевой степенью письма» — можно уподобить видеокамере наблюдения. Чтобы он работал с такой силой, как у Бабеля в рассказах «Мой первый гусь» или «Вечер», писатель должен обладать исключительным талантом и трудолюбием, т.е. готовностью выверять каждое слово. Или же читатель должен обладать исключительной проницательностью, чтобы быть в состоянии ловить на лету невзначай брошенные намеки. Такой читательский опыт, как правило, накапливается и воспитывается в течение многих поколений. Не случайно «нулевая степень письма» появилась именно в западноевропейской литературе, прошедшей через горнило авангардизма 1920-х.
Необходимо еще здесь отметить, что ни «позиция всевидящего Бога», ни позиция «глазка видеокамеры» не подразумевает, как внушает нам сила инерции, что автор всегда смотрит на своих героев с небесных высот. Наоборот: всезнающий автор потому-то и всезнающ, что знает, в какой момент нужно «слезть с Олимпа» и углубиться в детали.
Кинорежиссер Михаил Ромм любил приводить своим студентам для анализа абзац «Пиковой дамы»:
Рассуждая таким образом, очутился он [Германн] в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.
В этом коротком фрагменте, говорил Ромм, последовательно сменяют друг друга три плана: общий (вид улицы) — средний (освещенный подъезд) — крупный (нога, ботфорта, башмак). Потом следует «монтажная склейка» (переход с карет на проходящих мимо швейцара) и «камера» фиксируется на герое — Германне.
Трудно поверить, что это фрагмент из произведения, написанного в 1836 году без намерения продать его в Голливуд. Но, как мы знаем, это именно так. Следовательно, законы восприятия не зависят от медиа, а зависят от человеческого мозга. Который мало изменился со времен Аристотеля.
Подытожим: повествование в третьем лице может быть личным или безличным. В первом случае оно может «следовать» за конкретным героем, учитывая особенности его восприятия происходящего, или «перескакивать» от героя к герою. Во втором автор может занимать позицию всевидящего и всезнающего демиурга или наоборот, низвести себя до скромной роли якобы беспристрастной «камеры наружного наблюдения». Что не исключает внимания к деталям.
Ты, читатель
Для полноты картины надо сказать и о повествовании от второго лица — когда автор обращается к персонажу на «ты» — «ты пойдешь, ты сделаешь».
Примеры эти, надо признать, очень малочисленны и относятся к области экспериментальной или мемуарной прозы. Самый известный русскому читателю пример — «Владимир или прерванный полет», мемуары Марины Влади. Она рассказывает о своем герое именно таким образом «ты пришел, ты спел, ты обнял»... — и, конечно, она имела право на такую интимность.

Менее известно, однако, что Влади опиралась не только на свои чувства, но и на традицию авангардного французского «нового романа». В частности — на роман 1967-го года авангардиста и экспериментатора Жоржа Перека «Человек, который спит». Перек подробно, шаг за шагом, описывает процесс выпадения из обычной жизни молодого героя-студента. Ты перестаешь сдавать экзамены. Ты ходишь каждый день в одно и то же кафе и заказываешь один и тот же тошнотворный бизнес-ланч. Ты все больше и больше времени проводишь в постели, стремясь слиться с окружающим миром. Но попытка исчезнуть из общества, слиться с безличным миром, терпит поражение: «Нет. Ты не анонимный властелин мира, против которого история была бессильна». В данном случае второе лицо оправдано не только экстравагантностью автора, но и типичностью персонажа, совпадающего с потенциальным читателем — неудовлетворенным буржуазным обществом парижским студентом конца 60-х. Так что его «ты» равно может быть адресовано и к читателю, и к герою.
Иронично обыгрывает эту технику Итало Кальвино. Вот как начинается его роман «Если однажды зимней ночью путник»:
Ты открываешь новый роман Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник». Расслабься. Соберись. Отгони посторонние мысли. Пусть окружающий мир растворится в неясной дымке. Дверь лучше всего закрыть: там вечно включен телевизор. Предупреди всех заранее: «Я не буду смотреть телевизор!» Если не слышат, скажи громче: «Я читаю! Меня не беспокоить!» В этом шуме могут и не услышать. Скажи еще громче, крикни: «Я начинаю читать новый роман Итало Кальвино!» А не хочешь — не говори: авось и так оставят в покое.
Устройся поудобнее: сидя, лежа, свернувшись калачиком, раскинувшись. На спине, на боку, на животе. В кресле, на диване, в качалке, в шезлонге, на пуфе. В гамаке, если есть гамак. На кровати. Разумеется, на кровати. Или в постели. Можно вниз головой, в позе йоги. Перевернув книгу, естественно[6].
Удачный (хотя едва ли осознанный) пример использования элементов «мы-повествования» — рассказ Конан-Дойла «Сквозь пелену»: герой, современный автору благовоспитанный джентльмен, во сне переносится духовно в далекое прошлое и вместе со своими предками-скоттами отправляется атаковать римский военный лагерь, с восторгом ощущая себя одним из них, из этих диких варваров.
Что выбрать?
С таким широким выбором — как определить, какая повествовательная позиция подходит именно вам?
Помимо универсальных советов (отталкиваться от любимого писателя/ произведения) можно предложить задуматься над такими вопросами:
начав писать от первого лица, не загоните ли вы себя в угол? То есть не возникнет ли ситуация, что герою надо видеть что-то, чего он видеть не может, или знать что-то, чего он знать не может? И наоборот: с вашими героями в ваших обстоятельствах, не слишком ли вам часто придется прибегать к драматизированным внутренним монологам, более подобающим первому лицу, чем третьему?
Разумеется, предвидеть все это заранее невозможно никогда и никому. Красноречивый пример того, как писатель не сразу находит свой путь — Марсель Пруст. Гигантский цикл романов «В поисках утраченного времени» написан от первого лица — чья тождественность самому Прусту сразу ни у кого не вызывала сомнений. И долгое время Пруст и «я-повествование» считалось просто синонимами — казалось невозможным представить, что этот утонченный психологист-декадент может писать как-то еще. Пока в 1952 году, через тридцать лет после смерти Пруста, не были опубликованы наброски его юношеского романа «Жан Сантей», которые, безусловно, и были тем ростком, из которого выросло раскидистое дерево из семи романов «Потерянного времени»... но которые были написаны в третьем лице. Так что нет никакой трагедии, если на какой-то стадии работы вы поймете, что все надо переписать с другой повествовательной позиции. Слава богу, в наши дни редко кому приходится делать это «на лету», как Диккенсу в «Лавке древностей».
[1] Из «Облака в штанах»:
Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.
[2] Перевод В. Хинкиса
[3] — Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?
— Господа, — возмущённо кричал Филипп Филиппович, — нельзя же так. Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?
— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.
— Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.
— Женат я, профессор.
— Ах, господа, господа!
Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук.
«Похабная квартирка», — думал пёс.
[4] Перевод Н. Волжиной
[5] Перевод Н. Любимова
[6] Перевод Г. Киселева
ОПИСАНИЕ.
11 октября 2012
Описания
Живая и мертвая вода
Во всех фольклорах мира существует древний сюжет о живой и мертвой воде — то есть об убитом богатыре, которого можно оживить при помощи двух волшебных снадобий. Первое из них — мертвая вода — сращивает разрубленное тело, а второе — живая вода — вдыхает в него жизнь. Казалось бы, зачем нужна такая двухступенчатая схема? Почему, как в более поздних «цивилизованных» сказках, нельзя оживить убитого героя сразу, при помощи универсального «эликсира жизни» — два в одном, так сказать?
Получается, что нельзя. Наши древние предшественники — сказители мифов, хорошо понимали то, что подтвердит любой современный инженер: собрать воедино какую-то сложную конструкцию или схему — это одна задача, а вот заставить ее работать, оживить — совершенно другая, отдельная от первой.
Я рассказываю об этом не только потому, что хочу в очередной раз напомнить о генетической связи современной фикшн с древними-предревними мифами, но и потому, что сегодняшняя лекция посвящена такому важному элементу писательского ремесла, как описания. И эта лекция — поворотная в нашем курсе.
На предыдущих лекциях мы говорили о видах фикшна, об идеях, персонажах, сюжетах и повествовательной позиции. Все эти важнейшие вопросы относятся к структуре фикшна, то есть, так сказать, к «телу» текста. Я старался объяснить, как сделать так, чтобы оно не оказалось кривобоким и непропорциональным. Всё это, как вы уже поняли, относится к «компетенции» мертвой воды. На нынешней же лекции мы откупориваем кувшинчик с живой водой. И делаю я это с большим трепетом. Подобно тому, как современная хирургия в состоянии собрать человеческое тело после любой катастрофы, но по-прежнему далеко не всегда не в состоянии оживить его, точно также современное литературоведение, после блестящих работ русских формалистов и французских структуралистов, в состоянии проанализировать любой текст — вычленить сумму стилеобразующих приемов, систему лейтмотивов и внутреннюю структуру — но так же, как и во времена Софокла и Еврипида, не в состоянии объяснить вразумительно, почему одно произведение, совершенно «неправильное», оказывается живым, успешным и востребованным, а другое, написанное по всем правилам — не вызывает ровным счетом никакого интереса даже у коллег-филологов.
Так что откупоривая кувшинчик с живой водой, я чувствую себя не столько мудрым вороном — птицей вещей, сколько ярмарочным шарлатаном со снадобьями. В построении композиции можно вычленить объективные закономерности, мало изменившиеся со времен Аристотеля. С художественными приемами, первым из которых и является описание, дело обстоит по-другому. Я говорю вам — это работает так-то и так-то. А именно у вас это не сработает. И сработает что-то совсем другое. Но ведь случается, что заклинания работают даже помимо воли тех, кто читает их по старинной книге.
 А еще я хочу наконец привести слова художника Эжена Делакруа, которые вертятся у меня на языке с самой первой лекции: «Художник должен постоянно оттачивать свое мастерство, чтобы не думать о нем в момент творчества».
А еще я хочу наконец привести слова художника Эжена Делакруа, которые вертятся у меня на языке с самой первой лекции: «Художник должен постоянно оттачивать свое мастерство, чтобы не думать о нем в момент творчества».
Дата: 2018-12-21, просмотров: 767.