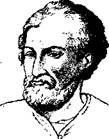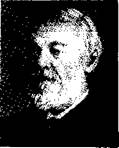385

 условиях капитализма средства произ-ва — капитал, является орудием эксплуатации одной частью общества другой, лишенной средств произ-ва. При социализме средства произ-ва являются объектом обществ, собственности. Социалистич. П. с, в отличие от капиталистических, развиваются без кризисов и спадов, планомерно и непрерывно. При капитализме значительная часть рабочей силы не находит себе применения в производстве, хищнически растрачивается, дисквалифицируется. В СССР безработица давно не существует. Социалистическое общество организует планомерную подготовку, распределение и использование рабочей силы с учетом изменений в составе и структуре П. с. Неуклонно растет общеобразовательный уровень населения СССР, идет процесс стирания существенных различий в общеобразовательном уровне работников физического и работников умственного труда.
условиях капитализма средства произ-ва — капитал, является орудием эксплуатации одной частью общества другой, лишенной средств произ-ва. При социализме средства произ-ва являются объектом обществ, собственности. Социалистич. П. с, в отличие от капиталистических, развиваются без кризисов и спадов, планомерно и непрерывно. При капитализме значительная часть рабочей силы не находит себе применения в производстве, хищнически растрачивается, дисквалифицируется. В СССР безработица давно не существует. Социалистическое общество организует планомерную подготовку, распределение и использование рабочей силы с учетом изменений в составе и структуре П. с. Неуклонно растет общеобразовательный уровень населения СССР, идет процесс стирания существенных различий в общеобразовательном уровне работников физического и работников умственного труда.
Социальная сущность П. с. проявляется и в том, что экономич. законы данного обществ, строя определяют структуру, размещение, пропорции, темпы и характер развития, формы концентрации и управления П. с., динамику роста культурно-технич. уровня и условия жизни работников.
Кооперация и разделение труда, являясь формами совместной деятельности людей в произ-ве материальных благ, выступают как элементы П. с. общества. «... Способ совместной деятельности есть „производительная сила"...» (там же, т. 3, с. 28).
Кооперация, разделение и организация труда образуют т. н. обществ, организацию П. с, выражают способ их функционирования и размещения по родам обществ, произ-ва. Пром. переворот привел к глубокому сдвигу в обществ, характере произ-ва, сделав кооперацию осн. формой труда в пром-сти и необычайно развив разделение труда в обществе.
Совр. произ-во основывается на широком применении достижений науки. Предвидя органич. соединение произ-ва и науки, Маркс называл ее «... всеобщей общественной производительной силой ...» (там же, т. 26, ч. 1, с. 400). Превращение науки в непосредственные П. с. начинается с появления машины, заменяющей ручной инструмент, и особенно бурно происходит в условиях совр. научно-технической революции. Формы, в к-рых наука действует как П. с, следующие: использование в произ-ве продуктов науч. труда — теоретич. исследований в области математики, физики, химии, биологии, технич. открытий и изобретений, направленных на совершенствование средств и предметов труда, на создание новых машин и механизмов, в т. ч. электронно-счетных машин и новых материалов, методов разведки полезных ископаемых и комплексной разработки природных богатств и т. д.; реализация практич. выводов экономических и системных исследований в области размещения П. с, организации труда и произ-ва, использование экономико-математич. методов в планировании и у-цравлешти произ-вом; научный труд конструкторов, лаборантов, инженеров, агрономов, рационализаторов как составная и неотъемлемая часть совокупного производит, труда по обслуживанию текущих технологич. процессов; научно-технич. оборудование совр. заводских лабораторий; конструкторских бюро, н.-и. ин-тов, работающих на произ-во.
Развитие П. с. является основой строительства коммунизма в СССР и постепенного преобразования социалистич. обществ, отношений в коммунистические, создания изобилия материальных благ. Создание матери-ально-технич. базы коммунизма определено в Программе КПСС (1961) как главная экономич. задача партии и сов. народа. Коммунистич. общество предполагает достижение несравненно более высокой ступени развития П. с, чем их нынешняя ступень, ка-
честв, сдвиги во всех элементах, составляющих П. с. Техника и технология произ-ва будет развиваться в направлении полной электрификации всей страны, всех отраслей нар. х-ва, комплексной, т. е. всесторонней, механизации и все более полной автоматизации пром-сти, транспорта и связи, широкой химизации нар. х-ва и производств, применения атомной энергии. На совр. этапе в огромной степени возрастает роль химии в производств, процессах. Она открывает возможности изменять свойства природных материалов, создавать новые материалы, к-рые не встречаются в природе, революционизировать предметы труда, ускорять течение технологич. процессов и на этой основе повышать производительность труда, улучшать качество продукции, позволяет резко интенсифицировать с. х-во. По своему воздействию на производство химия приближается к электричеству. Будет создана рациональная организация обществ, произ-ва во всех отраслях нар. х-ва. Развитие П. с. коммунистич. общества предполагает также дальнейший подъем культурно-технлч. уровня трудящихся путем осуществления всеобщего обязат. среднего образования, развития высшего и среднего спец. образования на базе сокращения рабочего дня и использования свободного времени для всестороннего и гармонич. развития чело-веч, личности.
Лит.: Маркс К. иЭнгельсФ., Немецкая идеология, Соч., 2 изд., т. 3, разд.: Фейербах; их же, Манифест Коммунистич. партии, там же, т. 4; М а р к с К., Введение (Из экономич. рукописей 1857—1858 гг.), там же, т. 12, разд. 4; его ж е, К критике политич. экономии. Предисловие, там же, т. 13; его же, Капитал, т. 1, гл. 5, 11, 12, 13, там же, т. 23; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 1957, отд. 3, гл. 2; Архив Маркса и Энгельса, т. 2(7), М., 1933, с. 67, 99, 121, 129; Ленин В. И., Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?, вып. 1, Соч., 4 изд., т. 1; его же, Замечания на книгу Н. И. Бухарина: «Экономика переходного периода», Ленинский сборник, т. XI, М.—Л., 1929, с. 371—74; Программа КПСС (Принята XXII съездом КПСС), М., 1961, ч. 2, разд. 1, пункт 1; Ч а г и нБ. А. и X а р-ч е в А. Г., О категориях «производительные силы» и «производственные отношения», «ВФ», 1958, N» 2; ГЛенкманБ. И., О нек-рых осн. тенденциях развития средств труда, в сб.: Проблемы политич. экономии социализма. М., 1959; X е й н-м а н С, Проблемы развития материально-технич. базы коммунизма, в сб.: От социализма к коммунизму, М., 1962; Г и н Л. Т., К характеристике П. с. и материально-технич. базы общества как экономич. категорий, в сб.: Проблемы политич. экономии социализма, вып. 1963 г., М., 1963; Шик О., Экономика. Интересы. Политика, пер. с чеш., М., 1964, гл. 1; Ельмеев В. Я., Коммунизм и развитие человека как производительной силы общества, М., 1964. См. также лит. при ст. Материально-техническая база общества, Коммунизм.
В. Черковец. Москва.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ — совокупность материальных экономич. отношений между людьми в процессе обществ, произ-ва и движения обществ, продукта от произ-ва до потребления.
П. о.— это прежде всего экономич. категория, характеризующая предмет политич. экономии; в то же время П. о.— одна из важнейших социология, категорий. Марксистская политич. экономия и псторич. материализм вкладывают в понятие П. о. одно и то же содержание, но исследуют П. о. под разными углами зрения: экономическим и социологическим. П. о. являются необходимой стороной обществ, произ-ва. Люди не-могут производить материальные блага в одиночку, в произ-ве они вынуждены вступать в определенные отношения друг к другу. В процессе труда между членами производств, коллектива складываются отношения, обусловленные потребностями производств, процесса, напр. отношения между рабочими различных специальностей, отношения между работниками внутри производств, бригады, между бригадами и т. п. Эти отношения, связанные с технич. разделением труда внутри производств, коллектива или в масштабах общества, называются производств.-техническими. Но в произ-ве, кроме этих отношений, между людьми складываются также экономич. отношения. Производств.-экономич. отношения, или как их
386
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 обычно называют П, о., отличаются от производств.-технических тем, что они выражают отношения людей через посредство их отношения к орудиям и средствам .произ-ва. Известны два наиболее общих вида П. о., соответствующих двум осн. видам отношений людей к орудиям и средствам произ-ва — обществ, собственности и частной собственности,— отношения сотрудничества и взаимной помощи между членами общества и отношения господства и подчинения, отношения эксплуатации человека человеком. Первый вид П. о. в исторически различных формах проявляется в эпоху первобытнообщинной формации и в условиях социализма. Люди, лишенные всех или осн. средств произ-ва, неизбежно оказываются в экономич. зависимости от собственников средств произ-ва. Исторически конкретными типами П. о. господства и подчинения являются отношения рабовладельч., феод, и капиталистич. общественно-экономич. формаций. Кроме осн. типов П. о., существуют также переходные П. о., когда в рамках одного и того же уклада х-ва сочетаются элементы различных типов П. о., напр. гос. капитализм в условиях диктатуры пролетариата, полу-социалистич. формы кооперации и т. д.
обычно называют П, о., отличаются от производств.-технических тем, что они выражают отношения людей через посредство их отношения к орудиям и средствам .произ-ва. Известны два наиболее общих вида П. о., соответствующих двум осн. видам отношений людей к орудиям и средствам произ-ва — обществ, собственности и частной собственности,— отношения сотрудничества и взаимной помощи между членами общества и отношения господства и подчинения, отношения эксплуатации человека человеком. Первый вид П. о. в исторически различных формах проявляется в эпоху первобытнообщинной формации и в условиях социализма. Люди, лишенные всех или осн. средств произ-ва, неизбежно оказываются в экономич. зависимости от собственников средств произ-ва. Исторически конкретными типами П. о. господства и подчинения являются отношения рабовладельч., феод, и капиталистич. общественно-экономич. формаций. Кроме осн. типов П. о., существуют также переходные П. о., когда в рамках одного и того же уклада х-ва сочетаются элементы различных типов П. о., напр. гос. капитализм в условиях диктатуры пролетариата, полу-социалистич. формы кооперации и т. д.
П. о. охватывают область произ-ва, обмена и распределения материальных благ, т. е. все сферы экономич. отношений общества. Обществ, производство в широком смысле слова включает обмен и распределение как свои моменты (см. К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 12, с. 721, 725).
Т. о., отношения в непосредств. процессе производства, конкретно-историч. формы обществ, разделения труда и обмена деятельностью и зависимые от них формы распределения образуют в своей совокупности систему П. о. Эта система П. о. представляет собой определенное единство, благодаря тому что она пронизана и обусловлена данными отношениями собственности. Непосредственно в процессе произ-ва различные отношения собственности находят выражение в способе соединения производителя со средствами произ-ва. Так, в рабовладельч. обществе раб и средства труда соединяются как собственность рабовладельца. В капиталистич. обществе рабочий может соединяться со средствами произ-ва, лишь продав свою рабочую силу капиталисту. В социалистич. обществе сами трудящиеся являются коллективными собственниками средств произ-ва.
Хотя необходимость обмена деятельностью вытекает из разделения труда, его социальная природа и формы проявления определяются отношениями собственности. В сфере распределения отношения собственности выступают как фактор, определяющий ту долю совокупного обществ, продукта, к-рая достается каждому классу и соответственно индивидам этих классов. При этом отношения собственности определяют лишь пропорции, в к-рых распределяется произведенный продукт, а его количество зависит от уровня развития произ-ва. Имеется качеств, различие в принципах распределения на базе частной и на базе обществ, собственности.
Т. о., отношения собственности пронизывают все сферы экономич. отношений. Это значит, что формы собственности выступают не просто как основа, на к-рой надстраивается вся совокупность экономич. отношений, а как сущность этих отношений. Вся сумма экономич. отношений есть но что иное, как проявление, различные модификации отношений собственности. П. о. придают всем обществ, явлениям и обществу в целом исторически определенное социальное качество. Само выделение П. о. как объективных, материальных, от сознания людей не зависящих отношений из всей суммы обществ, отношений составляет центр, пункт в выработке матерпалистич. понимания истории. Уже в работе «Критика гегелевской философии права» (1843)
Маркс сформулировал положение, прямо противоположное точке зрения Гегеля, что не гос-во есть основа гражд. общества, а, напротив, гражд. общество есть основа гос-ва. Анализируя гражд. общество, его структуру как действительную основу политич. устройства, Маркс пришел к выводу, что именно иму-ществ. отношения людей составляют основу гражд. общества и порождают интересы, определяющие деятельность людей. Дальнейшее развитие этой идеи состояло в том, что имуществ. отношения были поняты как отношения, складывающиеся в процессе произ-ва. Ленин отмечал, что в «Святом семействе» (1845) «... Маркс подходит к основной идее всей своей „системы", sit venia verbo,— именно к идее общественных отношений производства» (Соч., т. 38, с. 13). В «Немецкой идеологии» (1845—47) Маркс и Энгельс сформулировали осн. положения материалистич. понимания истории. Рассматривая произ-во как основу обществ, жизни, они уже выделяют две его стороны — производительные силы и зависящие от них обществ, отношения людей в произ-ве, к-рые, однако, определяются в этой работе как «формы общения». Сам термин «П. о.» был выработан Марксом позже и употребляется в первых зрелых произведениях марксизма: «Нищета философии», «Манифест Коммунистич. партии», «Наемный ТРУД и капитал».
Выделение экономич. П. о. из всей суммы обществ, отношений явилось основой науч., объективного подхода к анализу историч. процесса. П. о. дают объективный критерий для отграничения одной ступени обществ, развития от другой, для выделения общего, повторяющегося в истории разных стран и народов, находящихся на одной ступени обществ, развития, т. е. для выделения конкретно-историч. типов общества — общественно-экономич. формаций, и тем самым открывают путь познания законов развития человеч. истории.
Если отвлечься от П. о., в рамках к-рых совершается труд, тогда останутся лишь нек-рые общие моменты всякого трудового процесса и историч. эпохи будут различаться между собой только уровнем технич. вооруженности труда, исчезнут коренные экономич. различия между разными обществ, формациями. Об этом свидетельствуют бурж. теории «единого индустриального общества», «стадий экономич. роста» и др., к-рые оценивают различные общества только с точки зрения уровня их технич. развития.
П. о. являются социальной формой производит, сил и их можно отделить друг от друга лишь в абстракции. В действительности же они составляют две стороны каждого способа произ-ва и связаны друг с другом по закону соответствия П. о. характеру и уровню развития производит, сил. Согласно этому закону, П. о. складываются в зависимости от характера и уровня развития производит, сил как форма их функционирования и развития. В свою очередь П. о. воздействуют на развитие производит, сил, ускоряя или тормозя это развитие. Противоречие между производит, силами и П. о. может быть разрешено лишь путем изменения П. о. и приведения их в соответствие с производит, силами. В антагогшстич. обществе разрешение этого противоречия осуществляет социальная революция. Диалектика производит, сил и П. о. вскрывает причины самодвижения произ-ва и тем самым сущность всего историч. процесса.
Являясь формой развития производит, сил, П. о. выступают также в качестве базиса по отношению к идеологии, идеологич. отношениям и учреждениям — обществ, надстройке (см. Базис и надстройка). П. о. выполняют функции базиса потому, что опп являются отношениями материальными, определяющими идеологич. обществ, отношения (см. Общественные отношения). В совокупности всех своих социальных функ-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ — ПРОИЗВОДСТВО
387
 ций — и как форма производит, сил и как базис общества — П. о. образуют экономия, структуру обществ, формации. П. о. коммунистич. формации коренным образом отличаются от П. р. всех предшествующих антагонистич. формаций тем, что они характеризуются обществ, собственностью на средства произ-ва, отсутствием эксплуатации и антагонизмов, являются базисом идейно-политич. единства всего общества.
ций — и как форма производит, сил и как базис общества — П. о. образуют экономия, структуру обществ, формации. П. о. коммунистич. формации коренным образом отличаются от П. р. всех предшествующих антагонистич. формаций тем, что они характеризуются обществ, собственностью на средства произ-ва, отсутствием эксплуатации и антагонизмов, являются базисом идейно-политич. единства всего общества.
П. о. коммунистич. формации имеют своеобразные закономерности своего возникновения. Они не формируются в недрах предшествующей формации и возникают в результате социалистич. революции, установления диктатуры пролетариата, к-рая используется как рычаг для преобразования экономич. отношений.
Характер развития П. о. коммунистич. формации также качественно отличается от развития П. о. предшествующих обществ. Во-первых, противоречия, возникающие в развитии социалистич. способа произ-ва, разрешаются не путем устранения социалистич. П. о., а путем их развития при сохранении их качеств, определенности как отношений сотрудничества и взаимопомощи. Во-вторых, раньше противоречия между производит, силами и П. о. разрешались в интересах одной социальной группы (класса) в ущерб другой, при социализме же они разрешаются в интересах всего общества.
Формирование коммунистич. П. о. проходит три осн. этапа: переходный период, социализм и коммунизм. В переходный период происходит замена частной собственности общественной в результате экспроприации частной собственности, основанной на присвоении чужого труда, и кооперирования собственности мелких производителей, основанной на личном труде. Социалистич. П. о. характеризуются наличием двух форм обществ, собственности на средства произ-ва — государственной и кооперативной (эти формы собственности имеются во всех существующих ныне социалистич. странах), существенными различиями между городом и деревней, между умств. и фи-зич. трудом и распределением по количеству и качеству труда. Однако в силу недостаточной экономич. зрелости социализм представляет собой низшую фазу коммунизма. Развитие социалистич. П. о. и есть их постепенное перерастание в коммунистич. П. о., переход к третьему этапу их развития — высшей фазе коммунизма. В Программе КПСС (1961) научно раскрыт характер тех изменений в П. о., к-рые будут происходить на основе и в процессе создания материально-технич. базы коммунизма. Главным является но мере развития производит, сил и производительности труда постепенное сближение и слияние двух форм социалистич. собственности и создание единой общенар. собственности на орудия и средства произ-ва, стирание существенного различия между городом и деревней, сближение умств. и физич. труда, стирание социальных различий между рабочими, крестьянами и интеллигенцией, постепенный переход от распределения по труду к распределению по потребностям, установление полного социального равенства.
Лит.: Маркс К. иЭпгельсФ., Немецкая идеология. Соч., 2 изд., т. 3, разд. 1; и х же, Манифест Коммунистич. партии, там же, т. 4; М а р к с К., Нищета философии, там же; его же, Наемный труд и капитал, там же, т. 6; е г о же, Введение (Из экономических рукописей 1857—1858 гг.), там же, т. 12; е г о ж с, К критике политич. экономии. Предисловие, там же, т. 13; его ж е, Капитал, т. 1, там же, т. 23; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, разд. 2, 3, там же, т. 20; Лени н В. И., Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?, Соч., 4 изд., т. 1; ег о же, Развитие капитализма в России, там же, т. 3; е г о же, Империализм, как высшая стадия капитализма, там же, т. 22; его же, Очередные задачи Советской власти, там же, т. 27; его же, О кооперации, там же, т. 33; Программа КПСС (Принята XXII съездом КПСС), М., 1961; Ч а г и и Б. А., Харчев А. Г., О категориях «производительные силы» и «производственные отношения», «ВФ», 1958, № 2; Некоторые
теоретич. вопросы стрсительства коммунизма, М., 1960; Фомина В. А. и Белозерцев В. И., Особенности развития социалистич. способа производства, М., 1962; Основы марксистской философии, 2 изд., М., 1964, гл. 11, 12. В. Нелле, М. Ковалъзон. Москва.
ПРОИЗВОДСТВО — процесс, посредством к-рого люди преобразуют предметы природы для удовлетворения своих потребностей, собств. деятельностью опосредствуют, регулируют и контролируют обмен веществ между собой и природой. Процесс П. всегда носит обществ, характер: П. обособленного одиночки вне общества представляет собой, по выражению Маркса, такую же бессмыслицу, как развитие языка без совместно живущих индивидов. В процессе П. люди вступают в определенные, независящие от их воли, обществ, отношения, совокупность к-рых составляет экономич. структуру общества, или обществ, строй П. Произ-во играет определяющую роль по отношению к распределению, обмену (обращению) и потреблению. П. всегда выступает в определ. обществ, форме на определ. ступени историч. развития общества (см. Способ производства). Обществ, процесс П. охватывает как непосредств. процесс П., так и распределение, обмен и потребление. Эти моменты образуют части целого, различия внутри единства. Между этими сторонами обществ, производств, процесса существует взаимодействие, как и во всяком органич. целом. «Определенное производство обусловливает, таким образом, определенное потребление, распределение, обмен и определенные отношения этих различных моментов друг к другу. Конечно, и производство в его односторонней форме определяется, со своей стороны, другими моментами» (М а р к с К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 12, с. 725 — 26).
С П. каждый раз начинается процесс, охватывающий ■все четыре момента. П. выступает исходным пунктом всего процесса, потребление — конечным пунктом, распределение и обмен — средними членами, причем распределение представляет собой момент, исходящий от общества, а обмен — от индивида.
Но такое представление отражает, как указывает Маркс, лишь внешнюю связь явлений. Бурж. экономисты, оставаясь на поверхности явлений, рассматривают каждый из моментов обществ, процесса П. как нечто самостоятельное и независимое,делая отсюда вывод, что П. якобы определяется вечными законами природы, распределение — социальными условиями, обмен — психологич. законами, а потребление лежит вообще вне сферы экономики. Таким путем они подменяют категории исторически определ. форм обществ, х-ва рассуждениями, относящимися вообще к П. и другим сторонам экономич. жизни, призванными затушевать исторически преходящий характер капи-талистич. способа П. и его противоречия.
Марксизм впервые выяснил действит. характер взаимосвязи и взаимозависимости моментов или сторон обществ, процесса П. Так, П. ость непосредственно также и потребление, а именно — потребление человеч. рабочей силы, с одной стороны, и потребление средств П., с другой. И, наоборот, потребление есть непосредственно также и П. Но это не значит, что можно отождествлять П. и потребление. У одного субъекта П. и потребление выступают как моменты одного акта. Но рассматривать общество как один субъект, значит рассматривать его неправильно, умозрительно. Характер потребления определяется обществ, строем П. и поэтому качественно различен в условиях капитализма и социализма.
Структура распределения полностью определяется структурой П. Так, в капиталистич. обществе осн. формы доходов — заработная плата, прибыль, процент и рента — представляют собой формы распре-
388 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ГОСУДАРСТВА»
 деления, имеющие предпосылками наемный труд, капитал и землю в качестве факторов П. «Отношения распределения и способы распределения выступают поэтому лишь оборотными сторонами факторов производства» (там же, с. 721). Распределение представляется прежде всего распределением продуктов, но на деле, прежде чем происходит распределение продуктов, имеет место распределение средств П. и членов общества по различным видам произ-ва, их подчинение определ. производств, отношениям. Распределение продуктов представляет собой лишь результат этого распределения, к-рое заключено в самом процессе П. и определяет его организацию.
деления, имеющие предпосылками наемный труд, капитал и землю в качестве факторов П. «Отношения распределения и способы распределения выступают поэтому лишь оборотными сторонами факторов производства» (там же, с. 721). Распределение представляется прежде всего распределением продуктов, но на деле, прежде чем происходит распределение продуктов, имеет место распределение средств П. и членов общества по различным видам произ-ва, их подчинение определ. производств, отношениям. Распределение продуктов представляет собой лишь результат этого распределения, к-рое заключено в самом процессе П. и определяет его организацию.
Маркс решительно опроверг представление бурж. экономистов, признававших историч. характер отношений распределения, но отрицавших историч. характер отношений произ-ва. «Исторический характер этих отношений распределения,— писал Маркс,— есть исторический характер производственных отношений, только одну сторону которых они выражают» (там же, т. 25, ч. 2, с. 456). При этом Маркс указывал, что представление бурж. экономистов основано на смешении и отождествлении обществ, процесса П. с простым процессом труда вообще, как процессом между человеком и природой, процессом, простые элементы к-рого остаются одинаковыми на всех ступенях обществ, развития.
Точно так же обстоит дело с обменом (или обращением, т. е. обменом, опосредствованным деньгами). Обмен во всех своих моментах или непосредственно заключен в П., или определяется им. Само П. есть, по определению Маркса, обмен деятельностей и способностей. Далее, обмен продуктов есть средство для произ-ва готового продукта, предназначенного для потребления. Это не что иное, как завершающий акт П. Обмен представляется независимым от П. лишь на последней стадии, когда продукт обменивается непосредственно для потребления. Но такое поверхностное представление неправильно, поскольку развитие обмена и его формы целиком определяются развитием и организацией П., развитием обществ, разделения труда, обществ, строем П.
Принцип определяющей роли П. был выдвинут и обоснован Марксом во всех его экономич. исследованиях. Этот принцип специально разработан во «.Введении» {Из экономических рукописей 1857—1858 годов). Он получил дальнейшую разработку в трудах Ленина, к-рый показал, что утверждения критиков, будто марксизм исследует только П., оставляя без должного внимания остальные стороны экономич. жизни общества, основаны на ненауч. понимании предмета политической экономии и диалектики развития П. в целом. Игнорируя определяющую роль, примат П., бурж. и мелкобурж. экономисты ставят во главу угла то распределение, то обмен, то потребление. Они стремятся уйти от рассмотрения производств, отношений капитализма. Все подобные антинаучные концепции — распределительные, меновые, потребительские — служат апологетическим целям.
Марксистский принцип примата П. имеет важнейшее значение для экономич. науки в целом, для понимания сущности и законов каждой общественно-экономич. формации. Этот принцип составляет основу анализа капитализма у Маркса и Энгельса. Ленин в исследовании монополистич. стадии капитализма показал, что в превращении капитализма в империализм гл. роль играют изменения, происшедшие в области П. Принцип примата П. определяет правильный подход К задачам революц. перехода от капитализма к социализму. В противоположность мелкобуржуазно-утопич. представлениям о том, будто социализм можно осуществить путем изменения лишь отношений рас-
пределения, марксизм-ленинизм исходит из того, что задачей социалистич. революции является коренной переворот в производств, отношениях. После социалистич. революции укрепление социалистич. производств, отношений и их дальнейшее перерастание в коммунистические происходит на базе быстрого роста П.
Лига. см. при ст. Политическая экономия, Капитализм,
Коммунизм. А. Леонтьев. Москва.
«ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, ЧАСТНОЙ СОБСТ ВЕННОСТИ И ГОСУДАРСТВА» — труд Ф. Энгельса, в к-ром рассматриваются осн. проблемы первобытной истории, прослеживается эволюция семейно-брачных отношений, дается характеристика родового «коммунизма», анализируется процесс разложения родового общества, становления частной собственности, классов и гос-ва. Написан в марте — мае, опубликован в октябре 1884. При подготовке 4-го изд. работы (в 1890—91) Энгельс внес в нее значит, изменения и дополнения (особенно в главу о семье, при доработке к-рой были широко использованы результаты исследований Ковалевского), а также написал новое предисловие под назв. «К истории первобытной семьи (Ба-хофен, Мак-Леннан, Морган)». В этом предисловии (опубл. первоначально отд. статьей в июне 1891) Энгельс дал очерк развития взглядов на семью, начиная с Бахофена и кончая Л. Морганом.
Маркс высоко ценил открытия Моргана в области первобытной истории и собирался изложить результаты его изысканий в спец. работе. Замысел, к-рый Марксу помешала выполнить смерть, осуществил его верный друг и соратник, широко использовавший составленный Марксом подробный конспект книги Моргана «Древнее общество» со всеми содержавшимися в нем замечаниями. В 1-й главе «Доисторические ступени культуры» Энгельс не просто изложил предложенную Морганом периодизацию первобытной истории, но, как он сам выразился, «обобщая» ее, выделил два осн. этапа развития доклассового общества: «период преимущественного присвоения готовых продуктов природы», когда «искусственно созданные человеком продукты служат главным образом вспомогательными орудиями такого присвоения», и «период введения скотоводства и земледелия, период овладения методами увеличения производства продуктов природы с помощью человеческой деятельности».
Излагаемая во 2-й главе книги моргановская схема развития брака и семьи подверглась значит, пересмотру в свете новых данных. Анализируя вопрос о семье, Энгельс, в отличие от Моргана, выходит далеко за рамки первобытности, рассматривает развитие семейно-брачных отношений в классовом обществе, резко критикует бурж. семью.
В 3-й главе Энгельс раскрывает значение для науки открытия рода как осн. ячейки доклассового общества и дает глубокую и цельную характеристику первобытного родового «коммунизма». К 3-й главе примыкает четвертая, посвященная греч. роду.
Если в первых четырех главах Энгельс исходит в первую очередь из материалов и обобщений, содержащихся в моргановском «Древнем обществе», то в последующих (5—9) главах использует материалы и др. ученых. Здесь Энгельс дает анализ процессов происхождения частной собственности, имуществ. неравенства, классов и гос-ва. Разоблачая теории бурж. социологов, Энгельс показывает, что гос-во не существовало извечно, а возникло только с появлением частной собственности и связанным с ним расколом общества на враждебные классы, причем возникло как орудие класса эксплуататоров для подавления класса угнетенных; с исчезновением классов исчезнет неизбежно и государство. Работа Энгельса, охарактеризованная Ле-
ПРОКЛ 389
 ниным как «... одно из основных сочинений современного социализма...» (Соч., т. 29, с. 436), является крупнейшим вкладом в теоретич. сокровищницу марксизма и могучим идейным оружием в борьбе за коммунизм.
ниным как «... одно из основных сочинений современного социализма...» (Соч., т. 29, с. 436), является крупнейшим вкладом в теоретич. сокровищницу марксизма и могучим идейным оружием в борьбе за коммунизм.
Лит.: Маркс К., Конспект книги Льюиса Г. Моргана
«Древнее общество», в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 9,
М.—Л., 1941; Л е н и н В. И., Государство и революция, Соч.,
4 изд., т. 25; его же, О государстве, там же, т. 29; В и н-
н и к о в И. Н., Четвертое издание книги Фр. Энгельса «Про
исхождение семьи, частной собственности и государства»,
в кн.: Вопр. истории доклассового общества, М.—Л., 1936
(Тр. Ин-та антропологии, археологии и этнографии, т. 4);
Золотарев А. М., «Происхождение семьи, частной соб
ственности и государства» Ф. Энгельса и совр. наука, «Историк-
марксист», 1940, № 12; Семенов Ю. И., «Происхождение
семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса и
совр. данные этнографии, «ВФ», 1959, № 7; е г о же, Учение
Моргана, марксизм и совр. этнография, «Сов. этнография»,
1964, № 4; Ф. Энгельс и проблемы совр. этнографии, там же,
1959, № 6. Ю. Семенов. Рязань.
ПРОКЛ (ПрохЯ-fjg) (410—485)— представитель афинской школы неоплатонизма, ближайший ученик Си-риана и его преемник по руководству Академией платоновской.
В огромном лит. наследстве П. (неск. тысяч страниц), до сих пор монографически не исследованном, многие сочинения являются философско-теоретиче-скими. Прежде всего сюда относятся «Элементы теологии...» (греч. текст, англ. пер., коммент., «The elements of theology...», Oxf., 1965), состоящие из 211 тезисов, содержащих в себе всю систему неоплатонизма, т. е. рассмотрение проблем «единого», «ума», «души» и «космоса». Сюда же относится соч. «О богословии Платона» («Procli Successoris Platonici in Platonis Theologiam libri sex», Hamb., 1618; Fr./M., 1960), огромное исследование, заключающее в себе учение о методах использования Платона для философии, подробное учение об «едином», о богах мыслимых (интеллигибельных), мыслящих (интеллектуальных) и мыслимо-мыслящих (интеллигибельно-интеллектуальных). Остальные три филос.-теоретических трактата П. сохранились только в лат. переводе 13 в. Вилъема из Мёрбеке: «О десяти сомнениях касательно промысла», «О промысле, судьбе и о том, что в нас», «Об ипостасях зла» («Procli Diadochi tria opuscula», Berolini, 1960). Дошли до нас комментарии П. к платоновским диалогам «Тимею» («Procli Diadochi in Platonis Timaeum com-mentaria, v. 1—3, Lipsiae, 1903—1906), «Пармени-ду» («Procli Diadochi in Platonis Parmenidem commen-taria, Lipsiae, 1840, нов. изд. 1961) и др., содержащие систематич. изложение всех центральных вопросов неоплатонизма и массу историко-философского материала. Все эти комментарии П. являются лучшим образцом применения того метода толкования Платона, которое ввел Ямвлих. П. написал также ряд сочинений философско-научного и мистического характера.
Филос. концепции П. основаны на триадич. методе. Триадич. расчленение предмета господствует у П. повсюду — во всех отделах философии, мифологии, мантики и т. д. Триадич. метод сводится к утверждению трех моментов: 1) пребывание в себе (|j.ovy)), причина, неделимое единство, наличие (irrapgig), отец, отчее начало, потенция; 2) выступление (ярообод) из себя, или эманация за свои пределы, причинение или действие на иное в виде причины, переход их единства во множество, начало делимости, мать, материнское начало, энергия; 3) возвращение из инобытия обратно в себя (ёлдатроф-/]), возведение расторгнутого множества опять в неделимое единство, расчлененное единство, эйдос или единораздельная (т. е. структурная) сущность. Универсальная триада Плотина — «единое», «ум» и «душа» — остается в полной мере и у П., но только каждый из ее членов обработан у него уже при помощи этой триадич. схемы.
От первого момента триады абсолютно непознаваемого «единого» П. отделял другое «единое», к-рое уже содержит в себе нек-рую множественность, но эта еди-но-множественность еще не содержит никаких качеств и есть только энергия самого различения и членения, и потому она предшествует «уму», поскольку этот последний есть не только расчлененность, но и то, что расчленяется. Указанная едино-множествен-ность образует у П. совершенно специфич. ступень эманации «единого», существующую между абсолютным «единым» и «умом»; и эту ступень П. называл числом, или областью чисел, или «надбытийными единицами». Т. о., понятие «надбытийных чисел» впервые введено в неоплатонизм в качестве самостоятельной эманационной ступени именно П., хотя в принципиальной форме соответствующее учение о числах дано Платоном и Плотиной.
П. дал триадич. членение и второго момента триады, т. е. «ума»: 1) «ум» как пребывание в себе, к-рый характеризуется как «интеллигибельный» (vorrrog — мыслимый), т. е. как то, что в «уме» является предметом для него самого, терминологически у П. это есть «бытие», или объект; 2) «ум» как выхождение из себя, как «интеллектуальный» (vonpog — мыслящий), как мышление «умом» самого себя,— «ум» в собственном смысле слова, или субъект; 3) «ум» как возвращение к самому себе, как тождество бытия и мышления, объекта и субъекта; «ум» как «жизнь» или «вечность», «жизнь — в себе» (абто^шот) — «интеллигибельно-интеллектуальный».
Триада П. резко отличается от новоевроп. триадич. диалектики. Новая триада отражает прогрессирующий ход мыслей (так что синтез в ней богаче и тезиса, и антитезиса), триада П. имеет регрессивное значение, поскольку момент синтеза он помещает между первым и вторым моментом, так что наиболее полным и богатым «умом» является «ум интеллигибельный», менее богатым — «ум интеллигибельно-интеллектуальный», а еще менее богатым «ум интеллектуальный». Здесь, т. о., мы имеем дело с эманацией, к-рая, чем дальше, тем больше ослабевает.
В связи с триадич. учением об «уме» стоит и диалектика мифологии П. Здесь П. устанавливал три триады. Последняя триада, ввиду триадич. деления двух первых ее членов, превращается в седмирицу (гебдо-маду) с повторением этой гебдомады в каждом из составляющих ее моментов, так что в последней триаде — 49 богов-умов. На основе того же триадич. учения интерпретирует П. и мир «души», включающий в себя божеств., демонич. и человеч. «души».
Историч. значение П. определяется не столько интерпретацией мифологии, сколько тонким логич. анализом, непосредственно не связанным ни с какой мифологией, ни с какой метафизикой и представляющим огромный материал для изучения истории диалектики. Большое значение имела диалектика космоса П. Крупнейшими последователями П. явились на Западе Николай Нузанский, на Востоке — И. Петрици.
Философия П., сочетавшая магию, чудотворение, мантику, теургию с систематич. духом, аналитич. проницательностью, виртуозностью детальнейших выкладок, доходящих до своеобразного пафоса и экстаза рассудочности, отражала катастрофу всей рабовладельческой античности и полную безвыходность для реальной ориентации в жизни.
Соч.: Procli philosophi platonici opera, ed. V. Cousin, Parisiis, 1864.
Лит .: История философии, т. 1,[М.], 1940 (по имен, указат.); Berger A., Proclus. Exposition de sa doctrine, P., 1840; Kirchner H., De Procli neoplatonica metaphysica, В., 1846; Lindsay J.,Le systeme de Proclus, «Rev. de Meta-physique et de Morale», 1921; R о s a n L. J., The philosophy of Proclus, N. Y., 1949; Trouillard J., La monadologie de Proclus, «Rev. philosophique de Louvain», 1959, v. 57, Д"« 55;
390
ПРОКОПОВИЧ — ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
 Beierwaltes W., Proklos. Grundziige seiner Metaphy-sik, Fr./M., 1965; Totok W., Handbuch der Gescliichte der Philosophic, Bd. 1, Fr./M., 1964, S. 346 — 48. А. Лосев. Москва.
Beierwaltes W., Proklos. Grundziige seiner Metaphy-sik, Fr./M., 1965; Totok W., Handbuch der Gescliichte der Philosophic, Bd. 1, Fr./M., 1964, S. 346 — 48. А. Лосев. Москва.
ПРОКОПОВИЧ, Феофан [1681—8 (19) сент. 1736] — рус. и укр. обществ, и церк. деятель, ученый, поэт. Род. в купеч. семье в Киеве. Окончил филос. курс в Киевской духовной академии, продолжал образование в Польше и Ватикане. По возвращении на родину (ок. 1704) принял монашество, преподавал в Киево-Могплянской академии. В 1716 был назначен псковским епископом, в 1721 — вице-президентом Синода; с 1724—архиепископ новгородский. Возглавлял «ученую дружину» Петра I, к которой принадлежали Татищев, А. Кантемир, А. М. Черкасский, И. Ю. Трубецкой.
П.— автор ряда уч. пособий и историч. трудов, первой светской трагикомедии «Владимир» (1705). По поручению Петра I П. написал «Духовный регламент» (1720), к-рый представлял собой политич. и са-тирич. памфлет, направленный против претензий «князей церкви» и злоупотреблений духовенства; в памфлете нашло выражение требование о превращении духовенства в «государевых богомольцев» и распространителей просвещения. В филос.-юридич. трактате «Правда воли монаршей» (1722), а также в своих речах и проповедях П. выдвигал идеи просвещенного абсолютизма.
В философии П. стремился согласовать веру со знанием и приспособить науку к религии. Он критиковал материалистич. тенденцию в философии Аристотеля, выступал против атеизма Эпикура и Спинозы. Критикуя схоластич. умствования, П. стремился распространять естеств.-науч. открытия, вел астрономич. наблюдения, занимался математикой. Отходя порой от традиц. религ. объяснения истории, П. высказывал идеи, созвучные концепциям естественного права и общественного договора. «И замечательно, что наиболее выдающийся публицист эпохи Петра ссылается на естественное право раньше, нежели на Писание; недаром ревнители православия считали его малонадежным богословом» (Плеханов Г. В., Соч., 21, 1925, с. 47).
Соч.: Соч., М.—Л., 1961; Слова и речи поучительные,
похвальные и поздравительные, ч. 1—3, СПБ, 1760—65; Бого
словские сочинения, СПБ, 1774; Рассуждение о безбожии...,
М., 1774; История императора Петра Великого, СПБ, 1773.
Лит.: Чистович П., Ф. П. и его время, СПБ, 1868;
Морозов П,, Ф. П. как писатель, СПБ, 1880; История фи
лософии, т. 1, М., 1957, с. 479—80; Петров Л. А., Филос.
взгляды П., Татищева и Кантемира, Иркутск, 1957; его же,
Антирелиг. тенденции в филос. мысли России первой половины
XVIII в., в сб.: Материализм и религия, М., 1958; его же,
Социологич. взгляды П., Татищева и Кантемира, Иркутск,
1958; его же, Общественно-политич. взгляды П., Татищева
и Кантемира, Иркутск, 1959; Б е т я е в Я. Д., Общественно-
политич. и филос. мысль в России в первой половине XVIII в.,
Саранск, 1959; Б л а г о ЙД. Д., История рус. лит-ры XVIII в.,
4 изд., М., 1960, с. 71—80; Г у д з i й М. К., Ф. Прокопович,
в кн.: Матер1али до вивчення iCTopi'i украшсько! лгтератури,
т. 1, К., 1959; Т е t z n е г J., Theophan Prokopovic und die
russische Fruhaufklarung, «Z. Slawistik» 1958, Bd 3, H. 2—4,
S. 351—68. Л. Петров. Иркутск.
ПРОКОФЬЕВ, Василий Иванович (р. 22 июля 1909) — сов. философ, д-р филос. наук (с 1965). Чл. КПСС с 1937. Окончил Моск. пед. ин-т (1932) и ВПШ при ЦК КПСС (1948). С 1932 преподает в вузах Москвы. В 1939—55 работал в аппарате ЦК КПСС и Совета Министров СССР. С 1955 — преподаватель Моск. педагогич. ин-та им. Н. К. Крупской. Ведет н.-и. работу преим. по проблемам коммунистич. морали и критики религ. морали.
С оч.: Мораль и религия, М., 1952; Атеизм рус. революц. демократов, 2 изд., М., 1955; Антигуманистич. характер религиозной морали, «ВФ», 1959, JNi 9; Две морали (Мораль религиозная и мораль коммунистич.), М., 1961; Марксизм и религия о счастье, М., 1961; Нравств. качества строителя коммунизма, М., 1962; Кодекс коммунистич. морали и религиозная «нравственность», М., 1964.
«ПРОЛЕГОМЕНЫ» (1785) — соч. Канта, в сжатой форме излагающее сущность его философии.
ПРОЛЕТАРИАТ — см. Рабочий класс.
ПРОЛЕТКУЛЬТ («Пролетарская культура») — культурно-просветит. организация пролет, самодеятельности в различных областях искусства (литература, театр, музыка, изобразит, иск-во) и науки. Создан в Петрограде в сент. 1917. Существовал до 1932. Гл. идеологами П. были Богданов, П. И. Лебедев-Полянский. В публиковавшейся в журн. «Пролет, культура» «Тектологии» Богданова и его статьях выдвигалась программа выработки в «лабораторных» условиях «чистой» пролет, культуры, создания «однородного коллективного сознания», излагалась концепция иск-ва, в к-рой материалистич. теория отражения была заменена «строительным» «организационным принципом». Эти идеи Богданова нашли отражение в осн. документах и уставе П., где утверждалась автономия П. от партии и Сов. гос-ва, независимость «чистой» пролет, культуры от культуры прошлого, отрицалась преемственность культуры.
Платформа П. была подвергнута критике Лениным в речи на 3-м съезде РКСМ (2 окт. 1920) и в проекте резолюции «О пролет, культуре», составленной Лениным (8 окт. 1920) для 1-го съезда П., где Ленин указывал на необходимость критич. переработки всей культуры прошлого, отвергалась попытка выдумывать особую пролет, культуру и замыкаться в обособленные от Сов. власти и РКП(б) организации (см. Соч., т. 31, с. 291—92). В письме ЦК РКП(б) от 1 дек. 1920 «О пролеткультах» говорилось, что под видом «пролет, культуры» рабочим преподносились махистские взгляды в философии (см. Махизм), а в области иск-ва прививались извращенные вкусы. Наряду с этим в письме подчеркивалось, что «ЦК ... не хочет связывать инициативу рабочей интеллигенции в области художественного творчества» («Правда», 1920, 1 дек., с. 1).
Ленинская критика П., письмо ЦК РКП(б) нашли активную поддержку среди членов П. В постановлении Политбюро ЦК РКП(б) от 22 нояб. 1921 подчеркивалось, что письмо ЦК РКП(б) 1920 относилось к «ничтожным по числу элементам, которые теперь открыто обнаружили себя в особой платформе т. н. „коллективистов" и против которых, как показывает почти годовой опыт, выступает подавляющее большинство работников в Пролеткультах» («Вопр. истории КПСС», 1958, № 1, с. 38).
27 сент. 1922 Ленин в письме в «Правду» подверг резкой критике статью нового председателя П. (с 1920) В. Ф. Плетнева за грубые теоретич. ошибки и «...фальсификацию исторического материализма» (Соч., т. 35, с. 475).
В дальнейшем местные организации П. в большей мере согласовывали свою практич. культурно-про-свет. деятельность с сов. и партийными органами. В решении АПО ЦК в 1928 отмечалось, что «ложные тенденции (богдановщина), которые клались в основу организации Пролеткульта, в настоящее время никем из руководителей Пролеткульта не поддерживаются и никакого влияния на содержание работы не оказывают» («Изв. ЦК ВКП(б)», № 16 — 17, 25 мая 1928, с. 14).
Лига.: Ленин В. И., Маленькая картинка для выяснения больших вопросов, Соч., 4 изд., т. 28; Горбунов В. В., Борьба В. И. Ленина с сепаратистскими устремлениями П., «Вопр. истории КПСС», 1958, № 1; Денисова Л. Ф., В. И. Ленин и П., «ВФ», 1964, № 4. А. Пухов. Москва.
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — качеств,
изменения, происходящие в обществе под воздействием революции в Технике, в технологич. способе соединения человека со средствами труда. История знает три принципиально различных технологич. способа соединения человека и техники: ручной труд, в процессе к-рого роль осн. орудия, источника энергии, двигательной и направляющей силы выполняет сам чело-
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ —ПРОСВЕЩЕНИЕ 391
 век; механизированный труд (с превращением орудия ручного труда в машину), в к-ром рабочий выступает как элемент технич. системы; автоматизация (человек становится рядом с технич. системой). П. р. означает переход от одного технологич. способа произ-ва к другому, от одного история, этапа в развитии техники к другому. Маркс связывал первую П. р. (конец 18 — сер. 19 вв.) с превращением орудий ручного труда в машину (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 23, с. 382—92). Первая П. р. вызвала изменения в характере труда (из ручного он стал механизированным), в социальной структуре общества (прежние ремесленник и крестьянин превратились в машинных рабочих), в соотношении отраслей х-ва (земледелие уступило ведущую роль пром-сти), в экономич. и политич. сфере (феод, отношения уступили место капиталистическим). Ленин писал о крутом и резком преобразовании «... всех общественных отношений под влиянием машин (заметьте, именно под влиянием машинной индустрии, а не „капитализма" вообще), преобразование, которое принято называть в экономической науке industrial revolution (промышленная революция)» (Соч., т. 2, с. 215).
век; механизированный труд (с превращением орудия ручного труда в машину), в к-ром рабочий выступает как элемент технич. системы; автоматизация (человек становится рядом с технич. системой). П. р. означает переход от одного технологич. способа произ-ва к другому, от одного история, этапа в развитии техники к другому. Маркс связывал первую П. р. (конец 18 — сер. 19 вв.) с превращением орудий ручного труда в машину (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 23, с. 382—92). Первая П. р. вызвала изменения в характере труда (из ручного он стал механизированным), в социальной структуре общества (прежние ремесленник и крестьянин превратились в машинных рабочих), в соотношении отраслей х-ва (земледелие уступило ведущую роль пром-сти), в экономич. и политич. сфере (феод, отношения уступили место капиталистическим). Ленин писал о крутом и резком преобразовании «... всех общественных отношений под влиянием машин (заметьте, именно под влиянием машинной индустрии, а не „капитализма" вообще), преобразование, которое принято называть в экономической науке industrial revolution (промышленная революция)» (Соч., т. 2, с. 215).
В совр. условиях на основе научно-технической революции началась вторая П. р. Произ-во материальных благ имеет тенденцию превратиться в полностью автоматизированное произ-во в масштабах всего общества. Первая П. р. означала возникновение и становление пром-сти, вторая П. р. — завершение процесса ее создания. На рельсы крупной индустрии ставится с. х-во, жилищное строительство, труд в сфере обращения, произ-во в сфере бытового обслуживания. Совр. П. р. ведет к существ, структурным сдвигам в соотношении различных сфер обществ, деятельности (относительно сокращается число людей, занятых в сфере материального производства, и быстро возрастает число людей, занятых наукой, в сфере обслуживания и т. д.). Наука является кормчим совр. П. р. Начинающаяся вторая П. р. в странах мировой социалистич. системы ведет к сокращению рабочего времени, к изменению характера труда, к уничтожению противоположности между городом и деревней, между умств. и физич. трудом. С одной стороны, она создает пром. основу для изобилия материальных благ и распределения по потребностям, с другой — увеличение свободного времени является предпосылкой для духовного совершенствования личности.
В странах капитала процессы, вызванные начинающейся второй П. р., носят противоречивый характер. П. р. вызывает и обостряет противоречия капитализма. Автоматизация чревата в перспективе ростом безработицы в капиталистич. странах. Тем не менее и там с ее внедрением труд из механизированного все больше становится автоматизированным, наблюдается тенденция роста культурно-технич. уровня трудящихся. Происходят изменения в социальной структуре общества и в соотношении отраслей х-ва (см. «Структура рабочего класса капиталистич. стран», Прага, 1962).
Если первая П. р. имела локальный характер, начавшись в немногих развитых странах Европы, то вторая П. р. имеет тенденцию охватить все страны и континенты, в т. ч. и страны, только становящиеся на путь создания национальной пром-сти и ускоренного экономического развития. В этих странах имеет ме'сто одновременное сочетание черт первой и второй П. р.
Термин П. р. используется с.-д. теоретиками ФРГ, Австрии, Италии, Англии для подновления идеи о трансформации капитализма в социализм без социалистич. революции. Согласно их теориям, вторая П. р. ведет к вызреванию и становлению социалистич. ин-тов в недрах капиталистич. общества, к смягчению
классовой борьбы, диффузии собственности и т. д. При этом проводится аналогия с первой П. р. Однако первая П. р. привела к утверждению капиталистич. отношений в результате ряда политич. революций и ожесточ. классовых битв. Тем более абсурдны утверждения о трансформации капитализма в социализм без социалистич. революции, т. к. здесь речь идет о переходе от антагонистич. формации к неантагонистической.
Теоретики-марксисты, разоблачая реформистские теории «второй промышленной революции», показывают, что П. р. создает материально-технический базис, к-рый все более и более несовместим с капиталистическим способом производства и присвоения. Поэтому неправомерно отрицать сам факт второй П. р. (см., напр., К. Тессман, Проблемы научно-технич. революции, пер. с нем., М., 1963). Подобная т. зр. упрощает сложность противоречивого развития в условиях капитализма, отрывает технику от экономики, ставит между ними непереходимую грань.
Человечество находится лишь у самого порога второй П. р. Полное развитие всех тенденций П. р. несовместимо с капитализмом. Грядущее общество — это коммунистич. общество.
Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, гл. 5,13, Маркс К.
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23; Ленин В. И., К ха
рактеристике экономич. романтизма, Соч., 4 изд., т. 2; Вер
ная Дж., Наука в истории общества, пер. с англ., М., 1956;
Ли л ли С, Автоматизация и социальный прогресс, пер.
с англ., М., 1958; О си п о в Г. В., Техника и обществ, про
гресс, М., 1959; А у э р х а н Ян, Автоматизация и общество,
М., 1960; БобневаМ. И., Техника и человек, «ВФ», 1961,
J6 10; Страшников В. М., Философия и техника ком
мунизма, Иркутск, 1962; К а ц А. И. .Положение пролетариата
США при империализме, М., 1962; Б у ди ш Дж. М., Изме
нение структуры рабочего класса США, [пер. с англ.], М.,
1963; Е р о ф е е в Н. А., П. р. в Англии, М., 1963; Шейнин
Ю. М., Наука и милитаризм в США. Научно-технич. переворот
в военном деле и возникновение предпосылок кризиса мили
таризма, М., 1963; В о л к о в Г. Н., Эра роботов или эра чело
века? (Социологии, проблемы развития техники), М., 1965;
Какое будущее ожидает человечество, Прага, 1964; В i 11 о г 1
W., Automation. Die zweite industrielle Revolution, Darmstadt,
1956; Emrich L., Fabriken ohne Menschen, Wiesbaden,
1957; Sternberg F., Die militarische und die industrielle
Revolution, В., 1957. Г. Волков. Москва.
«ПРОМЫШЛЕННАЯ СИСТЕМА» (1821) — соч. Сен-Симона.
ПРОПРИОРЕЦЁПТОРЫ — см. Органы чувств.
ПРОСВЕЩЕНИЕ — антифеодальная, буржуазная по своей социально-политич. сущности идеология периода становления капитализма. В сов. лит-ре сложились две осн. точки зрения на П., к-рые можно различать как понимание П. в узком и широком смысле слова. П. в узком смысле слова понимается как такая антифеодальная и объективно-бурж. идеология, к-рая доказывает, что преобразование феодализма и основание нового общества возможно лишь мирным путем, с помощью реформ и просвещения, откуда и производят сам термин. Сторонники революц. форм и способов преобразования общества, согласно этой т. зр., не включаются в число просветителей, а выделяются в специальную группу революц. идеологов. Просветители и революционеры рассматриваются как два течения в пределах антифеодальной бурж. идеологии. П. в широком смысле слова понимается как синоним антифеодальной, прогрессивной идеологии периода становления капитализма и в нем выделяются революционное (радикальное) и мирное (либеральное) направление. Наиболее полно эти два взгляда на П. были высказаны на спец. дискуссии, материалы к-рой опубликованы в сб. «Проблемы рус. П. в лит-ре XVIII в.» (М.—Л., 1961).
Идеология П. находила свое филос. обоснование, к-рое именуется философией П., имевшей распространение во всех странах, переживавших эпоху становления капитализма (см. обзорные статьи о развитии философии в этих странах).
392
ПРОСИЛЛОГИЗМ — ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
 ПРОСИЛЛОГЙЗМ (от греч. яро — приставка в значении впереди, перед) — посылка в полисиллогизме. ПРОСТРАНСТВО (в математике) — собирательное наименование матем. абстракций, предполагающих — или хотя бы допускающих — интерпретацию в терминах «наглядной» материальной протяженности, а также близких к ним по форме, структуре, отраженной, напр., в аксиоматич. описании, совокупностей абстрактных объектов.
ПРОСИЛЛОГЙЗМ (от греч. яро — приставка в значении впереди, перед) — посылка в полисиллогизме. ПРОСТРАНСТВО (в математике) — собирательное наименование матем. абстракций, предполагающих — или хотя бы допускающих — интерпретацию в терминах «наглядной» материальной протяженности, а также близких к ним по форме, структуре, отраженной, напр., в аксиоматич. описании, совокупностей абстрактных объектов.
Идея П. претерпела по мере развития математики сложную эволюцию. Вначале наука о П.— геометрия — стремилась к описанию «того самого» П., к-рое нас окружает, а единственность «этого» П. представлялась само собой разумеющейся. Наметившаяся еще в античной Греции тенденция к аксиоматич. построению, не опирающемуся на пространственную интуицию (почти до конца 19 в. считалось, что тенденция эта осуществлена — хотя бы в «Началах» Эвклида), свидетельствовала не столько об отказе от признания эмпиричности идеи П., сколько о характерном для греч. науки и философии примате «высоких», умозрит. методов и представлений по сравнению с «низменными», опытными. Т. о., эвклидова аксиоматика не в большей мере отражала сомнения в единственности П., чем любая из совр. аксиоматик механики или генетики — сомнения в реальности и существ, единственности интерпретаций этих теорий. Тем не менее именно античная традиция несла в себе зачатки позднейших идей арифметизации (теория пропорций Евдок-са Книдского, также дошедшая до нас по «Началам») и формальной аксиоматизации. Первая из этих идей реализовалась в 17 в. с введением координатного метода, установившего по существу изоморфизм между числовыми и пространственными множествами (П. Ферма, Р. Декарт), а затем в виде многочисл. приложений к геометрии методов матем. анализа. Вскоре «пространственная» терминология активно вторгается и во вне-матем. приложения — в теоретич. механику (Ж. Л. Ла-гранж) и др., так что, не подвергая еще сомнению единственность и определенность прообраза геометрия, абстракций — реального физич. П., в математике постепенно привыкли рассматривать многочисл., «про-странственноподобные многообразия», также называя их «П.». Решительным пересмотром понятия П. ознаменовалась 2-я пол. 19 в.: открытие неэвклидовых геометрий (Н. Лобачевский, Я. Бойай, К. Ф. Гаусс), строгое доказательство независимости постулата о параллельных, означавшее в то же время доказательство непротиворечивости геометрии Лобачевского — Бойая относительно эвклидовой геометрии (Э. Бель-трами, А. Пуанкаре, Ф. Клейн), дальнейшее обобщение и частичный отказ от эвклидовых постулатов (Б. Риман), развитие геометрии, алгебры и анализа и их приложений, концепции многомерного и бесконечномерного пространства (Д. Гильберт) — этап этот завершается четкой формулировкой геометрич. аксиом (Паш, Гильберт) и отчетливым пониманием возможностей их варьирования. На этом этапе разговоры о «соответствии геометрич. аксиом реальному миру» многие математики, активно воспринявшие формаль-но-аксиоматич. концепцию Гильберта (хотя и не в буквальном следовании его идеям), склонны были считать, в соответствии с конвенционалистскими веяниями конца столетия, не более как «пережитками платонизма». Термин «П.» в 20 в. уже прочно воспринимается как родовой, и целые разделы математики посвящаются гл. обр. изучению «природы» многообразных «пространств» (проективная и аффинная геометрии, функциональный анализ и особенно топология). С утверждением представлений теории множеств одним из центральных понятий математики становится понятие «абстрактного» (точечного) П. и различные его модификации: топологич., метрич.,
линейные П. Отныне для математика П. — это просто
совокупность нек-рых «элементов» (чисто условно
именуемых «точками»), полностью характеризуемых
аксиомами (см. Метод аксиоматический), и он
«геометризует», если это ему по к.-л. соображениям
удобно, самые отвлеченные (или, во всяком случае,
далекие от обычных представлений о «П.») теории и
системы, вводя, по ходу дела, в них «метрику» и
«топологию». Но — это отчетливо проявилось как
раз в кульминационный период формально-аксиома-
тич. математики — проблема описания мира отнюдь
не «снимается» построением формальных матем. язы
ков. Более того, оказалось, что не только вопрос о
«действительном» П. может быть —по крайней мере, в
принципе—разрешен экспериментально, но что «физи
ческая начинка» П. (распределение масс в нем) сущест
веннейшим образом влияет на его свойства и тем
самым на формальное описание, сколь бы
априорным оно ни казалось (см. Относительности тео
рия). На совр. этапе развития математики обе эти тен
денции — формально-аксиоматическая и «физико-гео
метрическая» — не только сосуществуют, но и слож
ными и многообразными путями влияют одна на дру
гую. Эволюция взглядов на сущность понятия П. в
математике никоим образом не закончилась, и един
ственное, о чем можно твердо говорить уже сейчас,
так это то, что непреложность аксиоматич. построений
не может быть «опровергнута», а выяснение «сущ
ности» «нашего» П. (хотя бы проблемы его кривизны,
конечности или бесконечности) не может быть дости
гнуто чисто умозрительно, ссылкой на догмы. См. так
же Математика, Математическая бесконечность,
Прерывность и непрерывность, Относительности тео
рия, Метод аксиоматический, Континуум и лит. при
ЭТИХ статьях. Ю. Гастев. Москва.
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ — общие формы существования материи, а именно формы координации материальных объектов и явлений. Диалектич. материализм и совр. наука показывают, что П. и в. не могут существовать вне материи и независимо от нее. Отличие этих форм друг от друга состоит в том, что пространство есть всеобщая форма сосуществования тел, время — всеобщая форма смены явлений. По Энгельсу, находиться в пространстве — значит быть в форме расположения одного возле другого, существовать во времени — значит быть в форме последовательности одного после другого. Пространство есть форма координации различных сосуществующих объектов и явлений, заключающаяся в том, что последние определ. образом расположены друг относительно друга и, составляя различные части той или др. системы, находятся в определ. количеств, отношениях друг к другу. Время есть общая форма координации явлений, сменяющих друг друга состояний материальных объектов, заключающаяся в том, что каждое явление (состояние), составляя ту или иную часть процесса, совершающегося в объекте, находится в определ. количеств, отношениях к др. явлениям (состояниям) .
Пространств, характеристиками являются места объектов (при большом удалении объектов друг от друга или малости объектов эти места можно рассматривать как «точки» пространства), расстояния между местами, углы между различными направлениями, в к-рых располагаются объекты (отд. объект характеризуется протяженностью и формой, к-рые определяются расстояниями между частями объекта и их ориентацией). Врем, характеристики — «моменты», в к-рые происходят явления, продолжительности (длительности) процессов. Отношения между этими пространств.-врем, величинами наз. метрическим и. Существуют также и качеств., т о и о л о-г и ч. характеристики — «соприкосновение» различ-
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 393
 ных объектов или процессов, порядок их расположения, симметрия.
ных объектов или процессов, порядок их расположения, симметрия.
Пространств.-врем, отношения подчиняются спе-цифич. закономерностям. В соответствии с наличием у материальных объектов и процессов неразрывно связанных противоположных сторон — целостности и дифференцированности, устойчивости и изменчивости, и в пространств.-врем, отношениях различают, с одной стороны, протяженность и длительность, с другой — порядок сосуществования и смены явлений. Протяженность объекта и длительность состояния (его «время жизни») выступают на первый план при рассмотрении объекта или состояния как целого; момент «порядка» выступает на первый план при рассмотрении отношений частей (объекта или состояния) или отношений различных объектов.
Согласно диалектич. материализму, П. и в. являются формами бытия дифференцированных объектов и процессов. Этим определяется всеобщий характер пространств.-врем, отношений и закономерностей. По мере углубления знаний о материи и движении углубляются и изменяются науч. представления о П. и в. Поэтому понять реальный смысл и значение вновь открываемых закономерностей П. и в. можно только путем установления их связей с закономерностями взаимодействия и движения материи. Примером может служить неевклидова геометрия, реальный смысл к-рой стал ясен только после открытия релятивистских теорий гравитационного поля.
Непосредств. единство П. и в. выступает в движении материи; простейшая форма движения — перемещение — характеризуется величинами, включающими различные отношения П. и в. Совр. физика (см. Относительности теория) обнаружила более глубокое единство П. и в., выражающееся в совместном закономерном изменении пространств.-врем, характеристик систем при изменении движения последних, а также в зависимости этих величин от концентрации материи (масс) в окружающей среде.
С чисто пространств, (геометрич.) отношениями имеют дело лишь в том случае, когда можно отвлечься от движения тел и их частей. Тогда мир выступает как совокупность неизменных идеально твердых тел, расположенных вне друг друга, и внешние отношения этих тел сводятся к пространственным. С чисто врем, отношениями имеют дело в случае, когда можно отвлечься от многообразия сосуществующих объектов; тогда единственный «точечный» объект испытывает изменения состояния, характеризующиеся различными длительностями.
В реальном процессе измерения пространств, и врем, величин пользуются к.-л. системой отсчета.
Понятия П. ив. являются необходимой составной частью картины мира в целом и поэтому входят в предмет философии. Учение о П. и в. углубляется и развивается вместе с развитием мировоззрения в целом, но особенно естествознания и прежде всего физики. Это объясняется тем, что свойства П. и в. имеют весьма существ, значение для физич. закономерностей, к-рые часто выражаются в виде зависимостей физич. величин от пространств.-врем, координат; кроме того, точные измерения пространств.-врем, величин производятся с помощью физич. устройств. Именно развитие физики в 20 в. привело к радикальной перестройке науч. представлений о П. и в. Из остальных наук о природе значит, роль в прогрессе учения о П. и в. сыграла астрономия и в особенности космология.
Развитие физики, геометрии и астрономии в 20 в. подтвердило правильность воззрений диалектич. материализма на П. и в. В свою очередь диалектико-мате-риалистич. концепция П. ив. позволяет дать правильную интерпретацию совр. физич. учения о П. и в.,
вскрыть неудовлетворительность как субъективистского понимания этого учения, так и попыток «развить» его, отрывая П. ив. от материи.
Пространств.-врем, отношения обладают не только общими закономерностями, но и специфическими, характерными для объектов того или иного класса, поскольку эти отношения определяются структурой материального объекта, его внутр. взаимодействиями и процессами. Поэтому такие характеристики, как размеры объекта (в частности, его форма), время жизни, ритмы процессов, типы симметрии, являются существ, параметрами объекта данного типа, зависящими также от условий, в к-рых он существует. Особенно важны и специфичны пространств.-врем, отношения в таких сложных развивающихся объектах, как биологич. организм или общество. В этом смысле можно говорить об индивидуальных П. и в. таких объектов (напр., о биологич. или социальном времени).
Основные концепции П. и в. Важнейшая филос. проблема, относящаяся к П. ив., это вопрос о сущности П. ив., т. е. отношения этих форм бытия к материи, а также об объективности пространств.-врем, отношений и закономерностей.
На протяжении почти всей истории естествознания и философии существовали две осн. концепции П. и в. Одна из них идет от древних атомистов — Демокрита, Эпикура, Лукреция, к-рые ввели понятие пустого пространства и рассматривали его как однородное и бесконечное (но не изотропное); понятие времени тогда было разработано крайне слабо. В новое время эту концепцию развил Ньютон, очистивший ее от антропоморфизма. По Ньютону, П. и в. суть особые начала, существующие независимо от материи и друг от друга. Пространство само по себе (абс. пространство) есть пустое «вместилище тел», абсолютно неподвижное, непрерывное, однородное (одинаковое во всех точках) и изотропное (одинаковое по всем направлениям), проницаемое — не воздействующее на материю и не подвергающееся ее воздействиям, и бесконечное; оно обладает тремя измерениями. От абс. пространства Ньютон отличал протяженность тел — их осн. свойство, благодаря к-рому они занимают определ. места в абс. пространстве, совпадают с этими местами. Протяженность, по Ньютону, если говорить о простейших частицах (атомах), есть изначальное, первичное свойство, не требующее объяснения. Абс. пространство вследствие неразличимости своих частей неизмеримо и непознаваемо. Положения тел и расстояния между ними можно определять только по отношению к др. телам. Др. словами, наука и практика имеют дело только с относительным пространством. Время в концепции Ньютона само по себе есть нечто абсолютное и ни от чего не зависящее, чистая длительность как таковая, равномерно текущая от прошлого к будущему. Оно является пустым «вместилищем событий», к-рые могут его заполнять, но могут и не заполнять; ход событий не влияет на течение времени. Время универсально, одномерно, непрерывно, бесконечно, однородно (везде одинаково). От абс. времени, также неизмеримого, Ньютон отличал относит, время. Измерение времени осуществляется только с помощью часов, т. е. движений, к-рые являются достаточно равномерными. П. и в. в концепции Ньютона независимы друг от друга. Независимость П. и в. проявляется прежде всего в том, что расстояние между двумя точками и промежуток времени между двумя событиями сохраняют свои значения независимо друг от друга в любой системе отсчета, а отношения этих величин или скорости тел могут быть любыми.
Ньютон подвергал критике идею Декарта о заполненном мировом пространстве и о тождестве протяженной материи и пространства.
394 ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
 Концепция П. и в., разработанная Ньютоном, была господствующей в естествознании на протяжении 17 — 19 вв., т. к. она опиралась на науку того времени — евклидову геометрию и классич. механику. Законы ньютоновой механики справедливы только в инер-циальных системах отсчета. Эта выделенность инер-циальных систем объяснялась тем, что они движутся инерциально именно по отношению к абс. П. и в. и наилучшим образом соответствуют последним. Можно сказать, что часы в таких системах показывают равномерно текущее абсолютно универсальное время, а твердые тела, образующие пространств, «остов» такой системы, не деформируются при инерциальном движении. Конечно, измеренная скорость тела может не совпасть с его абс. скоростью, однако осн. закон механики, связывающий ускорение с создающей его силой, остается неизменным в любой инерциальной системе; инвариантны (неизменны) также и ускорение, и сила сами по себе. Если же перейти к произвольно движущимся ускоренным системам отсчета, то законы классич. механики окажутся неверными. Отсюда делался вывод, что только при отнесении движения тел к абс. П. и в. получаются законы механики, оправдывающиеся на практике.
Концепция П. и в., разработанная Ньютоном, была господствующей в естествознании на протяжении 17 — 19 вв., т. к. она опиралась на науку того времени — евклидову геометрию и классич. механику. Законы ньютоновой механики справедливы только в инер-циальных системах отсчета. Эта выделенность инер-циальных систем объяснялась тем, что они движутся инерциально именно по отношению к абс. П. и в. и наилучшим образом соответствуют последним. Можно сказать, что часы в таких системах показывают равномерно текущее абсолютно универсальное время, а твердые тела, образующие пространств, «остов» такой системы, не деформируются при инерциальном движении. Конечно, измеренная скорость тела может не совпасть с его абс. скоростью, однако осн. закон механики, связывающий ускорение с создающей его силой, остается неизменным в любой инерциальной системе; инвариантны (неизменны) также и ускорение, и сила сами по себе. Если же перейти к произвольно движущимся ускоренным системам отсчета, то законы классич. механики окажутся неверными. Отсюда делался вывод, что только при отнесении движения тел к абс. П. и в. получаются законы механики, оправдывающиеся на практике.
Ньютонова концепция П. и в. соответствовала всей физич. картине мира той эпохи, в частности филос. представлению о материи как изначально протяженной и инертной. Существ, противоречием концепции Ньютона было то, что абс. П. и в. оставались в ней непознаваемыми путем опыта. Согласно принципу относительности классич. механики, все инерциаль-ные системы отсчета равноправны и невозможно отличить, движется ли система по отношению к абс. П. и в. или покоится. Это противоречие служило доводом для сторонников противоположной концепции П. и в., основы к-рой были сформулированы также еще в древности Аристотелем. Пространство, по Аристотелю, есть совокупность мест тел, а время — «число движений»; время, в отличие от движения, течет всегда равномерно. В новое время т. зр. Аристотеля развил (очистив ее от телеологии) Лейбниц, опиравшийся также на нек-рые идеи Декарта. Особенность лейбни-цевой концепции П. и в. состоит в том, что в ней отвергается представление о П. и в. как о самостоят, началах бытия, существующих наряду с материей и независимо от нее. По Лейбницу, пространство — это порядок взаимного расположения множества индивидуальных тел, существующих вне друг друга, время — порядок сменяющих друг друга явлений или состояний тел. При этом Лейбниц в дальнейшем включал в понятие порядка также и понятие относит, величины. Представление о протяженности отд. тела, рассматриваемого безотносительно к другим, по концепции Лейбница, несостоятельно. Пространство есть отношение («порядок»), применимое лишь ко мн. телам, к «ряду» тел. Можно говорить только об относит, размере данного тела, в сравнении с размерами других тел. Если бы других тел не существовало, то нельзя было бы говорить о протяженности данного тела. Протяженность тела имеет смысл лишь постольку, поскольку тело рассматривается как часть мира. То же можно сказать и о длительности: понятие длительности применимо к отд. явлению постольку, поскольку оно рассматривается как звено в единой цепи событий. Протяженность любого объекта, по Лейбницу, не есть первичное свойство, а обусловлено силами отталкивания, действующими внутри объекта; внутренние и внешние взаимодействия определяют и длительность состояния; что же касается самой природы времени как порядка сменяющихся явлений, то оно отражает их причинно-следств. связь.
Логически концепция Лейбница связана со всей его филос. системой в целом. Осн. свойством частиц
Лейбниц считал активность, стремление к действию и движению. Представления о материи древних атомистов и Ньютона, рассматривавших мир как конгломерат независимых частиц, связанных воедино лишь случайными столкновениями или мистич. силами дальнодействия, Лейбниц считал неудовлетворительными. Идея абс. атомизма не объясняет целостности объектов, их внутр. согласованности, она противоречит «гармонии», единству мира. Правда, Лейбниц понимает гармонию и активность в идеалистич., телеологич. духе: атомы — это монады, духовно отображающие мир. Но наука той эпохи не располагала данными, к-рые дали бы возможность рационально объяснить «механизм» единства и целостности материальных объектов. Однако лейбницева концепция П. и в. не играла существ, роли в естествознании 17—19 вв., т. к. она не могла дать ответа на вопросы, поставленные наукой той эпохи. Прежде всего воззрения Лейбница на пространство казались противоречащими существованию вакуума (только после открытия поля в 19 в. проблема вакуума предстала в новом свете); кроме того, они явно противоречили всеобщему убеждению в единственности и универсальности евклидовой геометрии (если геометрич. закономерности обусловлены характером сил, то мыслима возможность иных пространств, отношений, чем евклидовы); наконец, концепция Лейбница казалась непримиримой с классич. механикой, поскольку признание чистой относительности движения не дает объяснения преимуществ, роли инерциальных систем. Ответ Лейбница, в к-ром он указал на существование устойчивых («фиксированных») состояний материи, служащих «базисом» П. и в., не был понят в то время. Вообще, одностороннее подчеркивание Лейбницем «порядка» как гл. характеристики П. и в. казалось несовместимым с объективностью и «неизменностью» метрич. свойств П. и в., на к-рые опиралась наука. Поправки Лейбница, к-рый в ходе дискуссии с учеником Ньютона Кларком включил в понятие «порядка» также и метрич. отношения, не были приняты во внимание. Т. о., современная Лейбницу физика оказалась в противоречии с его концепцией П. и в., к-рая строилась на гораздо более широкой филос. основе. Только два века спустя началось накопление науч. фактов, говоривших в ее пользу.
Понятия П. и в. в философии и естествознании 18—19 вв. Философы-материалисты 18—19 вв. решали проблему П. и в. в основном в духе концепций Ньютона или Лейбница, хотя, как правило, полностью не принимали к.-л. из них. Нек-рые философы 17 в. (напр., Локк) под влиянием успехов механики перешли от концепции Лейбница к концепции Ньютона. Большинство философов-материалистов выступало против ньютоновского пустого пространства. Еще Толанд указывал, что представление о пустоте связано с взглядом на материю как на инертную, бездеятельную. Таких же взглядов придерживался и Дидро. Еще далее в критике Ньютона шел Вошкович, к-рый рассматривал материю как состоящую из частиц —• силовых центров; понятие протяженности, по Бош-ковичу, применимо не к отд. частице, а только к системе частиц.
Ближе к концепции Лейбница стоял и Гегель. Он критикует представление Ньютона о времени как потоке, увлекающем все в своем течении, и о пустом, ничем не заполненном пространстве. Вместе с тем Гегель не соглашается со сведением пространства к порядку вещей; пространство не совпадает и с протяженностью отдельных вещей, ему присущи свои спе-цифич. отношения и закономерности. Гегель подчеркивает единство П. и в. как моментов движения. Только в представлении, пишет он, П. и в. совершенно отделены друг от друга. Однако утверждая, что понятие
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
395
 материн производно от понятий П. и в., Гегель теряет мысль, высказанную уже Лейбницем, что пространств, и врем, отношения определяются взаимодействием.
материн производно от понятий П. и в., Гегель теряет мысль, высказанную уже Лейбницем, что пространств, и врем, отношения определяются взаимодействием.
Одним из самых замечат. открытий 19 в. было создание неевклидовой геометрии Лобачевским, Бойаи и Риманом (см. Пространство в математике).
Неевклидова геометрия противоречила ньютоновой концепции П. и в. Отвергнув ее, Лобачевский утверждал, что геометрич. свойства, будучи наиболее общими физич. свойствами, определяются общей природой сил, формирующих тела.
В концепциях субъективных идеалистов и агностиков проблемы П. и в. сводятся гл. обр. к вопросу об отношении П. и в. к сознанию, восприятию. Беркли отвергал ньютоновское абс. П. ив., но рассматривал пространств, и врем, отношения субъективистски, как порядок восприятий. Понятно, что при этом не было и речи об объективных геометрич. и механич. законах. Поэтому берклеанская т. зр. не сыграла существ, роли в развитии науч. представлений о П. ив. Иначе обстояло дело с воззрениями Канта,, к-рый сначала примыкал к концепции Лейбница. Противоречие этой концепции и естеств.-науч. взглядов того времени привело Канта к принятию ньютоновой концепции и к стремлению философски обосновать ее. Главным здесь было объявление П. и в. априорными формами человеч. созерцания. Взгляды Канта на П. ив. нашли немало сторонников в конце 18 в. — 1-й пол. 19 в. Их несостоятельность была доказана лишь после создания и принятия неевклидовой геометрии: сама возможность различных геометрий и необходимость определить их области применения на основании опыта отвергает априоризм.
Кризис механпстич. естествознания на рубеже 19—20 вв. привел к возрождению на новой основе субъективистских взглядов на П. и в. Критикуя концепцию Ньютона, Мах снова развил взгляд на П. и в. как на «порядок восприятий», подчеркивая опытное происхождение аксиом геометрии. Но опыт понимался Махом субъективистски, поэтому и геометрия Эвкли-да, и геометрия Лобачевского и Римана рассматриваются им просто как различные способы описания пространств, соотношений. Неудивительно поэтому, что Мах отрицательно отнесся к теории относительности. Критика субъективистских взглядов Маха на П. и в. была дана Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме».
Развитие представлений о П. и в. в 20 в. Метрические свойства П. и в. Кардинальное изменение физич. представлений о материи (прежде всего открытие физич. полей — см. Поле физическое) привело к коренной перестройке учения о П. и в. Совр. физич. теория П. и в.— теория относительности — показала, что при переходе от одной системы отсчета к другой, движущейся относительно первой, пространств, и врем, величины (расстояния, углы, промежутки времени, частоты) изменяются. Явления, одновременные в одной системе отсчета, неодновременны в другой. Остается неизменным при переходе от одной системы отсчета к другой только пространств.-врем, интервал между событиями. Теория относительности ввела новое понятие — «пространства-времени» как единой формы координации явлений. Разделение координации на чисто пространственную и чисто временную оказывается относительным: события, сосуществующие в одной системе (координированные только пространственно, расположенные в разных местах), в другой системе являются также и последовательными во времени (однако сама последовательность во времени таких событий, к-рые могут быть связаны отношением причины и следствия, не может измениться). Т. о., расстояния н длительности приобретают пол-
ную определенность только в той или иной системе отсчета.
Из сказанного неизбежно следует вывод об ограниченности ньютоновой концепции абс. П. и в. Теория относительности логически непримирима с представлением о пустом пространстве, имеющем «собств.» размеры, и с представлением о пустом времени, обладающем «собств.» длительностью. Совр. физика подтвердила правильность концепции П. и в., идущей от Лейбница и развитой в дальнейшем диалектич. материализмом. Теория относительности показала, что именно поле играет роль физич. агента, посредством к-рого осуществляется пространств.-врем, координация явлений. Эта координация такова, что можно говорить об «индивидуальном», или локальном, П. и в. для каждой замкнутой системы.
Дальнейший шаг в развитии физич. представлений о П. и в. был сделан общей теорией относительности. Согласно этой теории, инерциальные системы, занимающие особое место среди любых возможных систем отсчета (только в таких системах верны законы сохранения), выделяются не тем, что они инерциальны по отношению к абс. П. и в., как полагали последователи Ньютона, а тем, что материальные тела, служащие базисом таких систем, не испытывают заметных внешних воздействий и совершают свободное движение в поле тяготения. Отсюда следует, что инер-циальная система является таковой только локально, как в пространственном, так и во врем, отношении, т. е. только по отношению к ограниченному кругу явлений. Так было разрешено противоречие, к-рое в свое время не могла разрешить концепция Лейбница. Согласно общей теории относительности, поле тяготения проявляется в характере связи пространств, и врем, величин, или в метрике пространства-времени. Т. н. кривизна пространства-времени, определяющая их метрику (геометрию), зависит от распределения и движения материн — источника поля тяготения, причем эта геометрия не евклидова, а риманова. В поле тяготения имеет место разный ход времени (темп процессов) в разных точках поля; в различных местах поля различны также расстояния, разделяющие данные события. В поле тяготения невозможна синхронизация часов во всем пространстве. Только в статич. поле тяготения могла бы существовать «мировая» система отсчета, со своим «мировым» временем во всей системе, но и такая система была бы локальна, а не универсальна. Изменение темпа процессов (хода времени) происходит, в частности, и при плавном ускорении (или замедлении) системы. Это создает возможность влиять на местный «ход времени».
Дальнейшее развитие общей теории относительности связано с космологнч. проблемами — структурой П. п в-, в наблюдаемой части мира в целом, нулевым «фоном», по отношению к к-рому изменяется метрика пространства-времени в поле тяготения (А. А. Фридман). Метрика «фона» определяется средней плотностью и давлением в «мире». Предположение об изменяющейся метрике нашей части мира нашло подтверждение в открытом Хабблом красном смещении.
В последние годы ряд исследователей приходит к заключению, что «мировое» П. и в. расширяется неоднородно и анизотропно (А. Л. Зельманов). При такой т. зр. исчезают т. н. «особые точки» (истолковывавшиеся нек-рыми авторами как начало мира и его конец), можно говорить только о регулярных изменениях метрики наблюдаемой его части. Идея о неоднородной и анизотропной Вселенной позволяет наметить рациональное решение проблемы конечности или бесконечности мира, возникшей на первых этапах развития релятивистской космологии в связи с допущением однородности Вселенной. Можно говорить лишь о конечности нашей части мира, при переходе же к боль-
396
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
 шим масштабам может измениться сама мера пространств.-врем, отношений, поскольку наша «мировая система» может оказаться частью качественно иной системы, в к-рой действуют существенно иные закономерности.
шим масштабам может измениться сама мера пространств.-врем, отношений, поскольку наша «мировая система» может оказаться частью качественно иной системы, в к-рой действуют существенно иные закономерности.
Топологические проблемы П. и в. Из теории относительности следует, что закономерности П. и в. есть весьма общие физич. закономерности, относящиеся ко всем объектам и процессам, независимо от их специфики. Это касается и проблем, связанных с топологич. свойствами П. и в., т. е. с такими существ, свойствами П. и в., как характер отграничения одного объекта от другого (или их «соприкосновения»), число измерений П. ив., свойства симметрии. Проблема границы отд. объектов и процессов непосредственно связана с поднимавшимся еще в древности вопросом о конечной или бесконечной делимости П. и в., их дискретности или непрерывности. В античности этот вопрос решался, естественно, чисто умозрительно. Высказывались, напр., предположения о существовании «атомов» времени (Зенон). В науке 17—19 вв. идея атомизма П. и в. потеряла к.-л. значение. Расхождения между ньютоновой и лейбницевой концепциями возникли в связи с проблемой реальной или потенциальной делимости П. и в. По Ньютону, П. и в. реально состоят из бесконечного количества точек и мгновений; согласно Лейбницу, П. и в. бесконечно делимы только потенциально. Идея непрерывности П. и в. еще более укрепилась в 19 в. в связи с открытием поля; в клас-сич. понимании поле есть абсолютно непрерывный объект.
Проблема реальной делимости П. и в. была поставлена только в 20 в. в связи с открытием неопределенностей соотношения, согласно к-рому для абсолютно точного измерения координаты необходимы бесконечно большие импульсы, что физически не может быть осуществлено. Более того, квантовая теория ноля показывает, что при бесконечно сильных воздействиях на частицу она вообще не сохраняется, а «размножается» — теряется индивидуальность частицы, ее отграниченность. Соотношение неопределенностей существует и для поля; хотя квантовая теория поля до недавнего времени и принимала принцип строгой локальности, точечности взаимодействия, но это допущение приводит к трудностям (см. Микрочастицы). В действительности не существует реальных физич. условий, при к-рых можно было бы измерить точное значение напряженностей в различных точках поля. Т. о., в совр. физике установлено, что невозможна не только актуальная бесконечная разделенность П. ив. на точки, но принципиально невозможно осуществить процесс разделения П. ив. до бесконечности. Следовательно, геометрич. понятия точки, кривой, поверхности являются предельными абстракциями, отражающими пространств, свойства материальных объектов лишь приближенно. В действительности объекты отделены друг от друга не абсолютно, они лишь относительно дифференцированы. То же справедливо и по отношению к моментам времени: различные граничащие процессы и явления также в какой-то степени «перекрываются». Именно такой взгляд на точечность событий проводится по существу в т. н. теории нелокализованного поля (В. Гейзенберг, М. А. Марков), в к-рой предполагается, что в пределах весьма малой области само понятие поля, характеризуемого определ. значениями потенциала в каждой точке, теряет реальный физич. смысл; предполагается, что величина, определяющая предельно малые размеры поля, характерна для данного типа частиц. Из существования «элементарной длины» для данного типа частиц следует, что должно быть и минимальное время, в пределах к-рого не имеет смысла понятие фазы (т. е. различия состояния во времени).
Одновременно с идеей нелокальности (или относит, локальности) взаимодействия разрабатывалась гипотеза о квантовании П. и в. В последние десятилетия квантованное П. и в. рассматривалось как имеющее зернистую структуру типа кристаллич. решетки (Снай-дер, Марх и др.). Появились также исследования (Коиш, И. С. Шапиро), в к-рых П. ив. представляется как состоящее из конечного числа «точек»; эта концепция мало разработана.
Решение вопроса о квантовании П. и в. тесно связано с проблемами структуры элементарной частицы и атомизма действия. Появились исследования, в к-рых вообще отрицается применимость к элементарным частицам обычного понятия «структуры» как пространств, разделенности (Чу и др.), а следовательно, и применимость к этой области явлений пространств.-временных метрич. отношений. Однако понятия П. и в. не сводятся к чисто метрич. отношениям. Вероятно, разработка представлений о П. и в. применительно к микромиру приведет к дальнейшему расширению понятий «явления» и «координации явлений».
Тесная взаимосвязь пространств.-врем, свойств и природы взаимодействия объектов обнаруживается и при анализе симметрии П. и в. Еще в 1918 (Э. Нётер) было доказано, что однородности пространства соответствует сохранение импульса, однородности времени — сохранение энергии, изотропности пространства — сохранение момента количества движения. Т. о., типы симметрии П. и в. как общих форм координации объектов и процессов взаимосвязаны с важнейшими законами сохранения. Симметрия пространства при зеркальном отражении оказалась связанной с существ, характеристикой микрочастиц, с четностью их состояния.
Одной из важных проблем симметрии является вопрос о направленности течения времени. В ньютоновой концепции это свойство времени считалось само собой разумеющимся и не нуждающимся в обосновании. У Лейбница необратимость течения времени связывается с однозначной направленностью цепей причин и следствий. Совр. физика конкретизировала и развила это обоснование, связав его с совр. пониманием принципа причинности: реальная причина всегда генетически связана с действием, порождает его и, следовательно, обязательно предшествует ему во времени. К этому надо добавить, что врем, последовательность связана не только с отношением причины и действия, но и с такой интегральной характеристикой материальных процессов, как развитие.
К проблемам симметрии П. и в., обсуждавшимся еще
в древности, относится и вопрос о числе измерений
П. и в. В ньютоновой концепции это число считалось
изначальным. Однако еще Аристотель обосновывал
трехмерность пространства числом возможных сече
ний (делений) тела. Кант в период, когда он еще при
мыкал к концепции Лейбница, связывал трехмерность
пространства с законом действия сил всемирного тяго
тения; он доказывал, что в га-мерном пространстве
сила тяготения убывает по закону г"-1. Интерес к этой
проблеме возрос в 20 в. с развитием топологии. Л. Бра-
уэр установил, что размерность пространства есть
топологич. инвариант — число, не изменяющееся при
непрерывных и взаимно однозначных преобразованиях
пространства. В ряде исследований была показана
связь между числом измерений пространства и струк
турой электромагнитного поля (Г. Вейль), между трех
мерностью пространства и спиральностъю элементар
ных частиц. Все это показало, что число измерений
П. и в. неразрывно связано с материальной структурой
окружающего нас мира. Р- Штейнман. Москва.
Общие свойства П. и в. определяются тем, что это объективно-реальные формы существования материи. Основание этих свойств составляют физич. характе-
ПРОТАГОР — ПРОТЕСТАНТИЗМ
397
 ристики П. и в. Однако все свойства П. п в. не могут быть сведены к физическим: многообразие форм движения материи предполагает, что при общих физических основах существуют качественно различные пространств.-врем, формы, соответствующие различным видам движущейся материи. Недостаточность общей физич. характеристики П. п в. стала особенно заметной в науке 20 в., когда выяснилось, что важнейшие свойства биологич. объектов, психич. феноменов и различных социальных образований связаны со спецификой их пространств.-врем, структуры.
ристики П. и в. Однако все свойства П. п в. не могут быть сведены к физическим: многообразие форм движения материи предполагает, что при общих физических основах существуют качественно различные пространств.-врем, формы, соответствующие различным видам движущейся материи. Недостаточность общей физич. характеристики П. п в. стала особенно заметной в науке 20 в., когда выяснилось, что важнейшие свойства биологич. объектов, психич. феноменов и различных социальных образований связаны со спецификой их пространств.-врем, структуры.
На этой основе в совр. науке начали все более широко разрабатываться проблемы биологической, социальной, пспхологич., лингвистич., историч., полит.-экономич. и эстетич. характеристик П. и в.
Лит.: Энгельс Ф., Диалектика природы, в кн.: МарксК.,
Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 511 —12; его же,
Анти-Дюринг, там же; ГельмгольцГ., О фактах, лежа
щих в основании геометрии, в сб.: Об основаниях геометрии,
2 изд., Каз., 1895, с. 101 —102; МахЭ., Время и простран
ство с физич. точки зрения, в его кн.: Познание и заблужде
ние, [М., 1909], с. 432; Г е г е л ь Г. В. Ф., Философия при
роды, Соч., т. 2, М.— Л., 1934, с. 44—50; Эйнштейн А.,
Основы теории относительности, 2 изд., М.—Л., 1935; Нью
тон И., Математич. начала натуральной философии, М.—Л.,
1936, с. 30; Л о б а ч е в с к и й Н. П., Поли. собр. соч., т. 2,
М.—Л., 1949, с. 187, 158—60; Мандельштам Л. И.,
Лекции по физич. основам теории относительности,Поли. собр.
соч., т. 5, М.—Л., 1950; ЗельмановА. Л., Нерелятиви
стский гравитац. парадокс и общая теория относительности,
«Физ.-мат. науки» (НДВШ), 1958, N° 2; М а р к о в М. А., Ги
пероны и К-мезоны, М., 1958, § 34; Свидерский В. И.,
П. и в., М., 1958; Полемика Г. Лейбницаи С. Кларка по вопро
сам философии и естествознания (1715 —1716 гг.), [Л.], 1960;
Кузнецов И. В., Принцип причинности и его роль в поз
нании природы, в сб.: Проблема причинности в совр. физике,
М., 1960; Ф о к В. А., Теория пространства, времени и тя
готения, 2 изд., М., 1961; Ш т е й ям а н Р. Я., П. и в., И.,
1962; Р е й х е н б а х Г., Направление времени, пер. с англ.,
М., 1962; У и т р о у Д ж., Естеств. философия времени, пер.
с англ., М., 1964; А с к и н Я. Ф., Проблема необратимости
времени, «ВФ», 1964, № 12; Вяльцев А. Н., Дискретное
пространство-время, М., 1965; Наан Г. И., Понятие бес
конечности в математике, физике и астрономии, М., 1965;
Gent W., Die Philosophic des Raumes und der Zeit, Bd 1—2,
Bonn, 1926—3d; Jammer M., Concepts of space, Camb., 1954;
G г ii n b a u m A., Philosophical problems of space and time,
[N. Y.], 1964. Ю. Урманцев. Москва.
|
|
ПРОТАГОР (Прштаубрад) из А б д е р ы (ок. 480— ок.410 до н.э.)—древнегреч. философ, основателынколы софистов. Разъезжал по Греции с пропагандой своего учения, много раз бывал в Афинах, одно время был близок к Периклу и Еврипи-ду, во время олигархия, переворота в 411 обвинялся в атеизме; утонул во время бегства в Сицилию; его книга о богах была сожжена в Афинах. Особенно поражало современников П. то, что он устраивал публичные диспуты, брал плату за обучение, ввел в оборот софизмы(А4:—6, Diels9). Все это несомненно содействовало развитию красноречия и всякого рода логич. тонкостей мышления. Список его соч., даваемый Диогеном Лаэртским (IX 55 из А 1), во многом оспаривается. Известны его трактаты: «Ниспровергающие» (т. е. аргументы), или, что то же, «Истина», «О сущем», «Великое слово», «О богах», «Противоречия». Ни один из трактатов П. до нас не догаел и о П. можно судить только по фрагментам. П. прославился своим знаменитым тезисом (Diog. L. IX 51 из В 1): «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». Содержащийся здесь субъективизм, свойственный эпохе восхождения рабовла-дельч. демократии, освобождавшейся от родовых авторитетов и ее религ.-мифологич. мировоззрения, понимался П. как прямой вывод из учения Гераклита
(вернее, гераклитовцев) о всеобщей текучести вещей: если все меняется каждое мгновение, то ни о чем ничего нельзя сказать определенного, все существует постольку, поскольку отдельный индивидуум в силах схватить в тот или иной момент; и обо всем можно сказать как что-нибудь одно, так одновременно и что-нибудь другое, ему противоречащее. П. специально обучал тому, как слабейший аргумент сделать сильнейшим (А 21), т. е. о том, как можно доказывать все, что угодно и в целях утверждения чего-нибудь, и в целях его отрицания. Этот субъективизм и релятивизм проводился у П. и в религ. области: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. Ибо многое препятствует знать это: и неясность вопроса и краткость человеческой жизни» (В 4 ср. А 23). По-видимому, П. признавал существование и богов, и природы, и мира в целом, но в противоположность древней натурфилософии отрицал возможность науч. познания объективного мира и признавал только текучую чувственность, не отражающую никаких ни объективных, ни субъективных устойчивых элементов (А 16). В этике и политике П., по-видимому,был не очень склонен последовательно проводить свой релятивизм. До нас дошло его рассуждение о том, что если мы не знаем истины, то мы можем знать, что полезно; и, в частности, как медицина нужна, поскольку она лечит больных, так и законодательство необходимо,поскольку в нас с самого начала вложены богами «справедливость» и «стыд», так что здесь П. являлся сторонником как бы нек-рого обществ, и гос. субъективизма: что на самом деле истинно, мы не знаем; а то, что для нас полезно, об этом нам говорят естественное право и гос. законы (А 21. 22). Гос. законы также текучи, как и все существующее. Но пока существует данный закон, ему необходимо повиноваться. Вообще П. еще очень далек от тех крайних анархич. выводов, к-рые были сделаны его ближайшими учениками и последователями. Имеются сведения о занятиях П. грамматикой, риторикой и художеств, воспитанием (А 25—29; В 10—12).
Ф р а г м с н т ы в рус. пер.: МаковельскийА., Софисты, вып. 1, Баку, 1940, фрагм. 5 — 21.
Лит.: Ягодине кий Й. И., Софист П., Каз., 1906; Чернышев Б., Софисты, М., 1929; Дынник М. А., Очерк истории философии классич. Греции, М., 1936, с. 163— 172; История философии, т. 1, [М.], 1940 (по имен, указат.); МаргулесБ. Б., Обществ.-политич. взгляды П., Л., 1953 (автореф. дисс); История философии, т. 1, М., 1957; с. 102— 103; Morrison J. S., The place of Protagoras in Athenian public life, «The Classical Quarterly», 1941, v. 35, № 1, 2; L о е-n e n D., Protagoras and the Greek community, Amst., [1941].
А. Лосев. Москва. ПРОТАСЁНЯ, Петр Федорович [р. 12 (25) авг. 1910]—сов. философ, д-р филос. наук (с 1961), проф. (с 1962). Окончил Белорусский ун-т им. В. И. Ленина (1931). Член КПСС с 1940. Преподает философию (с 1931) в вузах Минска. Зав. кафедрой философии Белорусского политехнич. ин-та. Работает в области диалектич. материализма и филос. проблем естествознания.
Соч.: Л1таратуразнаучая спадгына Плеханава, «Малад-няк», 1932, кн. 7; Энгельс и социалистич. моногамия, «ИАН БССР», 1941, N» 1; Псторыя фшасофп' як навука, «Полымя»,
1948, № 1; Барацьба Ленша з «ф1з1чным 1дэал1змам», там же,
1949, JM5 5; Семантычны щэал^зм на службе 1мперыял1Стычнай
рэакцьп, «Полымя», 1954, J\S 4; О реакционной сущности се-
мантич. идеализма, Минск, 1955; О так называемом «языке
жестов», в сб.: Науч. труды по философии Белорус, ун-та,
вып. 1, Минск, 1956; О словесном мышлении как специфич.
особенности сознания, там же, вып. 2, ч. 1, 1958; Происхожде
ние сознания и его особенности, Минск, 1959; О «Филос. тет
радях» В. И. Ленина, М., 1959 (соавтор); Проблемы обще
ния и мышления первобытных людей, Минск, 1961.
ПРОТЕСТАНТИЗМ (от лат. protestans, род. п. рго-testantis — публично заявляющий) — общее обозначение вероисповеданий и сект, генетически связанных с Реформацией и образующих в совокупности третью важнейшую разновидность христианства —
398
ПРОТЕСТАНТИЗМ
 наряду с православием и католицизмом. Термин «П.» возник в связи с т. н. «Протестацией 20 имперских чинов» от 19 апреля 1629, с к-рым ряд герм, князей и городов выступил против антилютеранского постановления на имперском сейме в Шпейере.
наряду с православием и католицизмом. Термин «П.» возник в связи с т. н. «Протестацией 20 имперских чинов» от 19 апреля 1629, с к-рым ряд герм, князей и городов выступил против антилютеранского постановления на имперском сейме в Шпейере.
Типологические особенности П. Для П. характерно прежде всего повышенно личностное понимание общения человека с богом. Человек для П. уже не звено в цепи сверхличной общности, каким он был для ср.-век. христианства. Индивидуализм бурж. эпохи ставит в порядок дня такую перестройку религ. представлений, при к-рой человек со всем своим личным своеобразием мог включаться в ситуацию религ. переживания. Это наглядно прослеживается уже на бытовом уровне: если католицизм и православие строго регламентируют систему постов, то П. предлагает каждому упражняться в воздержании, исходя из собств. вкусов, пристрастий и привычек. Соответствующие изменения претерпевает в П. и идея бога. Если для ср.-век. религ. философии (см. Патристика и Схоластика) характерно накладывание библейского мифа о личностном божестве («живой бог») на платонов-ско-аристотелианские представления о безличной «совершенной сущности», «первопричине всех вещей», «чистом бытии» и т. п., то протестантскую теологию бог интересует преим. как личностный партнер человека, к-рому можно с предельной интимностью «поручать» свою жизнь и доверять ее «оправдание». В противоположность ср.-век. онтологич. и космологич. доказательствам бытия бога П. постоянно оперировал с «моральными» доказательствами, к-рые приобрели окончат."филос. оформление у Канта (ср. R. Eucken, Thomas von Aquino unci Kant: ein Kampf zweier Wel-ten, В., 1901). С т. зр. П., бог существует потому, что он нужен человеку и что последний в него верит (по формуле Лютера, «во что веришь, то и имеешь»); это приводит к психологизации всей теологии П.
С этим связана и «христоцентричность» П., поскольку образ Иисуса Христа — с акцентом на его человеч. чертах — становится в П. последней опорой идеи бога как таковой. Хотя и православие, и католицизм учат, что бог в себе самом не может быть постигнут мыслью и раскрывается для человека лишь в Христе, однако в своей догматич. части эти вероучения занимаются спекуляцией как раз о боге в себе (католицизм до сих пор настаивает на том, что бог как чистое бытие рационально доказуем и до известной степени рационально познаваем). Но для новоевроп. рационализма мыслить триединого творца и вседержителя Вселенной становится все труднее. Остается т. н. исторический Иисус — уже не архаич. чудотворец, но своего рода сверхморалист, совершенный учитель, личность к-рого представляется единств, гарантией против полного религ. агностицизма. Отсюда обостренный интерес протестантской теологии к конструированию рацио-налистич. биографий Иисуса.
Взаимоотношение бога и человека не терпит в П. не только абстрактно-онтологич., но и абстрактно-юридич. интерпретации (последнее характерно для католицизма). С т. зр. П. все, что человек получает от «своего» бога, есть свободный дар, а не оплата к.-л. заслуг (возвращение к «даром данной благодати» Августина, см. также Предопределение). Бог требует от человека в конечном счете лишь полного и безусловного доверия, делающего возможным интимно-личностные отношения; именно идею доверия передает в П. (особенно в лютеранстве) термин «вера», обозначающий не умств. убежденность в бытии бога, но охватывающее всю психику человека чувство «пребывания в руках божьих» (П. именует это столь желанное для человека индивидуалистич. эпохи состояние «оправданностью»). Поэтому П., основываясь на нек-рых тезисах раннего христианства (см. Новый завет), настаи-
вает на том, что человек может оправдаться и спастись «единственно» верой («sola fide»), без малейшего участия «дел» («заслуг»), т. е. независимо от следования тем или иным формализованным нормам поведения. И на вере в более обычном смысле, т. е. на убежденности в бытии бога П. делает более усиленный акцент сравнительно со ср.-век. христианством, видевшим в вере нечто само собой разумеющееся и требовавшим не веры, но послушания (по формуле «и бесы веруют и трепещут»).
Эти повышенно-личностные черты П. определяют и его понимание религии, пределы к-рой оказываются одновременно и суженными, и расширенными. С одной стороны, религия как таковая оказывается сведенной к вере, с другой — вместо замкнутой сферы церковности она охватывает всю жизнь человека; повседневная практич. деятельность приобретает религ. смысл (о значении П. в становлении бурж. проф. этики и технич. практицизма — см. М. Weber, Die protestan-tische Ethik unci der Geist des Kapitalismus, Tub. 1934; M. Scheler, Die Wissenschaft und die Gesellschaft, 2 Aufl., Bern —Munch., 1960, S. 101). Если для ср.-век. христианства религия — это либо культ, либо аскеза, требующие особого магич. посвящения (вступить в непосредств. контакт с богом может лишь наделенный преемств. апостольской благодатью священнослужитель, а до конца выполнить требования религ. морали способен лишь монах-подвижник — в ср.-век. латыни слово religiosus употребляется как синоним слова «монах»), то с т. зр. П. таким посвящением является уже крещение, к-рым, по словам Лютера, «все мы посвящаемся в священство» («An den chri-stichen Adel deutscher Nation», Hale/Saale, 1877, S. 7). Всякий христианин оказывается наследником всей полноты завещанной Христом «благодати», так что протестантский пастор отличается от мирянина не принципиально, но лишь по кругу своих проф. обязанностей. П. «... превратил попов в мирян, превратив мирян в попов» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 1, с. 422). Согласно Лютеру, возродившему представления раннего христианства, «служить богу есть не что иное, как служить ближнему, будь то ребенок, жена, слуга... любому, кто телесно или душевно в тебе нуждается; и это есть богослужение» (Werke, Bd 10, Abt. 1, Halfte 2, Weimar, 1910, S. 168). П. придает повышенное значение «домашней» религиозности: чтение Библии и пение псалмов в семейном кругу так же характерны для П., как всенародные церемонии для католич. переживания импозантной церковности.
Но, раскрепощая религ. жизнь индивида, П. в то же время в несравненно большей степени, чем др. разновидности христианства, отказывает этому индивиду в сущностной активности. При общении человека с богом действует только бог — через проповедуемое «слово божие» он внушает веру тем, кого сам же заранее предопределил к «спасению» (по словам Лютера, вера пробуждается «там и тогда, где и когда благо-угодно будет богу», цит. по кн. Hertzsch E., Die Wirkfichkeit der Kirche, Halle, 1956, Tl 1, S. 15). Отсюда крайнее упрощение всего «человеческого дей-ствования» в церкви: культ богоматери и святых в П. упразднен как покоящийся на «языческих представлениях ... об удовлетворении божества посредством жертвы» (там же, с. 31), от грандиозной системы «таинств», имевших для ср.-век. теологов космич. значение, оставлены лишь два — крещение и причащение, непосредственно связанные с новозаветной традицией, причем даже их наиболее радикальные направления П. интерпретируют как условный «знак». По-настоящему важно для П. «слышимое таинство» (sacramentum audibile), т. е. проповедь. Аналогичное упрощение претерпевает и вероучение: объектом веры
ПРОТЕСТАНТИЗМ
399
 остается «писание» (причем возрастает роль Ветхого завета), в то время как патристич. предание отпадает.
остается «писание» (причем возрастает роль Ветхого завета), в то время как патристич. предание отпадает.
Разновидности П. Возникнув в борьбе с надгос. католич. централизмом, П. разбился на ряд течений сообразно с запросами различных социальных кругов и нац. особенностями стран, где он укоренялся. Ранее всего выделились лютеранство, реформатское вероисповедание (цвинглианство и кальвинизм) и англиканство. В дальнейшем, особенно в 17 —18 вв., это дробление продолжается под знаком разрыва с застывшей ортодоксией П. и возвращения к первонач. идеям Реформации, что нашло наиболее радикальное выражение в конгрегационализме, признающем за каждой отд. общиной право конституировать свою веру. Среди протестантских сект следует упомянуть баптистов, квакеров, методистов (см. Методизм), гернгутеров (Германия, 18 в.), адвентистов и вышедших из адвентизма иеговистов.
Наибольшее культурно-историч. значение имеют расхождения между лютеранством и кальвинизмом. Кальвинизм с гораздо большей последовательностью выразил бурж. характер П., чем лютеранство, законсервировавшее ряд компонентов ср.-век. религиозности. Лютеранство понимает духовный путь человека как ряд иррациональных катастроф, не поддающихся рассудочному калькулированию (см. Обращение). Поэтому оно решительно отвергает мораль пер-фекционизма: высшее состояние, к-рое доступно человеку, есть состояние непостижимо «оправданного» богом грешника. Путь от греха к оправданности протекает не во времени, но человек есть, как неоднократно повторяет Лютер, «одновременно и оправданный, и грешник». Подобное отношение к внутр. жизни человека, сочетающее чуткость к психич. диалектике с известным этич. анархизмом, создало благоприятную почву для таких течений, как нем. романтизм; даже имморализм Ницше по-своему продолжает лютеровскую традицию. Кальвинизм разработал строгую доктрину самосовершенствования человека, последовательно проходящего один за другим этапы «совершенства» (ср. соч. пуританина Дж. Беньяна «Путь паломника»— «The pilgrim's progress», pt 1—2, 1678—84). Так был выработан тип буржуазно-расчетливого, хладнокровно-непреклонного жизненного поведения, блестяще проявившийся в социальных битвах 17 в., но мало пригодный для художеств, или филос. творчества. Поэтому наиболее содержат, развитие теология П. получила именно на почве лютеранства, сыграв виднейшую роль в подготовке нем. классич. идеализма 18—19 вв.
Этапы религиозной философии П. После бурной диалектики отчаяния и надежды, неверия и веры, свободы и несвободы, развитой в соч. Лютера, протестантская теология прошла период поверхностной рационали-стич. систематизации, формализуясь по образу и подобию католич. схоластики (Меланхтон, Хуттер, Гер-хард, Калов и др.). Лютеровский пафос «веры» подменяется пафосом «чистого у ч е н и я», протестантская церковь стала «...церковью теологов и пасторов...» (цит. по кн.: Г а р н а к А., Общая история европ. культуры, т. 6, СПБ, [1911], с. 463). Оппозиция против этой сухой и нетерпимой «ортодоксии» выливается с конца 16 в. в мистич. учения: Вейгель, Штифель, Бёме и Арндт продолжают традиции предреформац. нем. мистики. Позднее легальной формой оппозиции становится пиетизм, возрождающий стиль крайне ин-дивидуалистич. самоуглубления и полемизирующий не только с «отвлеченным» рационализмом догматич. ортодоксии, но и с деизмом просветителей. В 1-й пол. 18 в. в оборот школьной теологии П. попадают идеи вольфианства (через посредство Билъфингера и др.); этим создаются первые предпосылки просветительской
либерализации П., реализовавшиеся в 19 в. Во 2-й пол. 18 в. наиболее четким филос. выражением первооснов П. стало кантианство, до конца переносящее религ. проблематику в «моральный мир» человеч. духа. Кантовское противопоставление мира явлений и умопостигаемого мира свободы исчерпало идею Лютера о человеке как «беспредельно свободном» в духовном измерении и «беспредельно связанном» в измерении эмпирическом («О христ. свободе»). К концу 19 в. Кант воспринимается теологией П. как своего рода протестантский антипод Фомы Аквинского [см. Ф. Паульсен, Философия П. (Кант и протестантство), пер. с нем., СПБ, 1907].
Романтизм выдвинул одного из крупнейших теологов П.— Шлейермахера, доведшего религ. самоуглубление почти до эстетства. Характерная для 19 в. тенденция к соединению конфессиональной религ. традиции с духом историч. релятивизма и позитивистской научности (см. Модернизм) оформилась наиболее отчетливо именно в сфере П. Ричль, один из столпов либерального П. (доминирующего течения в П. во 2-й пол. 19 в.), давал, напр., такое толкование тезису о богочеловеч. природе Христа: поскольку учение Христа представляется наиболее возвышенным среди всех доступных нашему рассмотрению доктрин, «мы оцениваем Христа как бога». Это создавало благоприятные предпосылки для науч. исследования истории религии (тюбингенская школа, сер. 19 в., школа А. Гар-нака, ставшая ведущей с 1880-х гг.). Однако союз религии с позитивистским агностицизмом, ликвидировавшим понятие чуда (см. G. Marquardt, Das Wun-derproblem in der deutschen protestantischen Theologie der Gegenwart, Munch., 1933), а понятия богочелове-чества и откровения превращавшим в оценочные метафоры,не мог быть прочным. В 1910—12 в Америке складывается фундаментализм, требующий безусловного принятия на веру всего содержания Библии при полном игнорировании данных естеств. наук. В Европе после 1-й мировой войны все популярнее становится наследие Къеркегора, под влиянием к-рого складывается т. н. «диалектич. теология» (К. Барт, Брукнер, Тиллих, Р. Нибур и др.), становящаяся господств, течением в П. 20 в. Все же либеральный П. не исчезает бесследно, и его методы прослеживаются даже у его оппонентов из лагеря диалектич. теологии [напр., у Р. Бультмана, инициатора известной дискуссии о «демифологизации» (см. К. Jaspers, R. Bultmann, Die Frage der Entmythologisierung, Munch., 1954; P. Bart-hel, Interpretation du langage mythique et theologie bihlique..., Leiden, 1963)].
He составляя компактного единства даже в вопросах вероучения, П. обнаружил различное отношение к политич. проблематике 20 в. Либеральный П., как и резко полемизировавшая с ним по филос.-мировоз-зренч. вопросам «диалектическая теология», придерживались политич. либерализма. В то же время на-ционалистич. традиции П., противостоящие католич. космополитизму, выявились в т. н. движении «немецких христиан», к-рое принесло в жертву фашистской идеологии коренные принципы христианства, призвав, напр., отбросить «раввинические» понятия греха и виновности (см. К. Meier, Die deutschen Christen, Halle, 1964). Созданная в ответ на это организация протестантского сопротивления «Исповедническая церковь» (Bekemiende Kirche) выступила против тоталитаризма и «фюрерства», уничтожающих «священное одиночество человека перед богом» (Д. Бонхеффер), и в памятной записке от 1936 осудила гитлеровский террор. Т. о., религ. индивидуализм П. допускает диаметрально противоположные политич. программы. В этом отношении протестантский теолог в большей степени свободен, чем католич. или православный богослов. С одной стороны, П. открыт для таких реакц.
400 ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ — ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕЖДУ ГОРОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ
 идей, как расизм или одобрение атомной войны (для католицизма и то, и другое составляет, по крайней мере формально, предмет обязат. осуждения), с другой — ряд протестантских деятелей связывает заповеди П. с прогрессивными целями. Если всякая ре-лиг, идеология в приложении к жизни допускает различные толкования, то к П. это относится больше, чем к к.-л. др. разновидности христианства.
идей, как расизм или одобрение атомной войны (для католицизма и то, и другое составляет, по крайней мере формально, предмет обязат. осуждения), с другой — ряд протестантских деятелей связывает заповеди П. с прогрессивными целями. Если всякая ре-лиг, идеология в приложении к жизни допускает различные толкования, то к П. это относится больше, чем к к.-л. др. разновидности христианства.
Лит.: Энгельс Ф., Людвиг Фейербах и конец класеич.
нем. философии, Маркс К. иЭнгельсФ., Соч., 2 изд.,
т. 21; Лебедев А., Очерки развития протестантской
церк.-историч. науки в Германии. (XVI-XIX вв.), М., 1881;
СпекторскиЙ Е., Происхождение протестантского ра
ционализма, Варшава, 1914; Капелюш Ф. Д., Религия
раннего капитализма, М., 1931; Н а г и а с k A., Zur gegenwar-
tigen Lage des Protestantismus, Lpz., 1896; Ritschl O.,
Dogmengeschichte des Protestantismus, Bd 1—4, Lpz.—Gott.,
1908—27; Troeltsch E., Die Soziallehren der christlichen
Kirchen und Gruppen, Tubingen, 1912 (Gesammelte Schriften,
Bd 1); В run пег Е., Religionsphilosophie evangelischer
Theologie, Munch., 1927; BorkenauF., Der Obergang vom
feudalen zum burgerlichen Weltbild, P., 1934; S t e p h a n H.,
Geschichte der evangelischen Theologie seit dem deutschen
Idealismus, В., 1938; Luther—Kant—Schleiermacher in ihrer
Bedeutung fur den Protestantismus, В., 1939; Miiller L.,
Russischer Geist und evangelisches Christentum. Die Kritik des
Protestantismus in der russischen religiosen Philosophie und
Dichtung im 19. und 20. Jahrh., Wittenberg, 1951; Fager-
b e r g H., Bekenntnis, Kirche und Amt in der deutschen kon-
fessionellen Theologie des XIX. Jahrh., Uppsala, 1952; В г е m i
W., Der Weg des protestantischen Menschen. Von Luther bis
Albert Schweitzer, Z., 1953; Tillich P., Protestantismus
als Kritik und Gestaltung, Lpz., 1959; Protestantism, ed. by
J. L. Dunstan, N. Y., 1962; Leonard E.G., Histoire generale
du protestantisme, t. 1, P., 1961. С. Аверинцев. Москва.
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ — каждый из двух моментов конкретного, т. е. диалектич. противоречивого тождества. См. Противоречие диалектическое.
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕЖДУ ГОРОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ — объективно обусловленный в анта-гонистич. формациях отрыв деревни от города в социально-экономическом и культурно-бытовом отношениях. «Город... представляет собой факт концентрации населения, орудий производства, капитала, наслаждений, потребностей, между тем как в деревне наблюдается диаметрально противоположный факт — изолированность и разобщённость» (М а р к с К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3, с. 50). П. м. г. и д. органически связана с противоположностью классов, но не сводится к ней (в антагонистич. обществе в городе и деревне имеются и классы эксплуататоров, и классы трудящихся).
П. м. г. и д. возникает в рабовладельч. обществе, после появления частной собственности и раскола общества на классы в связи с развитием производит, сил и обществ, разделения труда. Города возникают и растут как центры пром-сти, торговли, управления, культуры, что было объективно неизбежным и прогрессивным явлением. Города стали центрами цивилизации, они дали первые образцы демократии, нар. движений, науки. Города Египта, Индии, Китая, Греции, Италии остались в истории как вехи человеч. прогресса.
П. м. г. и д. выступает прежде всего как противоположность между господствующими, имущими классами города и неимущими трудящимися деревни. Вместе с тем трудящиеся города также отличаются от трудящихся деревни по характеру труда, образу жизни, быту, культуре, хотя они не эксплуатируют тружеников деревни. Сложившаяся в антагонистич. обществе социально-экономич. П.м.г. и д. в целом включает: 1) противоположность в уровне развития производит, сил, прежде всего между с.-х. и пром. трудом; 2) противоположность между умств. и физич. трудом (см. там же, с. 49). Город отличается от деревни по уровню образования, науки, культуры, медицинского обслуживания населения, быту, образу жизни.
Отношения П. м. г. и д. в ходе истории претерпевают изменения и развитие. В рабовладельч. странах
подавляющее большинство населения сосредоточено в деревне, к-рой противостоит город — центр сосредоточения класса рабовладельцев. С переходом к феодализму города растут в экономич. и бытовом отношении, по численности населения. В условиях средневековья «...город повсюду и без исключений эксплуатирует деревню экономически своими монопольными ценами, своей системой налогов, своим цеховым строем, своим прямым купеческим обманом и своим ростовщичеством» (Маркс К., там же, т. 25, ч. 2, с. 365). То, что класс феодалов в значит, части сосредоточивается в вотчинах и поместьях (хотя связующим их центром остается город), не ослабляет социально-экономич. и культурно-бытовой П. м. г. и д.
Капитализм, перенимая сложившуюся П. м. г. ид., расширяет и обостряет ее (см. В. И. Ленин,Соч., т. 22, с. 81—82). Это проявляется не только внутри капита-листич. стран, но и на междунар. арене как противоположность между промышленно и культурно развитыми метрополиями и колониальными и полуколониальными странами. В результате бурного развития капитализма растет роль города как центра цивилизации и прогресса, процесс урбанизации приводит к огромному увеличению гор.населения и значит, уменьшению сел. населения. В городе развивается рабочий класс. По мере развития капитализма во взаимоотношениях между городом и деревней происходят существ, изменения.
В капиталистич. аграрно-индустриальных странах, особенно где в деревне сохраняются остатки феодализма, совр. П. м. г. и д. еще более обостряется. С.-х. трудом занята значит, часть населения. Так, в Испании в с. х-ве занято 41,5% самодеят. населения, в Португалии — 43% (1960). В индустриально-аграрных и индустриальных странах (Италия, Франция, ФРГ и др.), где сохраняются латифундии, юнкерские х-ва и с. х-во развивается не по фермерскому, а по деревенскому типу, положение мелких и средних крестьян неустойчиво. Труд таких крестьян отличается от прем, труда, но по ряду черт произ-ва, культуры и быта часть крест, х-в прогрессирует. В ФРГ в с. х-ве занято 14% самодеят. населения (1961), во Франции — 21% (1962), в Италии — 26,5% (1962). В США с. х-во сложилось на свободной от феодализма почве. Фермерский тип с. х-ва утвердился также в Швеции и нек-рых др. странах. В таких странах нет деревни как населенного пункта, состоящего из совокупности дворов мелких, средних и крупных крестьян. С. х-во представлено капиталистич. крупными фермерами, эксплуатирующими с.-х. рабочих, средними и мелкими фермерами. В США, напр., сильно сократились масштабы П. м. г. и д., поскольку в с.-х. произ-ве господствует крупный капитал, а самодеят. население, занятое в с. х-ве, уменьшилось до 6,5% (1960). Но вместе с тем с.-х. рабочие, особенно негры, находятся в тяжелых условиях по сравнению с рабочими города. Мелкие и средние фермеры, живущие гл. обр. за счет собств. труда, хотя и мало отличаются по бытовым и культурным условиям от мелких гор. бизнесменов, но в социально-экономич. отношении по-прежнему эксплуатируются городом различными путями и приемами (см. М. Хар-рингтон, Другая Америка, М., 1963, с. 56—57).
На междунар. арене в совр. эпоху в результате распада колониальной системы происходит коренное изменение и последоват. устранение противоположности между мировым империалистич. городом и ранее колониальной и полуколониальной мировой деревней. Подавляющее большинство молодых суверенных гос-в еще не вырвалось из мирового капиталистич. х-ва, хотя и занимает там особое место. «Это — все еще эксплуатируемая капиталистическими монополиями часть мира. Пока эти страны не покончат с экономической зависимостью от империализма, они будут
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕЖДУ УМСТВЕННЫМ И ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ 401
 играть роль „мировой деревни", останутся объектом полуколониальной эксплуатации» (Программа КПСС, 1961, с. 45). В то же время внутри развивающихся «тран до перехода их на путь демократич. и социалистич. преобразований сохраняется и выступает на первый план противоположность между более развитым, но малочисленным городом и отсталой деревней ■с ее многочисл. населением (в странах Азии и Африки в деревне живет 80—90% населения). В таких странах (большей частью в городе) преобладают капита-листич. элементы, а в деревне — феод., полуфеод, и даже родовые.
играть роль „мировой деревни", останутся объектом полуколониальной эксплуатации» (Программа КПСС, 1961, с. 45). В то же время внутри развивающихся «тран до перехода их на путь демократич. и социалистич. преобразований сохраняется и выступает на первый план противоположность между более развитым, но малочисленным городом и отсталой деревней ■с ее многочисл. населением (в странах Азии и Африки в деревне живет 80—90% населения). В таких странах (большей частью в городе) преобладают капита-листич. элементы, а в деревне — феод., полуфеод, и даже родовые.
Социализм открывает путь ликвидации П. м. г. и д. Материальные и идеологич. предпосылки для устранения этой противоположности, к-рые подготавливаются в недрах капитализма, реализуются при социализме. Социалистич. рабочий класс и в целом город организуют социально-экономич. и культурно-бытовой подъем деревни. Социалистич. кооперирование крестьянства создает возможность для его экономич. и культурного развития. Экономич. основой ликвидации П. м. г. и д. является создание материально-технич. базы социализма в городе и деревне, духовной предпосылкой — осуществление культурной революции. Темпы и масштабы ликвидации при социализме П. м. г. и д. зависят прежде всего от уровня развития страны.
В странах социализма значительно возросла численность гор. населения и соответственно сократилось сел. население. В ГДР в городах жило 73,1%населения (1965), на Кубе — 57.% (1962). В Болгарии гор. население составляло в 1920 19,9% , в 1965 — 46,2% ; в Венгрии в 1920 — 35,3% , в 1965 — 43,1% ; в Польше в 1931 — 27,4% , в 1965 — 49,7% . В с. х-ве было занято: в ГДР — 17% самодеятельного населения (1963), в Чехословакии — 23% (1962), в Венгрии — 38,5% (1960), в Польше—47,5% (1960), в Югославии — 57% (1961).
В СССР в результате построения социализма ликвидирована П. м. г. и д. По социально-экономич. и культурно-бытовому уровню деревня приблизилась к городу. Изменилось соотношение гор. и сел. населения. Так, в сел. и лесном х-ве в СССР работало в 1913 75%, в 1940 — 54%, в 1950 — 48%, в 1960— 39%, в 1964 — 33% населения. Однако в СССР еще сохранились социально-экономич. и культурно-бытовые различия между городом и деревней, не носящие уже анта-гонистич. характера. Слишком велика была в царской России пропасть между городом и деревней. Успехи СССР в приближении деревни к городу были бы намного значительнее, если бы не*наличие сложной между-нар. обстановки, что требовало особого внимания к тяжелой и оборонной пром-сти. Ущерб нанес также ряд серьезных ошибок в руководстве с. х-вом (нарушение экономич. законов развития социалистич. произ-ва, принципов материальной заинтересованности). Имелись также ошибки в планировании, финансировании и кредитовании с. х-ва, в политике цен. Мало выделялось капиталовложений на производств, и культурно-бытовое строительство, слабо укреплялась материально-технич. база с. х-ва. Меры по устранению этих недостатков, намеченные Мартовским (1965) пленумом ЦК КПСС иХХШ съездом КПСС (1966), открывают широкие перспективы для развития с. х-ва, для дальнейшего подъема деревни до уровня города.
В период построения коммунизма будут преодолеваться существующие различия между городом и деревней. «При коммунизме... по уровню развития производительных сил и характеру труда, формам производственных отношений, бытовым условиям, степени благосостояния населения деревня поднимется до уровня города» (там же, с. 63).
Лит.: Марко К., Капитал, т. 3, гл. 47; Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд.,т. 25, ч. 2; М а р к с К. и Э н-г е л ь с Ф., Немецкая идеология, там же, т. 3; и х же, Манифест Коммуниетич. партии, там же, т. 4; Лени н В. И., Развитие капитализма в России, Соч., 4 изд., т. 3; е г о же, Рецензия. Karl Kautsky. Die Agrarfrage, там же, т. 4; его ж е, Аграрный вопрос и «критики Маркса», там же, т. 5; е г о ж е, Новые данные о законах развития капитализма в земледелии, там же, т. 22; е г о ж е, Проект Программы РКП(б) (февраль — март 1919), там же, т. 29; е г о ж е, Великий почин, там же; его ж е, Детская болезнь «левизны» в коммунизме, там же, т. 31; е г о же, Странички из дневника, там же, т. 33; Программа КПСС (Принята XXII съездом КПСС), М., 1961; Хлебников И. П., Существ, различия между городом и деревней и пути их преодоления, М., I960; К у-р ы л е в А. К., О ликвидации социально-экономич. и культурно-бытовых различий между городом и деревней, М., 19U1; Семенов В. С, Проблема сближения города и деревни, в кн.; Марксистская и бурж. социология сегодня, М., 1964.
В. Семенов. Москва. . ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕЖДУ УМСТВЕННЫМ И ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ — противоположность интересов людей, занятых физич. трудом и умств. трудом, возникшая на той ступени развития обществ, разделения труда, когда утвердилось господство частной собственности и появились антаго-нистич. классы. На ранних стадиях развития общества, когда труд людей давал лишь небольшой излишек над необходимыми средствами для жизни, необходимым и прогрессивным было такое обществ, разделение труда, при к-ром большинство населения занято физич. трудом, а небольшая часть общества руководит работами, занимается гос. делами, наукой и иск-вом. Это не означает, что существовала абс. монополия господствующих классов на умств. труд. Так, при рабовладельч. строе эксплуататорские классы, считавшие всякий труд недостойным делом для свободного человека, передоверяли рабам многие функции умств. труда: из среды рабов готовились ученые, врачи, учителя, артисты и др. В феод, обществе анта-гонистич. противоречия между умств. и физич. трудом углубились в связи с усилением противоположности между городом и деревней. Умств. труд стал монополией феодалов и духовенства. В условиях капитализма отделение интеллектуальных сил процесса произ-ва от ручного труда и превращение их во власть капитала над трудом получает свое завершение. По мере развития производит, сил гл. обр. из среды господствующих классов выделялась интеллигенция, профессионально занимающаяся умств. трудом. Развитие производит, сил общества (механизация, а затем автоматизация производств, процессов) вызывает необходимость в грамотных и культурных рабочих. Борьба рабочего класса за свои права приводит к сокращению рабочего дня и к созданию нек-рых условий для получения образования. Поэтому и повышается общеобразоват. и культурно-технич. уровень рабочего класса. Совр. уровень развития производительных сил (комплексная механизация и автоматизация произ-ва) объективно вызывает необходимость в сочетании физич. труда с умственным и создает условия для ликвидации П. м. у. и ф. т. Однако капиталистич. производств. отношения мешают устранению этой противоположности.
Идеологи господствующих классов пытались теоретически обосновать неизбежность существующего разделения труда и классовой структуры общества. Так, для античности характерны взгляды Аристотеля (см. «Политика», СПБ, 1911, с. 12, 14). В феод, обществе физич. труд рассматривался как труд «черный» и «неблагородный», к-рый вечно должен выполняться специально предназначенными для этого людьми — крепостными. Как утверждал Фома Аквинский, разделение на сословия установлено навечно богом. Неизбежным отделение умств. труда от физического считали и крупнейшие представители бурж. политич. экономии (см. А. Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, М., 1962, с. 556—57). Даже
402
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕЖДУ УМСТВЕННЫМ И ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ
 нек-рые социалисты-утописты считали вечным отделение умств. труда от физического. Они не могли решить вопроса о том, кто будет заниматься в будущем обществе «грязным» и др. неприятным трудом. По их представлениям, выполнение таких работ следует поручать рабам или преступникам (Т. Мор, Д. Верас). Фурье предполагал, что «неприятные работы» надо возложить на детей, которые, по его мнению, склонны к ним.
нек-рые социалисты-утописты считали вечным отделение умств. труда от физического. Они не могли решить вопроса о том, кто будет заниматься в будущем обществе «грязным» и др. неприятным трудом. По их представлениям, выполнение таких работ следует поручать рабам или преступникам (Т. Мор, Д. Верас). Фурье предполагал, что «неприятные работы» надо возложить на детей, которые, по его мнению, склонны к ним.
Совр. бурж.' социологи распространяют ложную теорию «равных возможностей» при капитализме, согласно к-рой будто бы каждый талантливый человек, независимо от его социального происхождения и положения, может занять наивысшее положение в обществе. С др. стороны, все различия в обществ, разделении труда, в т. ч. и между умств. и физич. трудом, они объясняют биологич. особенностями людей, игнорируя антагонистич. классовые противоречия капита-листич. общества.
Классики марксизма-ленинизма показали, что противоположность и противоречия между умств. и физич. трудом носят исторически преходящий характер. В условиях социализма происшедшие изменения в характере труда, в культурно-технич. уровне рабочего класса и крестьянства привели к ликвидации антагонистич. П. м. у. и ф. т. и создают новые отношения рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Вместе с тем на первой фазе коммунизма сохраняются определ. неантагонистич. социально-экономич. различия и противоречия между умств. и физич. трудом. Они заключаются в том, что, во-первых, характер труда работников, занятых умств. деятельностью, как правило, значительно отличается от характера труда людей, занятых физич. трудом, хотя и существуют профессии и специальности, в к-рых умств. и физич. труд переплетаются друг с другом. Во-вторых, культурно-технич. уровень (общее и спец. образование) работников умств. труда в массе своей более высок, чем людей, занятых физич. трудом. В-третьих, работники умств. труда, занимающие руководящие должности на произ-ве, в управлении, в научно-исследо-ват. учреждениях и орг-циях, получают из нац. дохода за свой, качественно более сложный труд соответственно более высокую долю, чем работники физич. труда. Ввиду этого и культурно-бытовой уровень жизни этой части работников умств. труда отличается от уровня жизни работников физич. труда. В-четвертых, при одинаковом доступе к образованию, ко всем благам культуры и науки всего народа фактически интеллигенция их использует в относительно большей мере. Так, по данным Мин-ва высшего и среднего спец. образования, в 1963/64 с отрывом от произ-ва училось в целом по СССР рабочих и детей рабочих 39,4%, колхозников и их детей— 19,6%, служащих и их детей — 41%. Социальный состав студентов-вечерников: рабочих и детей рабочих — 50,6%, колхозников и их детей — 2,3%, служащих — 47,1%. Заочно обучаются гл. обр. служащие и их дети, они составляют по СССР 67,3%, в то время как рабочие и их дети — 25,7% , а колхозники и дети колхозников — 7,0%. Развитие системы обучения, направленное на укрепление связи высшей школы с произ-вом, а особенно повышение заработной платы низко- и среднеоплачиваемых групп трудящихся сыграет важную роль в выравнивании условий для обучения всей молодежи. При анализе этих социальных различий следует иметь в виду, что в условиях социализма возможность перехода тех или иных трудящихся из одной социальной группы в другую несравненно большая, чем в условиях капитализма. Повышение квалификации и общего культурно-технич. уровня широких масс трудящихся означает массовое передвижение работников в группы наиболее квалифицированных трудя-
щихся с более высокими и разносторонними духовными интересами. В-пятых, нек-рые неантагонистич. противоречия между работниками умств. и физич. труда связаны с взаимоотношениями между руководящими и руководимыми работниками в процессе-произ-ва. Совр. произ-во требует сочетания высокой активности масс с единоначалием. Работники умств. труда, осуществляя это единоначалие на произ-ве, являются полномочными представителями социали-стич. гос-ва. Преодолевается данное противоречие путем широкого вовлечения трудящихся масс в управление произ-вом, развития всех многообразных форм участия в нем коллектива трудящихся путем расширения прав проф. орг-ций, повышения роли производств, совещаний, рабочих собраний и т. п. Маркс и Ленин, придавая исключит, значение проблеме ликвидации П. м. у. и ф. т., указывали на необходимые условия ее разрешения. Маркс в «Критике Готской программы» предсказывал, что П. м. у. и ф. т. исчезнет лишь на высшей фазе развития коммунистич.общества. Такой же т. зр. придерживался Ленин. Он, в частности, писал, что интеллигенция остается особой социальной прослойкой «...впредь до достижения самой высокой ступени коммунистического общества ...» (Соч., т. 33, с. 169).
Между тем в сов. экономич. и филос. лит-ре была распространена упрощенческая т. зр. Сталина но этому вопросу. Так, в брошюре «Экономич. проблемы социализма в СССР» Сталин отождествлял эксплуататоров, т. е. собственников средств произ-ва, с «представителями умств. труда» вообще и говорил об эксплуатации людей физич. труда представителями умств. труда. Это утверждение игнорировало тот факт, что граница между классом эксплуатируемых и классом эксплуататоров в совр. условиях не совпадает с делением на людей физич. и умств. труда. При капитализме эксплуатации подвергается и значит, часть-работников умств. труда, низший, а иногда средний персонал инженерно-технич. и науч. работников и служащих. Противоречия между физич. и умств. трудом в условиях социализма Сталин свел к «существ, различиям» между ними, а самые различия — к различиям в культурно-технич. уровне рабочих и инженерно-технич. работников, к-рые будут преодолены «путем поднятия культурно-технического уровня рабочих до уровня технического персонала».
Преодоление социальных различий и противоречий между умств. и физич. трудом — сложная социально-экономич. проблема. Ее разрешение происходит на протяжении периода строительства коммунизма и связано с осуществлением комплекса социально-экономич. процессов. Во-первых, с изменением характера обществ, разделения труда, постепенным вытеснением, а затем и ликвидацией малоквалифицированного физич. труда, а также с преодолением однобокой специализации работников как физического, так и умств. труда; во-вторых, с соответств. повышением культурно-технич. уровня рабочих и крестьян; в-третьих, с повышением культурного уровня и уровня физич. развития всех работников как физического, так и умств. труда; в-четвертых, с постепенным достижением (на основе коренного изменения в характере и уровне развития производит, сил) слияния функций умственного и физич. труда в высшем синтезе — в коммунистическом труде; в-пятых, с уменьшением, социальных различий в условиях труда и быта, а затем и с полным их устранением на основе роста производительности труда и подъема благосостояния.
На определ. этапе высшей фазы коммунизма будут ликвидированы социально-экономич. различия между умственным и физич. трудом, а уровень общих и спец. знаний, к-рые получат трудящиеся, будет столь высоким, что отпадет нужда в сохранении групп людей,
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ — ПРОТИВОРЕЧИЕ
403
 исключит, специальностью к-рых было бы руководство производственными и др. обществ, функциями. Функции управления обществом и произ-вом останутся и при развитом коммунизме. Но они будут выполняться всеми людьми поочередно. Ленин предсказывал, что в будущем обществе «...все будут управлять по очереди и быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял» (там же, т. 25, с. 458, см. также т. 29, с. 297). В Программе КПСС отмечается, что следует «...вести дело к тому, чтобы государственный платный аппарат сокращался, чтобы навыками управления овладевали все более широкие массы и работа в этом аппарате в перспективе перестала быть особой профессией» (1961, с. 105).
исключит, специальностью к-рых было бы руководство производственными и др. обществ, функциями. Функции управления обществом и произ-вом останутся и при развитом коммунизме. Но они будут выполняться всеми людьми поочередно. Ленин предсказывал, что в будущем обществе «...все будут управлять по очереди и быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял» (там же, т. 25, с. 458, см. также т. 29, с. 297). В Программе КПСС отмечается, что следует «...вести дело к тому, чтобы государственный платный аппарат сокращался, чтобы навыками управления овладевали все более широкие массы и работа в этом аппарате в перспективе перестала быть особой профессией» (1961, с. 105).
Решение историч. проблемы устранения различий и противоречий между умств. и физич. трудом возможно лишь на основе построения материально-технич. базы коммунизма.
Лит.: Маркс К., Критика Готской программы,
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 19; е г о ж е,
Капитал, там же, т. 23; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там же,
т. 20; Л е н и н В. И., Государство и революция, Соч., 4 изд.,
т. 25; его же, Речь на I Всероссийском съезде коммунистов—
учащихся 17 апреля 1919, там же, т. 29; его же, Проект
тезисов о роли и задачах профсоюзов в условиях новой эко
номической политики, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 44; Про
грамма КПСС (Принята XXII съездом КПСС), М., 1961;
Луначарский А. В., Интеллигенция в ее прошлом, на
стоящем и будущем, [М.], 1924; Бебель А., Будущее обще
ство, М., 1959; Константинов Ф., Сов, интеллигенция,
«Коммунист», 1959, № 15; Маневич Е. Л., О ликвидации
различий между умств. и физич. трудом в период развернутого
строительства коммунизма, «ВФ», 1961, № 9; его же,
Труд умственный и труд физич. в период развернутого стро
ительства коммунизма, М., 1961; Струмилин С. Г.,
Проблемы социализма и коммунизма в СССР, М., 1961; И о в-
ч у к М. Т., К о г а н Л. Н., Руткевич М. Н., Подъем
культурно-технич. уровня рабочего класса и его роль в соеди
нении физич. и умств. труда в СССР, в кн.; От социализма к
коммунизму, М., 1962; Маслин А. Н., Осипов Г. В.,
Соединение умств. и физич. труда — одна из важнейших за
дач строительства коммунизма, там же; Юдин П. Ф., От
социализма к коммунизму, М., 1962; К у р ы л е в А., Прео
доление существ, различий между умств. и физич. трудом —
проблема строительства коммунизма, М., 1963; Социология
в СССР, т. 1—2, М., 1965, Е. Маневич. Москва.
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ (лат. contrapositio) — в силлогистике преобразование формы суждения путем последоват. применения операций превращения и обращения.
ПРОТИВОРЕЧИЕ (греч. avTi'cpaaig, лат. contradic-tio, нем. Widerspruch) диалектическое.
В сов. филос. лит-ре существуют различные точки зрения на проблему П. Редакция публикует две статьи, отражающие две осн. точки зрения.
1. Общими чертами диалектич. П. следует считать единство (взаимообусловленность, взаимопроникновение) и борьбу (взаимоисключающее, взаимоотрицающее взаимодействие) сторон П., а во мн. случаях также и наличие у него функции осн. движущей силы развития, изменения объекта, к-рому это П. присуще. Типология диалектич. П. не может быть построена по какому-то одному основанию. Кроме деления П. на более или менее широкие, на антагонистические и неантагонистические, можно специально выделять П., к-рые являются осн. источником развития объекта (это П. в его сущности), П., связанные с переходом объекта из данного состояния в ему противоположное, а также такие, когда объект существует через свою противоположность, и П. типа «асимптотического» несоответствия (напр., между организмом и средой, между относит, и абс. истиной, между формальной и диалектич. логикой). Следует строго различать П. самого объекта, а также их содержат, отражение в сознании и особенно в науч. теориях и, с др. стороны — диалектич. П. различной степени широты, свойственные процессу познания и отражающие специфику последнего. Следует также специально выделять П. между результатами познания и тенденциями развития познаваемых объектов. П. двух последних видов
получают нередко выражение в виде формальнологич. П., т. е. в одноврем. принятии утверждения (р) и его же отрицания ( Np ) в системе нек-рого теоретич. языка. Содержат, отражения объективных П. в познании должны быть свободны от формальнологич. П.; диалектические же П. процесса познания и П. между итогами познания и познаваемыми объектами, выступая в виде парадоксов и антиномий, играют обычно эв-ристич. роль, содействуя раскрытию глубинных П. объекта и преодолению т. о. формальнологич. П.
Осознанное Платоном (см. R. Р., 436; Soph., 259 в; Phaed., 130 в) положение о необходимой совместности в познании диалектич. П. и формальнологич. закона исключенного П. было утрачено Гегелем, но на качественно новой основе восстановлено Марксом, к-рый выступил против (1) идеалистич.примирения П. в понятиях, (2) их эклектич. соединения по формуле «да и нет в одном и том же смысле», свойственного особенно младогегельянцам и Прудону, (3) выделения одной из сторон П. как «хорошей», в отличие от отбрасываемой другой как «плохой». Критика этих положений Марксом связана с уточнением характеристики диалектич.синтеза и его отношения к тезису и антитезису, образующим диалектич. П. В гегелевской триаде, в силу принципа идеалистич. тождества бытия и мышления, оказались ошибочно слиты в структуре понятий качественно различные в действительности структуры: (а) тезис и антитезис суть стадии развития объекта, переходящего в противоположное состояние, а синтез — третья его стадия; (б) тезис и антитезис — одновременно существующие взаимосвязанные стороны П., к-рое есть движущая сила развития данного объекта, а синтез — новое состояние, в к-ром данное П. находит свое относительное объективное разрешение; (в) тезис и антитезис суть суждения, в своей совокупности составляющие познават. задачу, к-рая находит разрешение в качественно новом суждении, дающем основу для построения теории состояния и развития исследуемого объекта. Если учесть это различие, то не существует общего шаблона достижения диалектич. синтеза; во всех случаях этот синтез не есть ни тезис, ни антитезис сам но себе, ни конъюнкция их по формуле «есть и не есть в одном и том же смысле и отношении», принятие к-рой означало бы подмену диалектич. соотношения формальнологическим в метафизич. применении последнего. Диалектич. синтез есть итог перехода к качественно новому состоянию, отрицающему (хотя и по-разному) обо стороны исходного П. В случаях (а) и (б) проблема «является или не является синтез формальнологич. конъюнкцией тезиса и антитезиса, взятых в одном и том же смысле и отношении», лишена смысла вообще, т. к. вне головы человека не существует теорий и суждений как таковых. Спец. критику понимания диалектич. разрешения П. через конъюнкцию его сторон можно найти в «Нищете философии» (см. К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 4, с. 132).
Но формальнологич. конъюнкция может быть использована в случае интерпретации науч. проблем как «столкновения» двух прямо противоположных друг другу возможных их решений. В этом случае конъюнкция тезиса и антитезиса оказывается формулировкой проблемы. Маркс в «Капитале» несколько раз прибегает к этому способу, в частности в проблеме происхождения прибавочной стоимости (капитал возникает и не возникает в сфере обращения — см. там же, т. 23, с. 206). В «Математических манускриптах» Маркс выступил против трактовки подобных проблем как уже готовых решений («синтезов») вопроса, а именно против одноврем. трактовки бесконечно малых величин и как обычных отличных от нуля величин, и как величин «исчезающих» (обращающихся в нули)
404 ПРОТИВОРЕЧИЕ
 по ср. с конечными или бесконечно малыми величинами более низких порядков, т. е., проще говоря, как л улей и не-нулей одновременно. Ленин указывал, что толкование апории «летящая стрела», не принимающее во внимание различие между «результатами» {т. е. гносеологич. фиксациями) движения и самим реальным движением (а именно это толкование ведет к ситуации «есть и не есть»), приводит к тому, что «...(диалектическое) противоречие... не устранено, а лишь прикрыто, отодвинуто, занавешено» (Соч., т. 38, с. 255).
по ср. с конечными или бесконечно малыми величинами более низких порядков, т. е., проще говоря, как л улей и не-нулей одновременно. Ленин указывал, что толкование апории «летящая стрела», не принимающее во внимание различие между «результатами» {т. е. гносеологич. фиксациями) движения и самим реальным движением (а именно это толкование ведет к ситуации «есть и не есть»), приводит к тому, что «...(диалектическое) противоречие... не устранено, а лишь прикрыто, отодвинуто, занавешено» (Соч., т. 38, с. 255).
Истолкование формулы «да и нет в одном и том же смысле и отношении» как абсолютно адекватного выражения объективного П. и как разрешения поз-нават. П. приводит к своего рода «параличу» поз-нават. процесса. Понимание же ее как формулировки проблемных ситуаций познания позволяет все более углубленно познавать объективные диалектич. П. Именно так происходит познание через противоположное: для раскрытия объективных диалектич. П. следует преодолевать П. в теоретич. исследовании, выступающие в силу отражения диалектич. процессов через формальнологич. «фиксации», в виде фор-мальнологич. П. Эти последние разрешаются так, что перед исследователем возникают далее новые проблемы, к-рые опять формулируются в виде антиномий типа «есть и не есть». Этот тройственный ритм, угаданный Гегелем в его триадах, но неверно им истолкованный, продолжается без конца, ибо процесс движения от относит, истин к абсолютной через П. бесконечен.
И. Нарский. Москва.
2. Диалектическое П.— такое сущностное отношение противоположных моментов внутри системы, в к-ром осуществляется конкретное тождество этих моментов и к-рое делает систему самодвижущимся органическим целым; взаимоопределение этих моментов друг через друга и одновременно через строгое их взаимоотрицание. П. постольку осуществляется, поскольку равным образом содержательно разрешается. Именно непрерывное разрешение и столь же непрерывное воспроизведение П. делает движение самодвижением. П. есть «источник всей диалектики» (см. К. Marx, Das Kapital, Bd 1, В., 1960, S. 626), важнейшее определение ее «ядра», ее «сути»; «в собственном смысле диалектика есть изучение противоречия в самой сущности предмет о в...» (Л ени н В.И.,Соч., т.38,с. 249,см. также с. 215, 357), т. е. уразумение конкретной тождественности противоположностей (см.там же, с. 97—98 и др.).
С вульгарной т. зр. П. выступает как сбивчивость или изворотливость мысли и т. п. Филос. категория П. предельно далека от такого представления, от того, чтобы путаницу из-за аморфности, логич. недисциплинированности мышления оправдывать тем, будто в самой действительности все перепутано. Напротив, только творч. процесс исследования может открыть объективное П. и указать путь его разрешения. За П. как филос. категорию нельзя выдавать поверхностные симптомы, свойственные лишь исторически преходящим превращенным формам, хотя именно эти сими томы «заявляют о себе» весьма внушительно и подмечаются до и вне их науч. исследования. Последнее призвано объяснить их, исходя из строгого понимания всеобщей природы П. При некритич. восприятии пре-вращ. формы П. толкуются как столкновение между не образующими никакого единого целого силами, между изначально различными сущностями (дуализм). На деле всякие полярные .наделенные самостоятельностью противоположности вовсе не изначально внешни друг для друга, но всецело производны от внутр. моментов единого целого, с т. зр. к-рого они только и могут быть систематически объяснены. Диалектич. П. есть прежде всего П. не между разными сущностями, а
внутри одной сущности, имманентное ей. Нет дей-ствит. противоположностей без их внутр. единства, без их конкретного тождества. Отрывать их друг от друга и догматически противопоставлять можно лишь в субъективистском идеологич. конструировании, но не в науч. системном исследовании.
Не менее ложно и истолкование П. как продукта субъективного произвола — практич. воли или мыслит, рефлексии. С этой т. зр. противоречивая «видимость» скрывает лишенную П. всегда более простую сущность, открываемую якобы лишь несмотря на П. Но на деле нет и действит. тождества без противоположностей, без П. Тождество без П. вырождается в абстрактное, рассудочное, лишенное конкретности, постигаемой в творч. движении по логике предмета. Истина всегда конкретна, конкретность же достижима только с открытием и разрешением П. объекта.
Диалектич. П. не поддается непосредств. усмотрению в фундаменте бытия — путем построения онтологии. Оно не схватывается и созерцат. описанием эмпирии. Предпосылка его постижения — доят, освоение природы общественным человеком. Делая П. своим собств. П., предметная деятельность тем самым воспроизводит его также и идеально, в мышлении. В наиболее чистой, универс. всеобщей форме оно выступает в разумном научно-теоретич. мышлении — как его категория, выполняющая в нем свою содержат.методо-логич. функцию. Через эту его активную функцию П. и осмысливается филос. исследованием. Поэтому, хотя П. безусловно существует как имманентное всякой действительности, тем не менее адекватно познается оно начиная только с определенного, весьма высокого уровня культуры теоретич. мышления. Рассуждение о П. предмета вне теоретич. системы знания об этом предмете является методологически несостоятельным.
Функция диалектич. П. в познании — быть узловым пунктом развертывания расчлененной, многоплановой системы теоретич. знания, т. е. восхождения от абстрактного к конкретному, от всеобщего к особенному, более того — быть побудит, силой такого развертывания теории, формой синтеза ее понятий. Именно благодаря П. каждое понятие внутри теории не просто вводится как заранее готовый результат, излагаемый способом, безразличным к способу его возникновения, но предстает как процесс. Оно предстает в изложении таким, каким рождается из разрешения П., а тем самым таким, каково оно в процессе идеального воссоздания самого предмета движением мышления. П. и есть имманентный «двигатель» процесса мышления, направляющий его так, чтобы оно своим движением воспроизводило логику самого предмета, к-рая совпадает с «двигателем» саморазвития предмета, представленным в его ставшей структуре. Это — определение предмета как порождающего внутри себя свою противоположность, в к-рой удержаны и его всеобщие и его особенные характеристики. П. есть способ сращения внутри конкретного предмета непосредственно несовместимых определений, способ синтеза разнородных, разноплановых аспектов в единую сложную систему.
Начало диалектич. П.— такая содержат, антиномия, к-рую, в силу ее объективности, нельзя устранить никакими усовершенствованиями корректности изложения в пределах имеющегося знания. Сам предмет антиномичен, таит в себе «проблемность»; схватывая ее, антиномия выступает как форма адекватной постановки еще не решенной проблемы. Она свидетельствует о том, что необходим еще творч. процесс проникновения в предмет. Внутри антиномии самой по себе тезис и антитезис логически равноправны: взаимно отрицают друг друга и столь же взаимно предполагают. Но с т. зр. всей системы и ее развер-
ПРОТИВОРЕЧИЕ 405
 тывашш тезис и антитезис всегда неравноправны, антисимметричны, и только потому П. разрешимо. Диа-лектич. разум не останавливается на сопряженности полярных моментов. Он отнюдь не постулирует противоположности как застывшие, логически симметричные крайности, чтобы на такой дуалистич. основе подвергнуть всякую конкретность рассечению, абстрактному размежеванию. Напротив, он выводит противоположности, анализирует их генезис и превращение начиная с тождества. Внутри системы предмета имманентное ему отрицание — антитезис — понимается как производный внутр. момент, а не как нечто изначально ему противостоящее или привнесенное произволом. Более того, это для разума лишь путь к синтезу через разрешение П.
тывашш тезис и антитезис всегда неравноправны, антисимметричны, и только потому П. разрешимо. Диа-лектич. разум не останавливается на сопряженности полярных моментов. Он отнюдь не постулирует противоположности как застывшие, логически симметричные крайности, чтобы на такой дуалистич. основе подвергнуть всякую конкретность рассечению, абстрактному размежеванию. Напротив, он выводит противоположности, анализирует их генезис и превращение начиная с тождества. Внутри системы предмета имманентное ему отрицание — антитезис — понимается как производный внутр. момент, а не как нечто изначально ему противостоящее или привнесенное произволом. Более того, это для разума лишь путь к синтезу через разрешение П.
Понять П. диалектически —значит понять также и его реальное содержат, разрешение в саморазвитии предмета. Настаивать на объективности П. безотносительно к необходимости открыть его разрешение столь же нелепо, как, напр., брать причину без ее действия или форму без ее содержания. Разрешение П. есть переход в особенное. Поскольку это особенное определено как всеобщее, т. е. остается внутри целостной системы, постольку разрешенное П. воспроизводится; поскольку же особенное непосредственно не содержится во всеобщем, не «предзаложено» в нем, а отрицается им, постольку разрешение П. рождает свой результат — подлинно творч. синтез, обогащающий само всеобщее, делающий его более конкретным, более развитым. Только творч. движением — через П. и его разрешение — научно-теоретич. мышление «изображает» предмет в его истине как целостную систему.
С этим связаны трудности обнаружения диалектических П. в рассудочном мышлении. Рассудок придает знанию способ организации, не только не воплощающий в изложении творч. движения по логике предмета, но, напротив, безотносительных! к этому движению. Знание выступает не как процесс, а как овеществленное, как «языковая вещь», как «готовый» результат. Тем самым в изложении не находится места для явного выражения диалектич. П. Конкретность рассекается на абстрактно-всеобщие и внешние им специфич. характеристики. Системная целостность распадается на фрагменты, на «частичные» теории, лишенные средств рационального синтеза их в тотальную картину объекта. Эта фрагментаризация диктуется не особенностями объектов, а расщеплением и отчуждением самой предметной деятельности. В отчужденном знании П. кажется исчезнувшим и даже невозможным в качестве объективной категории, ибо оно тоже рассечено и представлено лишь как антиномия, к-рая фиксирована в неразрешимой форме и выступает как порок прошлого, преодоленного знания плюс изолированный от нее результат ее разрешения. Но т. к. нагромождение антиномий неплодотворно, они оцениваются только негативно, как граница рационального с «иррациональным». Пока кри-тич. анализ социальной природы познания не преодолевает таких превращенных форм, остается почва для подмены П. к.-л. его суррогатом.
В лит-ре известно много способов классификации П. Однако основания подразделения при этом — не категориального порядка. Гл. принятая градация такова.
П. в природе. Поскольку естествознание выходит за пределы «частичных» теорий и переходят к целостносистемному познанию объекта, оно сталкивается с необходимостью воспроизводить объективное П. природы и его содержат, разрешение внутри тео-ротич. знания, особенно в случаях, когда надо осуществить синтез знаний о предметах, прежде изучавшихся изолированно. Изложение целостной теории представимо как система систем, в каждой из к-рых
находит себе место и формальный аппарат, подчиненный развертыванию понятий, а в узловых пунктах, в творч. переходах — вскрытие и разрешение П., что и синтезирует их в целое. Отрицание П. в природе из-за дуалистич. противопоставления ее обществу ведет к иррационализму.
В обществе, в классово-антагонистич. формациях, П. принимает исторически преходящую превращенную форму антагонистического противоречия, в к-ром воспроизведению П. придается форма противостоящих друг другу классовых сил. Превращеиность этой формы состоит в том, что отношение этих сил выступает как столкновение изнач. противоположностей, или сил, лишенных общности генезиса и не нуждающихся в своем единстве, а каждая из них, обретая самостоятельность, выступает внутри себя как якобы единство без противоположностей, как некое «метафизич.» целое. Особенности разрешения антагонистич. П. изучаются теорией социальной революции. Исходя из превращенной формы проявления антагонизма, нельзя понять ни антагонизма, ни П. вообще. Антагонизм надо понять, исходя из логики П.
В доклассовом, а также в социалистич. и комму-нистич. обществе П. не выступает в форме антагонизма. Борьба за коммунизм направлена на преодоление антагонизмов. Социализм впервые придает разрешению П. форму сознат. обществ, действия. Антагонизм никогда не бывает имманентен собств. логике развития творч. культуры. Дать ей полный простор и призван коммунизм. При социализме важность трезвого изучения конкретных П. в спец. наукг.х диктуется необходимостью борьбы с пережитками сурж, общества, бюрократии, противоречащей социалистич. демократии, и т. п.
В истории познания П. выступает часто как антиномия, приписываемая прошлому знанию. В рассудочном мышлении нет критерия для различения между П., возникающим из-за некорректности рассуждений, и теми «...великими парадоксами, которые доставляют пищу логической мысли на десятилетия, а иногда и на века» (N. Bourbaki, Foundations of mathematics for the working mathematician, см. «J. Symb. Logic», 1949, v. 14, № l,p. 3). Диалектика указывает такой содержат, критерий, объясняя ис-торич. форму проявления П. из П. постигаемого предмета и усматривая в логике П. и его разрешения имманентную логику развития познания.
Гл. типы концепций П. в истории философии. Сменявшие друг друга концепции П., ст. зр. единства историч. и логического, представляют такие уровни последоват. проникновения в проблематику П., к-рые воспроизводятся сегодня и к-рые должны быть сняты в ходе филос. образования.
Мифологизирующая народная мудрость уже на заре культуры подмечала многообразнейшие переходы и «переливы», «схождение крайностей» и т. п. Однако-лишь рождавшаяся в процессе ее критики философия попыталась за этой картиной отыскать космич. «субстанциальное» начало, к-рое бы ее объясняло, и обнаружила антиномичность такого «начала», но лишь в форме эстетич.-афористич. догадок. Стремление строже фиксировать антиномии средствами рассудочных понятий привело скорее к отрицат. результату — к утверждению истинности абстрактной всеобщности и к дуалистич. противопоставлению ее «мнениям». Такие антиномии (апории) принуждали к отказу от конкретности, от многообразия, от движения как истинных (Зенон Элейский) и толкованию их как неподлинных, только чувственно достоверных. Тем самым рассудок демонстрировал свою самокритику, свое самоотрицание. Такова была «отрицат. диалектика»— историч. предпосылка диалектич. разума. С поворотом от «космоса» к человеку П. было представлено как полемич.
406
ПРОТИВОРЕЧИЕ
 источник истины. В такой, еще внешне субъективной форме все же схватывалось то творч. движение с определением понятий через их противоположности и снятием отрицания, к-рому позже было найдено всецело предметное основание. Платон попытался синтезировать эстетич. и отрицат. диалектику. Но его диалектика «Идей» лишена подлинного развития и основана на сверхразумном «Едином» (см.также Неоплатонизм). Аристотель по существу ставил проблему П. и сделал здесь много ценного, обсуждая др. категории (форму и материю, энтелехию и движение), но в то же время неправомерно наделил принцип формальной непротиворечивости всякого замкнутого рассуждения на фиксированном уровне содержательно-логич. и онто-логич. правами.
источник истины. В такой, еще внешне субъективной форме все же схватывалось то творч. движение с определением понятий через их противоположности и снятием отрицания, к-рому позже было найдено всецело предметное основание. Платон попытался синтезировать эстетич. и отрицат. диалектику. Но его диалектика «Идей» лишена подлинного развития и основана на сверхразумном «Едином» (см.также Неоплатонизм). Аристотель по существу ставил проблему П. и сделал здесь много ценного, обсуждая др. категории (форму и материю, энтелехию и движение), но в то же время неправомерно наделил принцип формальной непротиворечивости всякого замкнутого рассуждения на фиксированном уровне содержательно-логич. и онто-логич. правами.
Представители скептич. антиномизма всегда превращали диалектику из орудия поиска содержания в нечто опустошающее, в «искусство» нагромождать антиномии, беря их просто как словесные парадоксы: все всему противоречит, всякая определенность обращается в фикцию, растворяется в хаосе «гибкого» произвола (см.в этой связи К.Маркс,в кн.: Маркс К.и Энгельс Ф., Из ранних произв., 1956, с. 209). Мистицизм превращал открытия диалектич. разума в средство оправдания идеологич. мрака.
Антиподом мистицизму, возводившему в культ не-разрешенность П., может казаться культ формального избавления от всяких П., превращающий терминоло-гич. непротиворечивость тавтологич. рассуждения в содержательно-логич. закон. Однако это лишь мнимый антипод мистицизму, лишь способ самоподчинения «судьбе», смирения перед иерархией институциональных отчужденных сил.
В пантеистически-гилозоистич. концепциях проблема П. возникала при попытке постичь «высшую» субстанцию сущего как «совпадение противоположностей», к-рые «комплицированы» в высшем единстве. Была обнаружена имманентность отрицания утверждению всякого понятия. Однако здесь П. еще не стало развертывающимся движением, беспокойным процессом разрешения антиномий и их воспроизведения. На толковании П. еще лежала печать эстетич.-интуитивного созерцания, к-рому П. будто бы только и открывается в противовес дискурсивному мышлению.
Кант создал новую форму «отрицат. диалектики», дав критику познават. применения рассудочно огра-нич. разума. Неразрешимость антиномий, в к-рые разум впадает с необходимостью, должна была быть аргументом против тождества субъекта и объекта и за их дуализм. Но Кант лишь продемонстрировал, что вообще «разведение» тезиса и антитезиса в антиномиях возможно только при предварит, принятии такого дуализма и что только такой дуализм позволяет сами антиномии формулировать как лишь внешние столкновения, т. е. как такие, необходимость к-рых лежит не в самих сталкиваемых категориях, а вне их. Поэтому отныне монизм предстал как возможный только вместе с пониманием П. как объективного, всеобщего и содержательно разрешающегося. Т. зр. активно-созидат. деятельности помогла Фихте развернуть П. как движение от тезиса через антитезис к синтезу. Однако все это изображение систематически-синтетич. метода так и осталось внутри трансцендентального субъекта, абс. «Я». Шеллинг провозгласил П. первейшей действительностью, через огонь к-ройвсе должно пройти, а «построение» такого П.— высшей задачей науки. Эта задача не была им решена из-за неадекватности метода — «интеллектуальной интуиции». Диалектич. П. распалось на мистич. абс. «индифферен-цию» и «отношение полярности», в равной степени лишенные диалектич. движения.
Философы-романтики отрицали постижимость П. в понятиях науки, не зная иной ее рационально-дискур-
сивной формы, кроме рассудочной. Поэтому они противопоставили науке эстетизированное П. остроумной рефлексии как нечто иррациональное, как некое более подлинное, нежели исследуемое наукой бытие. Признание совпадения противоположностей (антиномизм), но не в природе, не в объектах разумного мышления, а в сфере, открываемой интуицией, мистич.инстинктом и т. п.,— такова тенденция всего иррационализма (А. Бергсон, К. Ясперс и др.). Своеобразной модификацией иррационалистич. антиномизма в неогегельянстве явилась «трагич. диалектика» (А. Либерт и др.), настаивавшая на принципиальной неразрешимости извечных антиномий. Это соответствует общему духу также и экзистенциалистского мировоззрения.
Одновременно Шеллинг (особенно в натурфилософии) оказался родоначальником концепции полярности. Исторически она выступала как создававшая нек-рые предпосылки для диалектики, но с развитием собственно диалектич. понимания П. становится противостоящей диалектике типично метафизич. концепцией. Уже пифагорейцы фиксировали коррелятивные пары крайностей в математич. определениях. Прогресс науки позволил существенно расширить сферу, где наблюдались такие пары, и построить филос. концепцию всеобщей двойственности. С ее т. зр., отношение полярности понимается как сосуществование двух изначально различных, обладающих самостоят, сущностями раздельных полюсов, к-рые взаимно сопряжены (предполагают друг друга) и в то же время столь же взаимно несовместимы (исключают, вытесняют, выталкивают друг друга); они логически равноценны. Концепция полярности антидиалек-тична как раз тем, что не видит их неравноценности и производности от П. внутри одной сущности; не прослеживает генезиса и снятия противоположностей на основе разрешения П., делает их статичными. Концепция полярности получила весьма широкое распространение в бурж. философии 19—20 вв. Именно ею часто подменяли и подменяют диалектику такие претенденты на роль наследников Гегеля, как неогегельянцы. Ее распространению способствовали: ее рассудочная простота и доступность; возможность полностью обойти обостренно-антиномич. формулировки; «правдоподобность» с т. зр. поверхностно-эмпирич. «примеров» из наук на их описат. уровне; идеологич. удобство для эклектич. соединения и «учета» различных и противоположных «факторов» в сложных условиях 20 в.
Гегель впервые сознательно изобразил П. как уни-верс. всеобщую объективно-логич. форму, как центр, категорию диалектики. Сделать это ому позволил его монизм с опорой на фихтевский принцип самодеятельности, «ожививший» спинозову субстанцию и сделавший ее также и «субъектом». Гегель устранил роковое для Шеллинга расхождение между методом и «сутью дела», поняв совпадение теории познания с содержат, логикой, логики — с диалектикой. Показав всю неосновательность попыток «отодвинуть» антиномич. формулировки П. в субъективную и вообще внешнюю рефлексию, лишить П. предметной объективности, Гегель раскрывает П. как «принцип всякого самодвижения» (см. Соч., т. 5,М., 1937, с. 521), как глубочайшее определение конкретности предмета. Именно пафос разумно-понятийного постижения конкретного, особенного ориентирует Гегеля на осмысление роли и значения П. С помощью П. можно уразуметь вполне объективно синтез тотального, а одновременно вполне разумно, без всяких ссылок на «иррациональное», понять и субъективную творч. способность. Но для этого надо дать анализ диалектич. разрешения П. или, что то же самое, анализ П. как разрешающегося содержательно. «Противоречием дело не может закончиться» (там же, т. 1, М.—Л., 1929,
ПРОТИВОРЕЧИЕ
407
 с. 206), и сила духа — в том, что он «... умеет разре
с. 206), и сила духа — в том, что он «... умеет разре
шать его» (там же, т. 5, с. 267). Тогда и охватывается
впервые действительность П.— как разрешающегося
и воспроизводящегося: «основание, которое сначала
обнаружилось перед нами как снятие противоречия,
является ... как новое противоречие» (там же, т. 1,
с. 208). Так достигается «самое важное в разумном
познании» — удержание благодаря П. предпосылок в
результате и развертывание системы знания как творч.
процесса (см. там же, т. 6, М., 1939, с. 308—16).
Однако все это диалектич. движение Гегель изобразил
как движение, взятое в его отчужденности от дейст-
ВИТ. обществ, человека. Г. Ватищев. Москва.
Создание и развитие Марксом и Энгельсом диалекти-ко-иатериалистической концепции П. Критич. усвоение Марксом гегелевской категории П. происходило в поиске объективного филос. метода: разумно постигаемая сущность должна «...развертываться как нечто в себе противоречивое и находить в себе своё ■единство» (Маркс К. иЭнгельс Ф., Из ранних произв., 1956, с. 8). Убедившись в ложности дуализма должного и сущего, Маркс искал, источник револкщ. критичности в объективном понимании действительности. Такой источник — П. Однако Маркс наталкивается на трудность совлечения с П. превращенной формы антагонизма (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 1, с. 321), но затем преодолевает ее: «... свойство быть крайностью кроется всё же лишь в сущности одной из них... Положение обеих не одинаково... Действительного дуализма сущности не бывает». П. должно быть понято как глубочайшее, сущностное П. (там же, с. 322, см. также с. 324). «Вульгарная критика» наличного бытия везде находит П., но она догматична. «Истинная критика... не только вскрывает его противоречия..., но и объясняет их; она постигает их генезис, их необходимость» (там же, с. 325). Только тогда П. научно понято как ведущее к преодолению существующего, когда капитал и труд взяты как производные от внутр. П. самого труда. Отчуждающийся труд есть П.: он одновременно и ч<субъективная сущность частной собственности», и «объективированный труд»— капитал. Такова «...энергичная, напряженная форма, побуждающая к разрешению этого противоречия»(М а р к с К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Из ранних произв., с. 585). Из неравенства тезиса и антитезиса в П. следует неравенство «положительного» и «отрицательного» моментов антагонизма (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 2, с. 38—39). Но если теряется производность формы антагонизма от внутр. П., то целое, не понятое диалектически, превращается в сумму «хорошей» и «дурной» сторон. Диалектич. движение на деле есть не грубая ликвидация одной из «сторон» П., а«... их борьба и их слияние в новую категорию...», отрицание и синтез нового целого (см. там же, т. 4, с. 136). Более того, революц. сила, чтобы быть способной снять старое и создать новое целое, сама должна заключать в себе П. старого целого. Так, рабочий класс, преодолевающий отчуждение как таковое, должен сам стать по своему положению одновременно и творцом отчужденной культуры я страдающим от него, т. е. «перерасти» бурж. общество (см. там же, т. 2, с. 39—40; т. 3, с. 201). Грубое «отбрасывание» одной стороны практически влечет лишь восстановление «всей старой мерзости» внутри другой стороны. И только объективно необходимое диалектич. отрицание есть тот революц. процесс, в к-ром сам ее творец переделывает себя и очищается от всей этой «старой мерзости» (см. там же, т. 3, с. 33, 70). Отсюда — вся парадоксальность формулы: «Без антагонизма нет прогресса. Таков закон, которому цивилизация подчинялась до наших дней» {там же, т. 4, с. 96). Ведь в превращенной форме антагонизма П. непосредственно выступает как то, во-
преки чему совершается прогресс культуры. Только социализм и коммунизм снимают эту превращенную форму: человеч. прогресс перестает уподобляться «...идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых» (там же, т. 9, с. 230).
В классич. произведениях 1850—60-х гг. Маркс дал образец анализа П. в сущностных отношениях, вскрытия этих отношений за их превращенными, иррациональными формами, а затем выведения их и объяснения. Маркс разрешает те антиномии, к-рые находит у своих теоретич. предшественников. Для этого надо было очистить антиномии от заблуждений и найти адекватную форму постановки проблем. Сама по себе антиномичность не есть ни синоним, ни эквивалент ложности — только с такой т. зр. можно оценить по достоинству всякое культурное наследие, вообще историю культуры. Так, Маркс видел не только слабости, но и заслуги у А. Смита, Рикардо и др., когда они обнаруживали П., еще не умея разрешить их (см. К. Маркс, там же, т. 26, ч. 1, с. 62—63, 67, 132; ч. 3, с. 52, 66—67, 269 и др.). Для Маркса задача состояла в том, чтобы, разумеется, отсеяв беспредметные, кажущиеся «П.», открыть за антиномиями в их неадекватной формулировке антиномии самого предмета (см. там же, ч. 1, с. 62—63). При этом «то, что парадокс действительности выражается также и в словесных парадоксах, которые противоречат обыденному человеческому рассудку,...— это понятно само собой» (там же, ч. 3, с. 139). Маркс упрекает Смита как раз за рядополагание тезиса и антитезиса, из-за к-рого сам товаре...ещене выступает захваченным и пронизанным противоречием» (Архив Маркса и Энгельса, т. 4, 1935, с. ИЗ).
Предельное заострение П. завершает лишь предварит, работу. Главное — открыть, как П. разрешается. Понимание этого — необходимый момент понимания П. как диалектического (см. К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 26, ч. 3, с. 52; т. 23, с. 114, 166—77 и др.). Не разрешая П., нельзя овладеть конкретностью предмета, войти в его особенную логику. Архитектоника «Капитала» — это и есть явное прослеживание разрешения и воспроизведения П. капитализма, прослеживание шаг за шагом всех осложняющих и модифицирующих сущностные отношения форм их осуществления, в к-рых П. каждый раз разрешаются, до тех пор пока все возможные имманентные ему особенные формы таким путем не исчерпываются. Тогда анализ П. капитализма выводит за его пределы и ориентирует на теоретич. обоснование необходимости его революц. преодоления, его отрицания.
Разрешение П. товара дает первый толчок всему теоретич. движению по структуре бурж. общества. Дальнейшее изучение предмета не есть лишь «извлечение» того, что «предзаложено» в товаре, но есть творч. процесс. И все же этот процесс идет уже внутри того целого, к-рое очерчено анализом исходной элементарной формы — товара и его П. Имманентные товару П. с самого начала берутся как П. определ. формы человеч. предметной деятельности, как П. товарного произ-ва. В отд. товаре воплощено всеобщее П. всего товарного мира как целого, и именно поэтому товар есть предельно абстрактная, элементарная конкретность этого мира. П. товара есть лишь элементарное воплощение П. труда, производящего товарный мир. Оно вскрывается Марксом в его четырех модификациях — в четырех «особенностях эквивалентной формы». Каждая из них — антиномия: «совокупность противоречивых требований» (см. там же, т. 13, с. 31). За П. потребит.стоимости и стоимости кроется П. конкретного и абстрактно-всеобщего труда, за ним — П. непосредственно обществ, формы частного труда и, наконец, самое глубокое П.—
408 ПРОТИВОРЕЧИЕ
 «персонификации вещей и овеществления лиц» (там же, т. 23, с. 124). Только с т. зр. этого П. и можно впервые понять товар не как сумму «сторон», а как конкретное тождество. Это П. может быть разрешено лишь тем, что оно само опредмечивается, так что товар раздваивается (см. Архив Маркса и Энгельса, т. 4, с. 111), его внутр. отношение к самому себе выступает как внешнее отношение двух разных товаров, к-рое, последовательно осложняясь, развертывается в отношении товара и денег (см. К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 71, 97). П. разрешается «выталкиванием» денег, но воспроизводится в новой форме —через противоположность метаморфоз (см. там же, с. 114, 149) и т. д. «...Имманентное противоречие получает в противоположностях... развитые формы своего движения» (там же, с. 124).
«персонификации вещей и овеществления лиц» (там же, т. 23, с. 124). Только с т. зр. этого П. и можно впервые понять товар не как сумму «сторон», а как конкретное тождество. Это П. может быть разрешено лишь тем, что оно само опредмечивается, так что товар раздваивается (см. Архив Маркса и Энгельса, т. 4, с. 111), его внутр. отношение к самому себе выступает как внешнее отношение двух разных товаров, к-рое, последовательно осложняясь, развертывается в отношении товара и денег (см. К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 71, 97). П. разрешается «выталкиванием» денег, но воспроизводится в новой форме —через противоположность метаморфоз (см. там же, с. 114, 149) и т. д. «...Имманентное противоречие получает в противоположностях... развитые формы своего движения» (там же, с. 124).
В диалектике «концепция полярности» снимается не отбрасыванием внешнего отношения противоположностей, а выведением его из внутреннего. Даже рассудок подмечает полярность противоположностей, к-рая есть «неразрывная взаимная принадлежность друг другу и столь же постоянное взаимное исключение». Ибо «даже до проведения глубокого анализа сразу же выясняются следующие пункты: а) н е р а з-р ы в н о с т ь..., б) полярность». Таковы «друг друга исключающие крайности, т. е. полюсы» (Marx К., Das Kapital, Bd 1, Hamb., 1867, S. 780, 765). Энгельс также отмечал, что поляризация сама по себе — лишь рассудочно фиксированные противоположности (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 20, с. 528). Но когда отношение полярности берется ст. зр. разрешающегося и воспроизводящегося П., тогда оно диалектически переосмысливается. Ибо оно больше «не рассматривается, как прежде, аналитически» — то со стороны одного полюса, то со стороны другого,— но берется синтетически, в свете внутр. П. (см. К. М а г х, Das Kapital, Bd 1, S. 44).
Именно диалектика П. делает и теорию и практику подлинно революционными, критически-творческими, поскольку ориентирует их на то, что развертывание и разрешение П. к.-л. формы — «... единственный исторический путь ее разложения и образования новой» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 499; ср. т. 25, ч. 2, с. 456; т. 3, с. 236). Т. Батищев. Москва. Ф. Вяккерев. Пермь.
Ленин о категории П. и совр. задачи ее исследования. Ленин обращает гл. внимание на отстаивание строжайшей научности, невозможной без постижения П., а это предполагает критич. овладение также гегелевским наследием, без к-рого нельзя понять и Маркса (см. Соч., т. 38, с. 170; т. 33, с. 208). Научность предполагает и борьбу с опошлением диалектики, к-рую никогда не следует путать «... с вульгарной манерой смешивать в кучу», «с той пошлой житейской мудростью, которая выражается итальянской поговоркой:... просунуть хвост, где голова не лезет...» (там же, т. 7, с. 380). Недопустимо подменять тождество противоположностей суммой примеров (см. там же, т. 38, с. 357): в каждом отд. примере П. берется изолированно, эмпирично, вне его роли в познании — как название для множества случаев, а это «не есть диалектика» (см. В. И. Ленин, Конспект «Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса», 1959, с. 280). Когда П. не берется «...как закон познания (и закон объективного мира)», как «условие познания всех процессов... в их спонтанейном развитии» (Ленин В. И., Соч., т. 38, с. 357, 358), тогда оно подменяется абстрактным противопоставлением «сторон», «крайностей» (напр., «зла» и «блага»), к-рое еще не дает конкретного (см. там же, т. 32, с. 329). Если речь идет о столкновении «...различных сил и тенденций...» (см. там же, т. 21, е. 38), следует рассматривать их как результат развертывания внутр. П. (см. там же, т. 38, с. 213—14,
а также т. 32, с. 9). Именно благодаря тому, что внутри системы науч. знания вскрываются и разрешаются П., такая система дает истину как процесс (см. там же, т. 38, с. 192, 197, 295). Само П. внутри такой системы выступает как внутр. переход, как способ синтеза нового понятия. Тем самым мышление схватывает объект как самодвижущийся и выражает движение «в логике понятий» (см. там же, с. 252). Диалектика отличается не тем, что находит вне движения его. «источник» и называет его «П.», а тем, что не выносит «источник» вне движения (см. там же, с. 358) и явно выражает его П. (см. там же, с. 253). Ею теоретически воспроизводится не только его эмпирич. проявление-в пространстве и времени (сумма состояний покоя), но и само движение, его логика — логика П. и его разрешения. Возражение всех метафизич. противников Гегеля тем и неверно, что «...оно описывает р е-зультат движения, а не само движение...», поскольку пытается «устранить» П., а так как это невозможно, то на деле П. оказывается «...лишь прикрыто, отодвинуто, заслонено, занавешено» (там же, с. 255). Поскольку мы пытаемся мыслить движение с помощью рассудка, а не разума, постольку «мы не можем... изобразить движения, не прервав непрерывного, не упростив, угрубив, не разделив, не омертвив живого», причем это касается «...не только-движения, но и всякого понятия» (там же). Диалектич. разум преодолевает это огрубление и изображает объекты «в их живой жизни» (см. там же, с. 358), как тождество, содержащее в себе П. Лишь в этом смысле суть диалектики «...выражает формула: единство, тождество противоположностей» (там же, с. 255). Всякое П. есть логическое, это тавтология (см. там же, т. 23, с. 33—34), но если П.— диалектическое, то оно существует в действительности, а не только в нашем изложении (см. там же, т. 25, с. 324). Для марксиста принципиально важно уметь не просто-абстрактно противопоставлять новое и старое и т. п.,. но мужественно вскрывать реальные П., не маскируя их обывательским морализированием и слащавым самодовольством (см. там же, т. 1, с. 327; т. 2, с. 234—35; т. 33, с. 447, 455).
Потребности прогресса социалистич. общества диктуют не схоластически-невинное конструирование П., а трезвое и специальное, сугубо конкретное науч. исследование. Чем богаче результаты филос. анализа! П. как категории в творч. процессе, тем плодотворнее и их применение в решении спец. проблем (см. Социализм). Ценные методологич. уроки филос. анализ, призван извлечь из изучения П. развития осн. форм культуры (см. там же, т. 38, с. 136).
Верное понимание П. в творч. развитии многообразия культуры, в противовес его извращению при господстве антагонизма,— источник верного понимания партийности.
Лит.: Маркс К., Морализирующая критика и крити-зирующая мораль, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 4; е г о ж е, Нищета философии, там же, гл. 2, § 1; е г о ж е, Теории прибав. стоимости, там же, т. 26, ч. 1—3; Маркс К. иЭнгельс Ф., Великие мужи эмиграции, там же, т. .8, [§ 5]; М а р к с К., Grundrisse der Kritik der politi-schen Okonomie, В., 1953; Ленин В. И., Развитие капитализма в России, Соч., 4 изд., т. 3; е г о ж е, О карикатуре на марксизм и об «империалистич. экономизме», там же, т. 23, [§ 3]; е г о ж е, Грозящая катастрофа и как с ней бороться, там же, т. 25, [§ 9]; е г о ж е, Лучше меньше, да лучше, там же, т. 33; Плеханов Г. В., [Предисл. переводчика ко 2 изд. брошюры Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической нем. философии»], Избр. филос. произв., т. 3, М., 1957; Л у к а ч Г., Антиномии бурж. мышления, «Вестн. Соц. Акад.», 1923, кн. 5; А с м у с В. Ф., Диалектика Канта, М., 1929, гл. 4; Д е б о р и н А. М., Гегель и диалектич. материализм (§ 12), в кн.: Гегель, Соч., т. 1, М.—Л., 1929; Ильенков Э. В., К вопросу о П. в мышлении, «ВФ», 1957, .№ 9; е г о же,. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса, М., 1960, гл. 5; С т я ж к и н Н. И., О логич. парадоксах и их отношении к диалектич. П., «ВФ», 1958, №1; В я к к е р е в Ф. Ф., Разработка К. Марксом категории П. в 1850—1860 гг., «Вестн. ЛГУ», 1959, вып. 2, JSI» 11; е г о же, Диалектич. П.
ПРОТИВОРЕЧИЕ —ПРОТИВОРЕЧИЯ ЗАКОН 409
 и марксистская политэкономия, М., 1963; Б а т и щ е в Г. С,
и марксистская политэкономия, М., 1963; Б а т и щ е в Г. С,
0 категории П. в «Филос. тетрадях» В. И. Ленина, в кн.:
В. И. Ленин и вопросы марксистской философии, М., 1960;
его ж е, П. как категория диалектич. логики, М., 1963;
Г р у-ш и н Б. А., Процесс обнаружения П. объекта, «ВФ»,
1960, № 1; Р о з е н т а л ь М. М., Принципы диалектич. ло
гики, М., 1960, гл. 6,3; его же, Ленин и диалектика, М.,
1963, гл. 2; Маньковский Л. А., Логич. категории в «Капитале» К. Маркса, в кн.: Диалектич. логика в экономич. науке, М., 1962, гл. 10 и 11; Кедров Б. М., Несводимость марксистской диалектич. трактовки П. к формальнологич. схемам, в кн.: Диалектика и логика. Законы мышления, М., 1962; Лосев А. Ф., История антич. эстетики, М., 1963, ч. 2, гл. 4; Я н о в с к а я С. А., Преодолены ли в совр. науке трудности, известные под назв. апорий Зенона?, в сб.: Проблемы логики, М., 1963;«ФН»(НДВШ), 1964, Ли 1—6 (разд. Дискуссии и обсуждения); Д у д е л ь С. П., Диалектич. логика об отражении движения в понятиях, «Сб. трудов Всес. заочного политех, ин-та», 1964, вып. 31; Прохоренко В. К., П. структуры — П. дифференцированности и целостности, «ВФ»,
1964, Л 8; Диалектика — теория познания. Ленин об элементах диалектики, М., 1965, гл. 3, § 3; Б и б л е р В. С, Понятие как процесс, «ВФ», 1965, № 9; Туровский М. Б., Диалектика как метод построения теории, там же, № 2; Нарекли I. С, Актуальные проблемы марксистско-ленинской теории познания, М., 1966; Горский Д. П., Проблемы общей методологии наук и диалектической логики, М., 1966, гл. 3; В a h n s e n J., Der Widerspruch..., Bd 1—2, В.—Lpz., 1880—82; М а г с k S., Hegelianismus und Marxismus, В., 1922; . его же, Die Dialektik in der Philosophie der Gegenwart, Bd
1 — 2,Tub., 1929—31; Guardini В., Der Gegensatz, Mainz,
1925; H e i s s R., Logik des Wlderspruchs, В.—Lpz., 1932; D e s-
touches-Fevrier P., Contradiction et complementarite,
«Synthese», 1948—49, v. 7, № 3; L u p a s с о S t., Le principe
d'antagonisme et la logique do l'energie, P., 1951; NotrisL.
W. .Polarity..., Chi., 1956; WeinH., Realdialektik..., Munch.,
1957; Jaspers K., Von der Wahrheit, Munch., [1958];
Zinoview А. А., О logicznej niesprzecznosci s^dow pra-
wdziwych, «Studia filoz.», 1959, № 1; Hueck W., Die
Polaritat..., Remagen, 1961; N a rs k i I., O sprzecznosci ruchu.
«Studia filoz.», 1963, № 3—4; AlthusserL., Contradicti
on et sur'determination, «La Pensee», 1962, № 106; F о u g e y-
rol las P., Contradiction et totalite, P., 1964; S t i e ti
ler G., Der dialektische Widerspruch. Formen und Funktio-
nen, В., 1966. , Г. Батищев. Москва.
ПРОТИВОРЕЧИЕ (в формальной логике), формальнологическое противоречие, — появление в ходе рассуждения (доказательства, вывода) в качестве логически вытекающих из принятых в нем посылок (или представляющихся таковыми) — пары противоречащих суждений, т. е. суждений, из к-рых одно является отрицанием другого. П. в формализованной теории — доказательство в ней пары формул вида А и -\А (п — знак отрицания) [или, что обычно рассматривается как то же самое, доказательство конъюнкции А&пА («А и не-4»)]; нередко П. называют и самою формулу A & iA . В применении к содержательным (неформализованным) теориям термином «П.» обозначают также появляющуюся в ней пару противоречащих суждений или противоречивое суждение, т. е. суждение, к-рое приобретает вид А&-\А при нек-рой естеств. формализации теории. Суждения (формулы) вида А&-\А необходимо ложны. В формализованной дедуктивной теории, в к-рой обнаружено П., теряется возможность различения истины и лжи, т. к. в ней становится выводимым любое — как истинное, так и ложное суждение (записанное на ее языке и осмысленное в ней); в содержательных рассуждениях обнаружение в них П. означает или ложность к.-л. из их посылок (быть может и той, к-рая не сформулирована явно), или ошибочность хода рассуждения. В логике начиная с античности формулируется принцип запрещения П. (см. Противоречия закон); вывод П. допускается лишь для вспомогательных рассуждений, предусмотренных т. н. косвенными правилами вывода, в частности в доказательствах от противного. См. также Непротиворечивость, Совместимость и лит. при этих статьях.
ПРОТИВОРЕЧИЯ ЗАКОН — 1) Один из осн. принципов логич. рассуждения, согласно к-рому никакое предложение не может быть одновременно истинным и ложным (или: не могут быть одновременно истинными нек-рое предложение и его отрицание).
2) Тождественно-истинная (см. Логическая истин
ность) (или доказуемая) формула вида -\( A &~ iA ),
где п — знак отрицания, & — знак конъюнкции.
3) Принцип, требующий, чтобы всякое, имеющее цен
ность исчисление было бы внутренне непротиворечи
вым (см. Непротиворечивость, Противоречие в ло
гике.)
Формулировка П. з. восходит к софистам. Аристотель формулирует П. з. прежде всего как закон, к-рый имеете...силу для всего существующего, а не специального для одного какого-нибудь рода...» (Met. IV, 3 1005 а 23—24; рус. пер., М., 1934). Такому «онтологическому» пониманию П. з. соответствует и др. его формулировка: «Невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же и в одном и том же смысле (пусть будут здесь также присоединены все оговорки, какие только мы могли бы присоединить, во избежание словесных затруднений)...» (там же, 1005 в 19—22). Однако у Аристотеля имеется и неонтологическая, чисто логич. формулировка П. з.: всякий человек должен согласиться, «...что в свои слова он, во всяком случае, вкладывает какое-нибудь значение — и для себя и для другого; это ведь необходимо, если только он высказывает что-нибудь, так как иначе такой человек не может рассуждать ни сам с собой, ни с кем-либо другим...» (там же, IV, 4 1006 а 11). И далее: «... слово... имеет то или другое значение и при этом только одно» (там же, 1006 в 11). Т. о., П. з. выступает у него и как металогич. принцип, согласно к-рому не может быть истинной самопротиворечивая мысль, и как онтологич. принцип, согласно к-рому противоречия в бытии, в познаваемом невозможны.
П. з. может формулироваться как для высказываний, так и для предикатов, как на семантическом, так и на синтаксическом уровне; формулировки П. з. модифицируются в связи с особенностями рассматриваемых логич. систем. В наиболее известной формулировке этого закона: одно и то же высказывание не может быть одновременно истинным и ложным (см. Лейбниц, Новые опыты, М. —Л., 1936, с. 31), фактически указывается на тесную связь П. з. с принципом адекватности (истинности): высказывание истинно, если оно соответствует действительности, и ложно, если не соответствует (см. A. Tarski, Der Wahrheitsbegriff in den forma-lisierten Sprachen, «Studia philosophica», 1935, № 1). Если «приниматься» может только истинное, а ложное должно отбрасываться, то одновременное принятие и отбрасывание нек-рого высказывания несовместимо с принципом адекватности. Если в процессе рассуждения приходят к противоречию, то это свидетельствует или l) об ошибке в рассуждении, или 2) о несовместимости (совместной неадекватности) принимаемых посылок, или 3) о неправильности самой логики, самой системы мышления, в рамках к-рой проводится рассуждение. О последней ситуации говорят как об антиномической, или парадоксальной (см. Парадокс).
Вместе с принципом исключенного третьего П. з., в последней из приведенных выше формулировок, приводит к принципу двузначности, называемому также принципом Хрисиппа: высказывание либо истинно, либо ложно, но не то и другое вместе. Для многозначных логик П. з. обобщается следующим образом: одно и то же высказывание не может иметь двух различных истинностных значений.
В рамках силлогистики П. з. формулируется след, образом: два контрарные (см. Контрарное отношение) или контрадикторные (см. Контрадикторное отношение) суждения не могут быть одновременно истинными. По существу, в эту формулировку включается П. з. как «металогического», так и «онтологического» уровней.
В классическом и конструктивном исчислениях предикатов (см. Предикатов исчисление) доказуема формула вида -\\ jx ( A ( x )&- iA ( x )), также называемая П. з. Этой формуле соответствует принцип: одна и та же вещь не может обладать нек-рым св-вом и в то же время не обладать им (аналогично для отношений). Именно в такой формулировке П. з. был, по существу,
410 ПРОТОКОЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — ПРУДОН
 известен Канту (см. также приведенную выше аристотелевскую «онтологическую» формулировку П. з.). Нек-рые логики (напр^, Васильев) предпринимали попытки построения систем логики, отказываясь от ■«онтологического» П. з. Мыслимы системы логики, удовлетворяющие П. з. на «металогическом» уровне, но в к-рых формула i ( A &-\ A ) не будет доказуемой.
известен Канту (см. также приведенную выше аристотелевскую «онтологическую» формулировку П. з.). Нек-рые логики (напр^, Васильев) предпринимали попытки построения систем логики, отказываясь от ■«онтологического» П. з. Мыслимы системы логики, удовлетворяющие П. з. на «металогическом» уровне, но в к-рых формула i ( A &-\ A ) не будет доказуемой.
П. з. следует четко отличать от закона единства и борьбы противоположностей диалектики. Последний говорит об объективных противоположностях, имеющих место в природе, обществе и исторически развивающемся человеческом познании, тогда как П. з. утверждает, что необходимым (но не достаточным) условием адекватности, истинности знания является его логич. непротиворечивость. На необходимость соблюдения логич. непротиворечивости в любом исследовании обращал внимание В. И. Ленин: «„Логической противоречивости",— при условии, конечно, правильного логического мышления—не должно быть нив экономическом, н и в политическом анализе». Всякий анализ «...не допускает „логической противоречивости"...» (Соч., т. 23, с. 29). См. также Совместимость, Метатеория, Мышления законы и лит. при этих ■статьях.
Лит.: Васильев Н. А., Логика и металотика, «Логос»,
1912—13, кн. 1—2; Колмогоров А. Н., О принципе ter-
tium поп datur, в сб.: Мат. сб., 1925, т. 32, вып. 4; Ч ё р ч А.,
Введение в математическую логику, пер. с англ., т. 1, М.,
1960, с. 101—02; Котарбиньский Т.. Избр. произв.,
пер. спольск., М., 1963,с. 554—56. В. Смирпов. Москва.
ПРОТОКОЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (нем. Proto-kollsatze) — название, введенное представителями логического позитивизма для предложений, содержание к-рых основывается исключительно на непосредств. наблюдениях материальных вещей или физич. фактов. Учение о П. п. было тесно связано с разработкой физикализма. П. п. имеют следующую форму: «N. N. наблюдал такой-то и такой-то объект в такое-то время и в таком-то месте». Стремясь построить замкнутую дедуктивную модель человеч. познания, логич. позитивисты считали, что процесс получения знания состоит из двух осн. этапов — фиксирования протоколов (причем «исходных», не содержащих никаких общих понятий, теоретич. соображений и т. д.) и их обработки с помощью теоретич. аппарата науки. Исходя из такой упрощенной модели, считалось, что в основе всех осмысл. предложений лежат исходные протоколы, истинность к-рых основывалась на простом соответствии их содержания с данными наблюдения, т. е. П. п. рассматривались как абсолютно неопровержимые, не нуждающиеся в проверке, служащие основой для всех др. предложений науки. Такое понимание П. п. влекло за собой и определенное понимание процесса проверяемости как гипоте-тико-дедуктивного процесса (см. Логика индуктивная). Учение о П. п., с одной стороны, представляет историч. этап в формировании общегносеологич. концепции логич. позитивизма; с др. стороны, его положительные, науч. моменты находят свое дальнейшее конкретное проявление в исследовании логической и гносеологич. структуры высказываний, в к-рых выражаются результаты познания внешнего мира (см. Диспозиционалъный предикат, Номологические высказывания, Контр фактические предложения, ст. Карнап, Нейрат, Поппер).
Лит.: X и л л Т. И., Совр. теории познания, пер. с англ.,
М., 1965, с. 367, 403, 419—20; «Erkenntnis», 1932—34 (статьи
R. Carnap and О. Neurath); Protokollaussage, в кн.: Philoso-
phisches Worterbuch, Lpz., 1965. И. Добронравов. Москва.
ПРОХАСКА, Прохазка (Prochaska, Prochazka), Йиржи (10 апр. 1749—17 июля 1820) — чеш. врач, анатом, физиолог и мыслитель. Проф. медицинского фак-та Пражского и Венского ун-тов.
П. принадлежит важное место в истории развития материалистич. теории психики нового времени. Хотя
в трактовке физиологич. механизмов рефлекторной деятельности центр, нервной системы П. следовал общим механистич. принципам исследования рефлекса, поскольку лишь они обусловливали научно-экспе-римент. подход, однако он по-новому поставил проблему биологич. значения рефлекторной деятельности. В первый период деятельности (в «Трактате о функциях нервной системы», Praha, 1784, рус. пер., [Л.], 1957) П. дал классическое описание рефлекса (см. указанное сочинение, с. 91—98), исходя из к-рого он позднее определил головной и спинной мозг как область переключения афферентных импульсов на эфферентные. В связи с новой, биологич. трактовкой детерминации нервной деятельности П. отказался от картезианской концепции рефлекса как физич. действия. Он рассматривал работу нервной системы как осуществление свойственного живым организмам биологич. «чувства самосохранения» — сохранения полезных и избегания вредных раздражений. Т. о., принципом трактовки организма П. считал не механич. движение, а активное приспособление к среде. С этой т. зр. П. рассматривал и вопрос о качеств, специфике нервной деятельности, к-рую П. обозначил как «нервную силу» по аналогии с ньютоновым понятием силы.
В более поздних работах (см. «Наставление естест-вословия человеческого...», v. 1—2, W., 1797, рус. пер., ч. 1—2, СПБ, 1809—10; «Физиология, или Наука о естестве человеческом», W., 1820; рус. пер., СПБ, 1822, и др.) П. распространил рефлекторный принцип на всю центр, нервную систему. Исходя из такой постановки проблемы, П. пришел к идее эволюц. развития нервной системы как следствия биологич. развития организмов. П. объяснял жизнь и ее явления как химико-органич. процесс, как вечный круговорот зарождения и исчезновения, организации и дезорганизации («Versuch einer empirischen Darstellung des polarischen Naturgesetzes...», W., 1815). При этом психич. процессы выступали в его концепции как формы причинного отношения организма к среде.
Лит.: ЯрошевскийМ. Г., Проблема детерминизма в психофизиологии XIX в., Душанбе; 1961, с. 48—61; К г и-t а V., Med. dr. Jifl Prochazka. 1749—1820. Zivot. Dllo. Doba, Praha, 1956; Cerny J., Jifl Prochazka a dialektika v nemecke pfirodm fllosofii, Praha, 1960.
__ M . Туровский. Москва, И. Черный. ЧССР.
ПРОЭРЕСИИ (П а р у й р) — арм. ритор, философ-софист, живший в сер. 4 в. в Греции, современник и учитель Юлиана Отступника, глава филос. школы неоплатонизма в Афинах, автор ряда риторич. и филос. произв., к-рые, однако, до нас не дошли.
Лит.: Ч а л о я н В. К., История арм. философии, Ереван, 1959, с. 36; Eunapii vitae philosophorum et sophistarum, ed. F. Bolssonade, P., 1878, p. 485—93.
ПРУДОН (Proudhon), Пьер Жозеф (15 янв. 1809 — 19 янв. 1865)—франц. мелкобурж. социалист, теоретик анархизма. Осн. экономич. и мелкобурж. реформаторские социально-политич. идеи П. (к-рому в 1844— 1845 безуспешно пытался помочь стать революц. коммунистом Маркс) сформировались в последние годы Июльской монархии. Они сводились к объяснению ка-питалистич.эксплуатации труда существующимвбурж. обществе неэквивалентным обменом, нарушающим закон трудовой стоимости и ведущим к ограблению денежными капиталистами всех трудящихся классов, в т. ч. «трудящейся» буржуазии. Поэтому для уничтожения классовой эксплуатации необходимо, по П., произвести реформу обращения, организовать безденежный обмен товаров и беспроцентный кредит, сохранив частную собственность на средства произ-ва. Такая реформа привела бы, по мнению П., к преобразованию капиталистич. общества в строй равенства, превратив всех людей в непосредств. работников, обменивающихся равными количествами труда. Т. о., преобразование общества осуществится, по П., мирным
ПРУДОН 411
 путем, на основе сотрудничества пролетариата и почти всей буржуазии, при условии отказа от политпч. борьбы, являющейся, по мнению П., важнейшим источником обострения классовых противоречий и уничтожения гос-ва как гл. орудия угнетения, раскола общества и паразитизма.
путем, на основе сотрудничества пролетариата и почти всей буржуазии, при условии отказа от политпч. борьбы, являющейся, по мнению П., важнейшим источником обострения классовых противоречий и уничтожения гос-ва как гл. орудия угнетения, раскола общества и паразитизма.
|
|
На этих идеях П. строил в 1845—47 проект «прогрессивной ассоциации», объединяющей на принципах «мютюэлизма» (взаимопомощи) ремесленников, торговцев, рабочих и владельцев мелких предприятий для «эквивалентного обмена». Теоретич. обоснованию реформаторства П. служила его «Система эконо-мич. противоречий, или Философия нищеты» («Systeme des contradictions economiques, ou Philosophie de la misere»,t. 1 — 2, P., 1846). Науч. несостоятельность и реакционность теоретич. и политич. идей этого соч. П. блестяще показал Маркс в своем ответном произведении «Нищета философии» (1847, см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд.,т. 4, с. 65—185). В дальнейшем социально-политич. взгляды П. претерпевали весьма противоречивую эволюцию, в процессе к-рой он колебался между нападками на реакцию и критикой демо-кратич. лагеря, но неизбежно оставался на своей позиции «мютюэлизма», отвлечения рабочего класса от политич. борьбы.
Идеи П. отразили двойств, положение и двойств, тенденции мелкой буржуазии во Франции в условиях промышленного переворота: с одной стороны, ее протест против разорения и гнета крупного капитала и бурж. гос-ва, с другой — ее стремление сохранить мелкую собственность и пойти назад, к мелкобуржуазному «маленькому капитализму» (см. Ленинский сб. XXII, 1933, с. 141). Эти идеи П. показывали принципиальную общность прудонизма с бурж. социализмом, сущность к-рого «...как раз и заключается в желании сохранить основу всех бедствий современного (капиталистического.— Н. 3.) общества, устранив в то же время эти бедствия» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 18, с. 230; ср. Ленин В. И., Соч., т. 20, с. 17). Закономерно поэтому в «Коммунистическом Манифесте» отнесение П. к создателям систем «буржуазного социализма» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 4, с. 454).
Ф и л о с. и д е и П. противоречивы. Хотя П. нападал на религию и церковь, что было, по словам Маркса, «...большой заслугой в условиях Франции в то время, когда французские социалисты считали уместным видеть в религиозности знак своего превосходства над буржуазным вольтерианством XVIII века и немецким безбожием XIX века» (там же, т. 16, с. 30), в целом П. был идеалистом и эклектиком. Не без влияния платоновской концепции первичности мира идей П. пытался построить свое учение об идеях «уравнения», «справедливости», «равновесия сил» как «общем, первичном и категорическом законе» бытия, получающем во всяком человеч. обществе выражение «закона справедливости». Эта идеалистич. основа воззрений П. впитала в себя разнообразные влияния бурж. философии, политич. экономии и уто-пич. социализма. Из философии Канта почерпнул П. представления об антиномиях, в к-рых.П. усматривал сущность диалектич. противоречий. На формирование представлений П. о диалектике развития оказывало также влияние учение Фурье о «сериальном законе» как воплощении равновесия и гармонии противоречивых сил, а на выработку анархич. идей П.
повлияла фурьеристская критика политич. борьбы и фальши бурж. цивилизации, критика свободной конкуренции и порождаемой ею монополии. В формировании взглядов П. играли роль экономизм и признание важнейшего реформаторского значения банков и кредита, свойственные сен-симонизму. В контовском позитивизме П. заимствовал идеалистич. схему обществ, прогресса по стадиям религии, философии и науки, а также агностицизм.
Материалистич. догадки и положения, встречающиеся в работах П., могут быть правильно поняты в свете его теории плюрализма, близкого позитивизму Копта. Против монизма П. выдвигал утверждение, что «моральный мир, как и физический мир, покоится на множественности несводимых и антагонистических элементов; из противоречивых этих элементов и проистекает жизнь и движение вселенной» («Theorie de la propriete», P., 1866, p. 213). Этот принципиальный эклектизм, исходивший из дуализма материи и сознания, позволял прудоновской «синтетической философии» совместить в себе такие противоречивые положения, как «антитеизм», отвергающий религию и провозглашающий «Бог — это зло», и признание трансцендентного начала в природе п обществе; субъективизм волюнтаристич. построений и утверждение фатальности процесса развития, телеологич. провиденциализм. П. пытался примирить эти противоречивые положения с помощью растеологизированной, но по-прежнему мистической идеи абсолютного разума, управляющего миром и осуществляющего «вечные законы справедливости». Эти идеалы «вечной справедливости» П. черпал, как показал Маркс, «... из юридических отношений, соответствующих товарному производству...» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 94, прим.). Соответственно этому «социальная наука», к-руюП. провозглашал в противовес социалистич. «утопизму», истолковывалась им как «борьба за справедливость».
Движущей силой развития общества П. считал противоречия, порождаемые колебаниями между требованиями индивидуального и общего разума и сводящиеся в конечном счете к антиномии между личностью и обществом. Эта антиномия определяет, по мнению П., универсальный закон «колебаний» в экономике, политике и идеологии, в силу чего историч. процесс совершается в форме «движения маятника». Закон этот нельзя уничтожить, но можно ограничить, введя развитие общества в эволюц. русло путем постепенной реализации прав «автономной личности», к-рые П. считал истинным критерием обществ, прогресса.
Представление о диалектике П. расширил поверхностным знакомством с философией Гегеля, почерпнутым из нем. левого гегельянства, от Бакунина и Маркса, к-рый в 1844 пытался помочь П. усвоить «рациональное зерно» гегелевской диалектики. Как отметил Маркс, «Прудон по натуре был склонен к диалектике» (там же, т. 16, с. 31). Однако П. усвоил лишь внешнюю сторону теории диалектич. противоречия, сведя его к сфере «триады» и догматич. различению «хороших» и «дурных» сторон тезиса и антитезиса в целях отыскания такой синтетич. формулы, к-рая уничтожила бы «дурные» и объединила бы «хорошие» стороны. Подобная имитация диалектики построением априорных категорий, не отражающих действительных противоречий объективного мира, делала пру-доновскую «диалектику» попыткой примирения противоречий путем их уравновешивания. П. в конце концов признал эту скрытую сущность своей «диалектики», когда в дальнейшем пришел к выводу о невозможности «синтеза» противоречий. «Антиномия не разрешима, в этом основной порок всей гегелевской философии. Два образующие ее члена уравновешиваются либо между собой, либо с другими антиноми-
412
ПРУДОН
 ческими членами, что приводит к искомому результату. Равновесие вовсе не является синтезом, как это подразумевал Гегель и как предполагал я после него» («De la justice...», P., 1931, t : 2, p. 155). Построение бурж.-реформистских утопий вполне объясняет этот итоговый вывод прудоновской «диалектики».
ческими членами, что приводит к искомому результату. Равновесие вовсе не является синтезом, как это подразумевал Гегель и как предполагал я после него» («De la justice...», P., 1931, t : 2, p. 155). Построение бурж.-реформистских утопий вполне объясняет этот итоговый вывод прудоновской «диалектики».
В теории гос-ва, изложенной в кн. «Исповедь революционера» («Les confessions d'un revolutionnaire», P., 1849) и «Общая идея революции XIX века...» («Idee generate de la revolution aux XIX siecle...», P., 1851; две последние работы изложены и частично процитированы в кн.: Дж. Гильом, Анархия по Прудону, ч. 1—2, К., 1907), П. выступил как анархист, выдвинувший план «социальной ликвидации»— замены государства договорными отношениями между индивидуумами, общинами и группами производителей, сотрудничающими в эквивалентном обмене. В более позднем соч. «О федеративном принципе» («Du principe federatif et de la necessite de reconsti-tuer le parti de la revolution», P., 1863) П. заменил лозунг «ликвидации государства» планом раздробления совр. централизованного гос-ва на мелкие автономные области, а в соч. «Война и мир» («La guerre et la paix», t. 1—2, P., 1861) выступил с апологией войны как «источника права».
Ретроградными были и моральные постулаты теории П. («О справедливости в революции и церкви» — «De la justice dans la revolution et dans l'eglise», t. 1—3, P., 1858), на к-рые П. переносил в годы Второй империи центр тяжести аргументации своей концепции обществ, преобразования (проблемы «свободы», «достоинства» и «морального совершенствования» личности). Эта ретроградность особенно отчетливо обнаруживалась в его трактовке вопросов брака и семьи. П. решал эти вопросы в самом реакционном, домостроевском духе, отводя женщине роль покорной жены и домашней хозяйки, и настаивал на недопущении ее к участию в обществ, жизни и производств, деятельности.
В 19 в. во Франции и нек-рых др. странах с мелко-бурж. составом населения и значительной мелко-бурж. прослойкой в рабочем классе учение П.— прудонизм — получил распространение. Этому способствовало то, что реакц. сущность прудонистских идей прикрывалась псевдореволюц. фразеологией (в критике бурж. государства и крупной собственности).
Под руководством правоверных прудонистов оказались на первых порах франц. секции 1-го Интернационала. Решит, борьба против них Маркса, Энгельса и их сторонников закончилась полной победой марксизма над прудонизмом. Эту победу закрепил опыт Парижской Коммуны, к-рый до конца раскрыл порочность и вред прудонизма, давший себя знать во мн. ошибках и слабостях Коммуны, и заставил участвовавших в ней прудонистов делать «...как раз обратное тому, что им предписывала доктрина их школы» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 22, с. 198). В дальнейшем прудонистские идеи сохранялись в бакунистском анархизме, а после краха последнего использовались различными течениями «мирного» анархизма, а также анархо-синдикализма. Теоретики последнего заимствовали у прудонизма бурж.-анархистские идеи, отрицат. отношение к гос-ву, политич. борьбе и др. Ряд идей П. вошел в арсенал бурж. теорий «солидаризма», «радикал-социализма» и тому подобных проповедей
сотрудничества классов. Н. Застенкер. Москва.
Распространение идей П. в Рос-с и и объяснялось тем, что в стране социальной базой обществ, движения было крестьянство, отражавшее мелкобурж. тенденции экономич. развития. Произведения П. изучались в кружке Летрашевского.
По словам участника кружка, «Прудона и хвалили и бранили, находя в нем недостатки». Петрашевский, прочитав «Философию нищеты», подверг критике воззрения П. о капитале и его значении в социальном: преобразовании. Участник кружка П. Ястжембский не соглашался с анархистскими взглядами П. Петрашевцы с интересом встретили идеи П. о производительных ассоциациях (см. «Дело петрашевцев», т. 1, 1937, с. 514; т. 2, 1941, с. 212; т. 3, 1951, с. 71, 114). В конце 40-х гг. 19 в. мальтузианские идеи П. были развенчаны В. А. Милютиным («Мальтус и его противники», см. Избр. произв., М., 1946) и Салтыковым-Щедриным (повести «Противоречия» и «Запутанное дело», см. Поли. собр. соч., т. 1, М., 1941). Можно-предположить, что критика взглядов П. происходила под влиянием книги К. Маркса «Нищета философии». В 1860 Чернышевский в статье «Антропологический принцип в философии» отмечал, что сильные стороны филос. взглядов П. являются результатом влияния Гегеля, слабые — в значит, мере были предопределены незнанием материализма Фейербаха (см. Поли. собр. соч., т. 7,1950, с. 237—38). Оценка взглядов П. нашла место в «Колоколе». Л. Мечников упрекал П. за его «неблагосклонные отзывы» о польском: восстании 1863 (см. «Колокол», 1864, № 185, с. 1520). В 1866 он же поместил ряд статей о новой теории собственности П. («Колокол», 1866, №№ 218, 219, 221, 225, 226). Герцен, хотя и критиковал отдельные положения П., все же долгое время находился под его» влиянием. В 1867 Ткачев в рецензии на книгу П. «Французская демократия» увидел в ее авторе, несмотря на революц. фразеологию, представителя бурж. экономич. науки, защитника бурж. строя.
Эклектич. взгляды П. позволяли рус. интеллигенции делать из них и реформистские и революц. выводы. Реакц. интеллигенция поддерживала идеи П. по* вопросам семьи и брака, солидаризировалась с ним в отрицат. отношении к польскому восстанию.
Михайловский, критикуя П. за признание необходимости частной собственности, соглашался с ним в вопросе об «идее личности». Следуя за П., он допускал, как и Берви-Флеровский, возможность мирного сотрудничества классов. В 1860—70 в России делались попытки организовать производительные ассоциации (Ишутинская организация, ассоциация Христо-форова в Саратове и др.), распространялись идеи о введении беспроцентного кредита, о равномерном распределении собственности. В нелегальной книге* «Историческое развитие Интернационала» (1873) провозглашалась мысль П. о целесообразности непосредственного обмена продуктов между производителем и потребителем, отрицалась возможность введения среди крестьянства коллективной собственности на землю.
Нек-рые идеи П. распространялись среди участников революционно-демократич. движения 1870-х гг. («чайковцы», черниговские народники), особенно его антигос. теория (см. «Революционное народничество 70-х годов XIX века», 1964, с. 140). Созвучны воззрениям участников «хождения в народ» были-рассуждения П. о всеобщем равенстве, о важности связи с нар. средой, о необходимости обращения к нар. разуму (см., напр., слова П. из произведения-«Что такое собственность?», помещенные в популярной книге И. В. Соколова «Отщепенцы», [Цюрих],, 1872, с. 212). Мирная антигос. анархич. проповедь. П. подготовила почву для восприятия в России идей Бакунина, превратившего реформистские взгляды: своего учителя в бунтарскую теорию революции. Бакунисты заявляли в 1874, что, в противоположность П., они хотят «...революции посредством масс, без и против государства» («Анархия по Прудону», К., 1907, с. 78—79). Следы прудонизма содержались
ПРУДОН — ПСИХЕЯ 413
 в документах «Народной воли», где провозглашалась местная автономия и федерация, утверждалось, что при устранении гос-ва откроется свободная деятельность для народа («Литература партии „Народная воля"», М., 1930, [с. 25—26]). В программе рабочих членов партии «Народной воли» говорилось, что «продукты общего труда должны делиться... между всеми работниками», для поддержки общин «учреждается русский государственный банк с отделениями в разных местах России».
в документах «Народной воли», где провозглашалась местная автономия и федерация, утверждалось, что при устранении гос-ва откроется свободная деятельность для народа («Литература партии „Народная воля"», М., 1930, [с. 25—26]). В программе рабочих членов партии «Народной воли» говорилось, что «продукты общего труда должны делиться... между всеми работниками», для поддержки общин «учреждается русский государственный банк с отделениями в разных местах России».
Взгляды П. оказали нек-рое влияние на творчество Л. Н. Толстого. Антидемократич. идеи П. и его выступления против польского освободит, движения иногда подхватывали славянофилы и панслависты.
Б. Итенберг. Москва.
Ревизионисты, начиная с Бернштейна, пытались воскресить в европ. с.-д. движении прудонистский реформизм, облекая его в псевдомарксистские одежды. Утонченную форму этих попыток представляли центристские идеи Каутского, противопоставившего импе-риалистич. агрессивному капитализму мелкобурж. утопию «мирного»,«здорового» капитализма, что Ленин охарактеризовал, как «новый прудонизм» (см. Соч., т. 39, с. 91, 172). Сильное влияние оказывает прудонизм и на совр. ревизионизм, что подтверждает слова Ленина о том, что «...европейский реформист и оппортунист. .., когда хочет быть последовательным, неизбежно, договаривается до прудонизма» (там же, т. 6, с. 395). В то же время прудоновская критика демократии, партийной системы и классовой борьбы сделалась источником вдохновения для ряда идеологов империалистич. реакции, фашизма и необонапартизма в Италии, Германии, Франции, Испании и странах Лат. Америки. Характерны в этом плане и повышенный интерес к идеям П. представителей совр. реакц. философии персонализма, равно как идеологов «человеческих отношений», «патернализма», и стремление иек-рых католич. и лютеранских теологов «примирить» его идеи с религией и церковью.
Соч.: Oeuvres completes, t. 1—26, P.— Brux., 1867—70; Oeuvres completes, nouv. ей ., sous la dir. de C.Bougle et H.Moys-set, [t. 1—15], P., 1923—59 (изд. продолжается); Correspondence, v. 1—14,P.,1875; Memoires sur ma vie, «Revue Soclaliste», 1904, v. 40; Lettres inedites a Gustave Chaudey et a divers com-tois, Besamon, 1911 (совм. с Ё. Droz); Lettres au citoyen Holland, P., [1946]; Carnets, v. 1—2, P., 1960—61; в рус. пер.— Война и мир, т. 1—2, М., 1864; Искусство, его основания и общественное значение, пер. под ред. Н. Курочкина, СПБ, 1865; пер. А. П. Федорова, СПБ, 1895; Литературные майораты, П., 1865; Франц. демократия (De la capacite politique des classes ouvrieres), пер. под ред. Н. Михайловского, СПБ, 1867; История конституционного движения в XIX столетии, СПБ, 1871 (Франц. конституции XIX столетия и Наполеон III, ч. 1); Порнократия, или Женщины в настоящее время, М., 1876; Бедность как экономич. принцип, М., 1908; Что такое собственность?, пер. Е. и И. Леонтьевых, [2 изд.], М., 1919.
Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 2, с. 20—59; т. 13, с. 49—167; т. 18, с. 203—84, 296—301; т. 27, с. 401 —12; Энгельс Ф., О Прудоне, в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 10, [Л.— М.], 1948; Мечников Л. И., Прудонова «Новая теория собственности», «Колокол», 1866, вып. 9, лист 218, 219, 221, 225, 226; факсимильное изд., М., 1964; его же, «Весть» о П., там же, лист 230; Жуковский Ю., П. и Луи Блан, СПБ, 1866; Д - е в, П. Ж. IIpvflOH, «Вести. Европы», 1875, март, май, июль — декабрь; его же, Последние десять лет жизни П. Ж. Прудона, там же, 1878, июнь — сентябрь; Туган-Барановский М. И,, П. Ж. П., его жизнь и обществ, деятельность, СПБ, 1891; Михайловский Н. К., П. и Белинский, в кн.: Белинский В. Г., Соч., т. 4, СПБ, 1896; Плеханов Г. В., Анархизм и социализм, Соч., 2 изд., т. 4, М., [б. г.]; С т е к л о в Ю. М., П., отец анархии (1809 — 1865), П., 1918; Горев Б., Роль П. в истории рус. мелкобуржуазного социализма, «Красная новь», 1935, кн. 1, янв.; Розен-б е р г Д., История политич. экономии, ч. 3, М., 1936; Герцен А. И., Былое и думы, ч. 5, гл. 16, Соб. соч., т. 10, М.,
1 956; 3 а с т е н к с р Н. Е., П. и бонапартистский переворот
2 дек. 1851, «Ист. журнал», 1944, N° 10—11; его ж е, Об
оценке П. и прудонизма в «Коммунистическом манифесте»,
в сб.: Из истории социально-политич. идей, М., 1955; его
я; е, П. и февральская революция 1848 г., Французский
Ежегодник 1960, М., 1961; К а н С. Б., История социалистич.
идей, М., 1963, с. 223—30; У с а к и н а Т. И., М. Е. Салты
ков—критик П., в кн.: Из истории обществ, мысли и обществ.
движения в России, [Саратов], 1964; D i e h 1 К., P. J. Prou-dhon. Seine Lehre und sein Leben, Abt. 1—3, Jena, 1888—96; Desjardins A., P.-J. Proudhon. Sa vie, ses oeuvres, sa doctrine, v. 1—2, P., 1896; Rappoport Ch., P. J. Proudhon et le socialisme scientifique, P., [1909]; Bougie C, La socio-logie de Proudhon, P., 1911; Nettlau M., Der Vorfrilhling der Anarchie, В., 1925; L a b г у R., Herzen et Proudhon, P., 1928; A la lumiere du marxisme, t. 2, P., 1937; L u b а с Н. de, Proudhon et le christianisme, P., 1945; G u y-G rand G., Pour connaitre la pensee de Proudhon, [Dole], 1947; H a u p t-mann P., Marx et Proudhon, Liege, 1947; Cogniot G., Le centenaire de «Philosophie de la Misere», «La Pensee», 1946, № 9; 1947, № 10; e г о ж e, Proudhon et la revolution de 1848, «Cahiers du Communisme», 1948, N» 6; D о 1 1 ё a n s E. et Puech J. L., Proudhon et la revolution de 1848, P., 1948; H a 1 ё v у D., La vie de Proudhon. 1809—1847, P., 1948; R 1 с h-t er W., Proudhon's Bedeutung fur die Gegenwart, в сб.: Ab-handlungen zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsso-ziologie und eine Studie iiber Proudhon, Bremen, [1951]; G u r-v i t с h G., Les fondateurs franfais de la sociologie contem-poraine, fasc. 2—Proudhon P. J,—sociologie, P., 1955; H e i n t z P., Die Autoritatsproblematik bei Proudhon, [Koln, 1956]; Woodcock G., P.-J. Proudhon, N. Y., [1956].
H . Застенкер. Москва.
ПРУСТ (Proust), Марсель (10. VII . 1871—18. XI . 1922) — франц. писатель и мыслитель. Филос.-эсте-тич. взгляды П., нашедшие отражение в его осн. произведении — романе «В поисках утраченного времени» («A la recherche du temps perdu», v. 1 —15, P., 1913—27, последние 6 тт. посмертно; nouv. ed., v. 1—3, P., 1955—56; рус. пер., т. 1—4, Л., 1934—38), отмечены сильным влиянием интуитивизма и отчасти совпадают с учением Бергсона. П. идеалистически противопоставлял иск-во обществ, практике людей, художеств, отображение действительности — науч. познанию и видел цель творчества в преодолении «практического», «условного» видения. Согласно П., представления человека о мире, обществе и самом себе недостоверны и только интуитивные восприятия позволяют постичь внутр. сущность явлений, являются основой произведения иск-ва (в романе П. акцентирует внимание на явлениях субъективного восприятия пространства и времени и особенно непроизвольной памяти). Убеждение в субъективности всякого знания является источником глубочайшего пессимизма П. и приводит его к выводу о «нереальности» обществ, жизни, о «невозможности» любви и человеч. взаимопонимания, к представлению о человеч. существовании как об «утраченном времени». Только иск-во, согласно П., освобождает человека из-под власти относительности и приводит к слиянию с вечностью. Эта метафизич. концепция иск-ва получила дальнейшее развитие у А. Малъро. П. предвосхитил ряд мировоззренч. установок франц. писателей-экзистенциалистов, в особенности их антиномию существования и сущности.
С оч.: Собр. соч., т. 1—4, Л., 1934—38 [вступ. ст. А. В. Луначарского в т. 1; Н. Я. Рыковой в т. 3].
Лит.: Потапова 3. М., М. П., в кн.: История франц. лит-ры, т. 4, М., 1963; Т о л м а ч е в М. В., М. П. «В поисках утраченного времени», «ВИМК», 1961, № 6 (30); его же, Эстетика М. П., «Уч. зап. Моск. пед. ин-та им. В. И. Ленина», 1964, № 218; С u r t i и s E. R., Marcel Proust, P., 1928; A b-r a h a m P., Proust, P., 1930; В r 1 n с о и r t A. et В г i n-court J., Les oeuvres et les lumieres. A la recherche de 1'es-thetique a travers Bergson, Proust, Malraux, P., [1955]; P i-c on G., Lecture de Proust, P., 1963. M . Толмачев. Москва.
ПСЕЛЛ, М.— см. Михаил Пселл.
ПСИХЕЯ (от греч. гЬиХ'/] — душа, жизнь) — в греч. мифологии олицетворение жизни. П. изображалась в виде девушки. В различных вариантах миф о П. известен у мн. народов. Со времен Апулея («Золотой осел») тема любви П. и Эрота (Амура) широко использовалась в мировой лит-ре.
Корни мифов о П. уходят в глубокую древность. По первобытным представлениям, нек-рое лично-социальное начало (связанное с именем сосредоточение социальных и трудовых обязанностей) проходит цикл превращений: рождение—посвящение—смерть— рождение и т. д. Будучи важнейшим звеном цикла, рождение связывалось с участием женщины, которая
414
ПСИХЕЯ — ПСИХИКА
 возвращает лично-социальное начало из мира теней в мир живых (см., напр., Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, М., 1930, с. 204—44). Трактовка личного имени как комплекса социальных и трудовых обязанностей несла в зародыше представления о метемпсихозе (переселении душ), воспоминании (обряды посвящения) и др. идеи, использованные впоследствии философией. Появление мифа о П. следует, вероятно, отнести к периоду ослабления т. н. «парти-ципации», когда коллективные представления подкреплялись внешними аналогиями — мифами (см. там же, с. 307 и след.).
возвращает лично-социальное начало из мира теней в мир живых (см., напр., Л. Леви-Брюль, Первобытное мышление, М., 1930, с. 204—44). Трактовка личного имени как комплекса социальных и трудовых обязанностей несла в зародыше представления о метемпсихозе (переселении душ), воспоминании (обряды посвящения) и др. идеи, использованные впоследствии философией. Появление мифа о П. следует, вероятно, отнести к периоду ослабления т. н. «парти-ципации», когда коллективные представления подкреплялись внешними аналогиями — мифами (см. там же, с. 307 и след.).
Отталкиваясь от проблематики мифа и используя не только греч. мифологию, начинающая философия понимает под П. совокупность разнородных по происхождению представлений: стороны исходных противоположностей, особый тип причинных связей, управляющее личное начало и т. п. Вместе с тем исходная общность проблематики сохраняется весьма долго. В ранней философии П.— жизненное, а не познающее начало, она понимается в широком биологич. смысле. Эпихарм, напр., говорит: «курица не родит цыплят, а высиживает яйца, создавая этим способом психею» (Diog. L.III 16, Diels9).
Положение категории П. в конкретных системах во многом определялось переориентацией философии с проблем возникновения (милетская школа) на проблемы бытия (элейская школа, Гераклит). При этом диалектич. мотивы мифа (первичное единство — раздор — соединение разделенного с помощью Эрота в супружескую пару) были переработаны в более абстрактную схему: первичное единство — выделение противоположностей (сухое — влажное, теплое — холодное) — соединение противоположностей через влагу, метеорологии, явления (см. F. M. Cornford, Prin-cipium sapientiae, Camb., 1952, p. 189 и далее). Ос-мысляясь в пределах этой схемы, П. конкретизируется в понятие животворящего семени, а позднее в руководящее, регулирующее поведение человека начало. Условием существования (или происхождения) П. оказывается влага, туман, воздух в функции Эрота. Уже орфики рассматривали П. как нечто «вдуваемое ветрами» (Arist., De an. 410 Ь) во все сущее, в т. ч. ив ночь — начало всего (Aristoph. 693). Близкая картина обнаруживается в кн. Бытия в событиях первого дня творения (Gen. I—II, 3), когда Земля не имела формы и пустоты, тьма лежала над поверхностью бездны, и дух (ветер) носился над водами. Преобразуя космогонию с ее характерным, идущим от мифа пониманием времени «генеалогическим древом» (Гесиод, орфики, кн. Бытия), Гераклит вводил вместо генеалогич. древа цикл вечных превращений (рождений — смертей), в к-рый включена и П.: «смертью психей рождается вода, смертью воды рождается земля, от земли же вода рождается, и от воды — психея» (В 36, Diels9). П. у Гераклита приобретает ряд дополнит, качеств: ей присущ «возрастающий логос» (В 115), что сообщает П. необычайную «глубину»: «Каким бы путем не идти, границ психеи не найдешь: так глубок ее логос» (В 45). В зависимости от понимания логоса П. получает различные значения — от «души», познающей мир по объективным законам, до начала, К-рое направляет поведение и деятельность живых существ (см., напр., В 117,—где действия пьяного объяснены так: «душа его влажна», т. е. душа перерождается в воду).
Начиная с Демокрита в проблематику П. вводятся структурно-генетич. элементы: П. у Демокрита состоит из атомов, у Платона — из трех видов вечных сущностей, у Аристотеля П. образует особый для растений, животных и человека тип причинных связей. В религ.-мистич., этич. концепциях П.— «души» (у поздних орфиков,.в пифагореизме, особенно у Пла-
тона) первобытный взгляд на П.— вечное лично-социальное начало — преобразуется в дуализм П. и тела. Этот дуализм уже в орфизме (Cratyl. 40O В — С) связывается с этико-нравств. нормами: Дике докладывает Зевсу о делах людей в целях поощрения или наказания их душ. Тем самым П. включалась в иерархию религ. представлений, становилась объектом дисциплинарной практики верховного божества. Сама эта практика понималась начиная с Ферекида (по др. свидетельствам, с раннего орфизма) как переселение душ в целях их поощрения или наказания; с др. стороны, у пифагорейцев, затем у Платона оживляется древнейший мотив, т. н. «воспоминание», на к-ром основаны в первобытных обществах акты посвящения. У Платона «воспоминание» положено в основу этики, эстетики и гносеологии. Обладая врожденными мерами истинного и прекрасного, П. использует внешний мир лишь как повод для воспоминания (Symp., Phaedr., Phaed., Tim., Theact., R. P., Menon). Наряду с П.—личным началом, Платон вводил универсальные начала: добрую и злую мировые души, к-рые математически упорядочивают (добрая) мир чувственных вещей и нарушают (злая) этот порядок; II. выступает как вечное семя жизни. Учение Платона о П. имеет параллели в более поздних филос. учениях и в христианстве.
Фрагменты: Маковельский А., Досократжки, ч. 1—3, Каз., 1914—19; его же, Софисты, вып. 1—2, Бакуг 1940—41; Материалисты древней Греции, М., 1955.
Лит.: Т о м с о н Дж., Исследования по истории дрсвне-
греч. общества, т. 2 — Первые философы, М., 1959; Al
lan D. J., The philosophy of Aristotle, Oxf., 1952; Cla
sh orn G., Aristotle's criticism of Plato's «Timaeus», Hague,
1954; Winspear A. D., The genesis of Plato's thought,.
N. Y., 1956. M . Петров. Ростов н/Д.
ПСИХИКА (от греч. ohu^ixog—душевный)—свойство высокоорганизованной материи, возникающее на опре-дел. стадии развития жизни и являющееся особой формой отражения. Животные обладают элементарной формой П., подчиняющейся биологич. законам. Высшая форма П.— сознание — присуща только человеку, является продуктом общественно-историч. развития и подчиняется социальным законам.
Непосредственно для человека, субъективно П. выступает в виде доступных самонаблюдению явлений — ощущений, восприятий, представлений, мыслей, чувств и т. п. Объективные выражения П. обнаруживаются путем наблюдения над др. людьми, их разнообразными действиями, речью, мимикой и т. п. Посредством П. человек познает, отображает мир и ориентируется в нем — регулирует свою деятельность.
Идеалистич. психология видит в П. проявление особой, независимой от материи и подчиняющей ее себе духовной субстанции и не может решить т. н. психофизическую проблему, объяснить связь П. с телом. Эта проблема оставалась неразрешимой и для мета-физич. материализма, к-рый игнорировал качеств, своеобразие П.
Диалектич. материализм рассматривает П. как одну из форм отражения, возникающего в результате специфич. взаимодействия высокоорганизованных живых систем с окружающей их средой. П. является предметом многостороннего науч. изучения. Установление связи между различными аспектами ее анализа представляет собой весьма трудную дискуссионную проблему. В качестве наиболее общего подхода к решению этой проблемы можно предложить различение двух тесно связанных между собой, но существенно различных аспектов — гносеологического и конкретно-научного.
В гносеологич. аспекте П. рассматривается с т. зр. ее отношения к отраженной в ней действительности. Если иметь в виду высшую (и вместе с тем наиболее исследованную в науке) — человеч. форму П.,
ПСИХИКА
415
 то гносеология, аспект ее анализа непосредственно связан с основным вопросом философии и здесь понятие П. по своему осн. смыслу отождествляется с понятиями сознание, мысль, разум, идея, дух и т. п. С этой т. зр. П. выступает как вторичное, производное от материи. Гносеология, анализ по самой своей сути требует рассмотрения П. и материи как взаимно противоположных, поскольку предметом этого анализа является именно отношение бытия и сознания. Однако такое противопоставление правомерно лишь в пределах осн. вопроса философии. «За этими пределами оперировать с противоположностью материи и духа, физического и психического, как с абсолютной противоположностью, было бы громадной ошибкой» (Ленин В. И., Соч., т. 14, с. 233).
то гносеология, аспект ее анализа непосредственно связан с основным вопросом философии и здесь понятие П. по своему осн. смыслу отождествляется с понятиями сознание, мысль, разум, идея, дух и т. п. С этой т. зр. П. выступает как вторичное, производное от материи. Гносеология, анализ по самой своей сути требует рассмотрения П. и материи как взаимно противоположных, поскольку предметом этого анализа является именно отношение бытия и сознания. Однако такое противопоставление правомерно лишь в пределах осн. вопроса философии. «За этими пределами оперировать с противоположностью материи и духа, физического и психического, как с абсолютной противоположностью, было бы громадной ошибкой» (Ленин В. И., Соч., т. 14, с. 233).
Т.о., в гносеологич. аспекте П. выступает как нематериальное, как идеальное, образ. В основе идеального лежит взаимодействие материальных предметов, в к-ром один из воздействующих предметов как бы накладывает отпечаток на другой, благодаря чему возникает возможность судить по изменению структуры одного предмета о структуре другого, а само видоизменение структуры может быть рассмотрено как копия, образ предмета, оказавшего воздействие. Условием возникновения образа является не только природа предмета, оказавшего воздействие, но и собств. природа предмета, в к-ром это воздействие запечатлено. Чтобы отпечаток воспринимать как копию, его необходимо «освободить» от его носителя, иначе будет виден не отпечаток одного предмета в другом, а сам предмет — носитель отпечатка. Такое освобождение возможно только в абстракции, доступной лишь человеку, решающему познават. задачу (именно это отделение отличает абстракцию от простого предметного расчленения). Т. о., идеальное есть филос. категория, противоположная по своему значению материальному, характеризующая продукты психич. деятельности человека и наполняющаяся смыслом лишь в гносеологич. анализе.
Вне гносеологич. аспекта мышление рассматривается, как это принято говорить, со стороны его материальной основы, как материальный процесс взаимодействия человека с окружающим, в ходе к-рого у человека формируются материальные структуры, представляющие его П., являющиеся продуктом и условием данного процесса. Специфич. органом, воплощающим в себе такие структуры у человека, является головной мозг. Этот аспект рассмотрения П. является уже не гносеологическим, а конкретно-научны м. Положения классиков марксизма-ленинизма о том, что признать мысль материальной, отождествить мысль с материей означает сделать уступку идеализму, и о том, что нельзя отделить мышление от материн, к-рая мыслит — есть диалектико-материалистич. характеристика психического, взятого в обоих аспектах его исследования.
Классики марксизма-ленинизма исследовали понятие П. прежде всего применительно к теории познания диалектпч. материализма, поэтому ими гл. обр. рассматривался гносеологич. аспект П. Конкретно-науч. подход намечался ими лишь принципиально, в плане его общефилос. трактовки, исходя из достигнутых к тому времени науч. знаний. Ленин отмечал, что для конкретного решения вопроса о возникновении способности ощущения собрано еще недостаточно данных: «...остается еще исследовать и исследовать, каким образом связывается материя, якобы не ощущающая вовсе, с матерней, из таких же атомов (или электронов) составленной и в то же время обладающей ясно выраженной способностью ощущения. Материализм ясно ставит нерешенный еще вопрос и тем толкает его к разрешению, толкает к дальнейшим экспериментальным исследованиям» (там же, с. 34).
Конкретно-науч. анализ П. составляет задачу пси~ хологии, физиологии, биофизики, биохимии, а в последние годы в известной мере и кибернетики. Общим для всех этих наук является стремление понять П. как специфич. средство, в к-ром и через к-рое реализуются процессы жизни. К наст, времени относительно более продвинутым оказался физиология, анализ П. Развитие же психологич. аспекта анализа П. долгое время тормозилось давлением многовековых традиций идеализма, а также влиянием механицизма. Идеализм всецело сводил П. к идеальному и тем самым на деле отрицал ее объективно реальное бытие. В этих условиях конкретно-науч. анализу оставалось лишь исследование физиологич. деятельности мозга, законы к-рой якобы и есть законы формирования образа. Но прямое соотнесение образа как отображения действительности с физиологич. деятельностью мозга, необходимой для возникновения такого образа, неправомерно. Физиологич. анализ, конечно, является необходимой составной частью конкретно-науч. анализа П., без него не могут быть поняты механизмы процесса отражения. Но физиологич. анализ не охватывает всех самых существ, сторон П. Между гносеологич. и физиологич. анализом П. лежит пропущенное звено — собственно психологич. анализ.
Психологич. анализ П. направлен на выявление строения и функций П. как специфического для высокоразвитой живой системы продукта и условия ее взаимодействия с окружающим миром. Особенности такого взаимодействия выступают в общем виде прежде всего как особенности способа ориентирования живой системы относительно окружающего. Во всех допсихич. формах взаимодействия ориентирование одного тела относительно другого осуществляется либо как непосредств. контакт тел — компонентов системы взаимодействия, либо через силовые поля, образуемые во взаимодействии или свойственные одному из тел. Ориентирование же высокоразвитых живых систем относительно окружающего выступает как качественно своеобразная, особая форма опосредствованного отношения. Для этой формы характерно использование носителей информации, построение динамич. моделей действительности (окружающей среды и внутр. состояний живой системы) на основе переработки этой информации. Подобные модели, опосредствующие отношение живой системы к окружающему, являются для нее осн. средством, обеспечивающим ориентацию в среде. Именно на этой основ» осуществляется специфическое для живого сближение с благоприятствующим и удаление от разрушающего, отсутствующее в неживой природе. Такая форма ориентации и есть психич. форма.
Возникновение П. находит выражение в факте выделения субъекта, с одной стороны, и объекта — с другой, а систему взаимодействия этих образований характеризует качественно новый тип связи — сигнальные связи (следует иметь в виду, что в данном случае речь идет не о собственно сигналах как таковых, к-рые, конечно, могут быть и нетождественны психич. моделям, а именно об особом типе связи). Они требуют наличия у субъекта чувствительности — особой формы раздражимости, способности к ощущению. Конкретно эта способность возникает тогда, когда для индивида становятся значимыми не только те связи, к-рые обеспечивают непосредств. удовлетворение потребности в обмене веществ, но и те, посредством к-рых он соотносится с другими, на первый взгляд нейтральными воздействиями; именно^ на основе связей второго типа индивид ориентируется в среде. Т. о., субъект в психологич. смысле — это индивид, способный к сигнальному взаимодействию со своим окружением. В той же мере, в какой субъект не тождествен организму, объект не тождествен
416
ПСИХИКА
 среде. Объектами являются предметы или явления, выраженные в тех их св-вах, с к-рыми индивид — как субъект — вступает в сигнальное взаимодействие. Человек под полным наркозом остается организмом, но перестает быть субъектом: он продолжает взаимодействовать со средой лишь как организм, на основе соответствующих связей; объекты же для него в этой ситуации не существуют, взаимодействие субъекта с объектом «выключается».
среде. Объектами являются предметы или явления, выраженные в тех их св-вах, с к-рыми индивид — как субъект — вступает в сигнальное взаимодействие. Человек под полным наркозом остается организмом, но перестает быть субъектом: он продолжает взаимодействовать со средой лишь как организм, на основе соответствующих связей; объекты же для него в этой ситуации не существуют, взаимодействие субъекта с объектом «выключается».
Сигнальное взаимодействие со средой осуществляет не только человек, но и любое животное; намеки на такое взаимодействие имеются даже у растений, особенно у т. н. растений-хищников. Поэтому понятие «субъект» является более широким, чем понятие «человек». Человека же отличает от др. представителей животного мира то, что он является не просто субъектом, но познающим субъектом.
В ходе эволюции живых существ, на основе постоянной дифференциации и интеграции организма, неразрывно связанной с особенностями развития способов взаимодействия субъекта с объектом, формировался спец. орган П. У высших животных и человека таким органом является кора больших полушарий головного мозга (подробнее об эволюции П. на основе общей биологич. эволюции см. статьи Жизнь, Антропогенез, Зоопсихология).
Индивид, выступая как субъект, является компонентом системы субъект — объект. В то же время он остается и организмом, т. е. системой, физиологически взаимодействующей со средой. Но физиологич. законы не могут быть распространены на процессы взаимодействия субъекта с объектом, и, следовательно, структура П. не может быть отнесена к физиологич. явлениям. Психическое в его отношении к физиологическому выступает как структурная совокупность относительно простых физиологич. реакций, протекающих в закономерной последовательности. Каждая отд. физиологич. реакция строится по законам физиологии, но комплекс этих реакций, в его структурности, строится по законам психологии. Психическое складывается в недрах физиологич. явлений как производное от них. Однако первичность физиологического по отношению к психическому не абсолютна: по мере своего развития взаимодействие субъекта с объектом оказывает на физиологическое существенное обратное влияние.
П. человека — высшая форма развития П. Она возникла в связи с появлением особой формы управления, характерной для социального взаимодействия. Решающая роль в развитии П. человека принадлежит наиболее специфическому для человека способу взаимодействия с окружающим — труду. Реальными условиями развития человеч. П. явились различные формы социального общения, осн. средством осуществления к-рых выступает речь. Т. о., переход к П. человека связан с возникновением особой — социальной формы взаимодействия. Психич. системы субъект— объект на уровне животного мира были компонентами лишь биологич. взаимодействия, к-рое посредством механизма естеств. отбора и направляло «сверху» психич. развитие животных, определяя особенности их способа связи с окружающим. Животное не преобразует среду целенаправленно, оно лишь приспосабливается к ней. Изменения, вносимые животным в среду, выступают для него как рядоположные со всеми прочими изменениями, возникающими в среде независимо от его деятельности. Результат действия в отношении факторов среды не приобретает при этом того специфич. значения, к-рое обнаруживается у человека: животное не вычленяет среди воздействий среды того, что является продуктом его собств. действия. Становление социального взаимодействия принципиально меняет пути развития П. Это прежде всего
сказывается в преобразовании способа связи субъекта с окружающей действительностью: и человек, подобно животным, приспосабливается к среде, но для него характерно иное — подчинение природы себе, т. е. целенаправленное, сознат. преобразование среды. С психологич. стороны такое преобразование оказывается возможным благодаря тому, что среди воздействий, оказываемых на человека средой, он выделяет такие, к-рые являются результатом его собств. деятельности: продукт действия человека приобретает для него особое значение. Это обусловливает гл. особенность П. человека — возможность намеренного предвидения событий и планирования своих действий.
Переход к П. человека связан с перестройкой органа П.— мозга и прежде всего с появлением второй сигнальной системы, — сигнализации действительности словом (И. П. Павлов).
Ведущей формой психич. взаимодействия является мышление (понимаемое здесь в конкретно-науч. аспекте). Оно проявляет себя в ситуациях, где для решения задачи необходимо нахождение нового, не известного до этого субъекту способа изменения окружающих условий для удовлетворения потребностей. Элементарные формы мышления свойственны и животным; однако у них мышление протекает лишь во внешнем плане и всецело зависит- от непосредств. условий данной ситуации, ход решения задачи лишен замысла, программы действий. Динамич. модели этого уровня фиксируют взаимодействие субъекта и объекта в слитном виде: действия не отчленены от предметов, то и другое дано недифференцированно. Подобные модели имеют место и у человека при неосознаваемом приспособлении к среде; это первичные динамич. модели, с т. зр. гносеологической выступающие как собственно изображения.
Однако специфич. особенностью человека является способность строить вторичные, знаковые модели действительности. Они основаны на специфически человеч. речевом мышлении, к-рое выделяется из практики как теоретич. деятельность. Благодаря развитию второй сигнальной системы мышление переносится во внутр. план действий, ход решения задачи направляется замыслом, строится программа действий. Объектом при этом могут быть не только реальные предметы, но и сами психич. модели. Первичные модели дифференцируются и на их основе формируются вторичные, знаковые, уже расчлененно представляющие взаимодействие субъекта с объектом, т. е. отделяющие отношения субъекта к объекту от отношений самих объектов. Сама деятельность субъекта становится одним из объектов познания. В гносеологич. аспекте эти модели выступают как понятия, суждения, умозаключения, отражающие закономерности движения объектов, их отд. стороны, св-ва (нередко недоступные непосредств. восприятию), существ, связи и зависимости. Будучи объективированными (напр., в языке), продукты мышления перестают быть результатом деятельности лишь отд. индивида, становятся и предметами действий др. людей, образуя обществ, познание, обществ.-история, опыт. В индивидуальном развитии совр. человека П. формируется в процессе овладения этим опытом, овладения исторически сложившимися формами и способами деятельности.
При господстве биологич. законов достижения фи-логенетич. развития животных закрепляются в форме изменений самой их биологич. организации. Антропогенез расчленяется на ряд стадий, в к-рых биологич. закономерности все больше уступали место социальным. Появление человека в собств. смысле связано с установлением полного господства социальных законов. Совр. человек обладает уже всеми мор-фологич. и физиологич. св-вами, необходимыми для его безграничного обществ.-историч. развития, в
ПСИХОАНАЛИЗ
417
 к-ром биологич. организация человека не подвергается существ, изменениям, а результаты развития фиксируются уже не биологич. аппаратом, а специфически социальными средствами. Центр, процесс, характеризующий пспхич. развитие ребенка,— это процесс усвоения им достижений развития предшествующих поколений людей. Биологически наследуемые особенности составляют лишь необходимое условие этого усвоения. Такой процесс протекает во взаимодействии ребенка с созданными обществом предметами и явлениями, в предметном и речевом общении с окружающими людьми, в совместной деятельности с ними. В этом процессе и формируются собственно человеч. способности, формы поведения, качества личности.
к-ром биологич. организация человека не подвергается существ, изменениям, а результаты развития фиксируются уже не биологич. аппаратом, а специфически социальными средствами. Центр, процесс, характеризующий пспхич. развитие ребенка,— это процесс усвоения им достижений развития предшествующих поколений людей. Биологически наследуемые особенности составляют лишь необходимое условие этого усвоения. Такой процесс протекает во взаимодействии ребенка с созданными обществом предметами и явлениями, в предметном и речевом общении с окружающими людьми, в совместной деятельности с ними. В этом процессе и формируются собственно человеч. способности, формы поведения, качества личности.
Существ, сдвиги в понимании конкретно-науч. аспекта П. произошли в связи с развитием кибернетики. Конструирование совр. технич. систем, все более широко моделирующих специфич. функции человека, выдвинуло задачу более широкого и всестороннего исследования психнч. процессов. При этом, с одной стороны, данные, полученные в исследовании П., используются для нужд кибернетики, с другой — средства и методы кибернетики применяются для исследования психич. процессов.
Лит.: Маркс К., Экояомическо-философские рукописи
1844 года, Маркс К. и Энгельс Ф., Из ранних
произв., М., 1956; его же, Введение (Из экономия, руко
писей 1857—1858 годов), Маркс К. и Энгельс Ф.,
Соч., 2 изд., т. 12; Энгельс Ф., Диалектика природы, там
же, т. 20; Ленин В. И., Материализм и эмпириокритицизм,
Соч., 4 изд., т. 14; его ж е, Философские тетради, там же,
т. 38; Р у б и н ш т с й н С. Л., Основы общей психологии, М.,
1946; его же, Бытие и сознание, М., 1957; его же,
Принципы и пути развития психологии, М., 1959; Леонть
ев А. Н., Проблемы развития П., 2 изд., М., 1965; С п и р-
к и н А. Г., Происхождение сознания, М., I960; Понома
рев Я. А., Психология творческого мышления, М., 1960. См.
также лит. при ст. Психология. Я. Пономарев. Москва.
ПСИХОАНАЛИЗ — психологич. учение, разработанное в конце 19 — нач. 20 вв. Фрейдом. В П. следует различать технику П. как метод психологич. исследования бессознательных психич. процессов, связанную с ней терапию и основанную на них теорию П.— совокупность взаимно связанных гипотез о строении и функциях психич. аппарата в целом. От теории П. следует отличать фрейдизм, возводящий положения П. в ранг философско-антропологич. принципов. Возникновение П. означало резкий разрыв с существовавшими в конце 19 в. психологич. теориями и методами. Одновременно с этим П. предвосхитил ряд положений совр. науч. психологич. исследования (построение структурных моделей явления, учение о гомеостазисе, противопоставление энергии а структуры, общие принципы изучения сложной разбивающейся системы, отличные от традиц. эволюционизма). В психологии П. означал переход от внешнего описания изолированных психич. явлений к раскрытию лежащих в их основе «глубинных механизмов». Отдельные положения П. можно обнаружить у Гербарта (учение о бессознательных идеях), Фехнера (о психич. энергии), у Шарко и Пьера Жане (психологич. теория неврозов); понятие «вытеснение» встречается в соч. Шопенгауэра. Предшественником П. явился т. н. катартич. метод (см. Катарсис), предложенный в 1882 венским психиатром Й. Брёйером, к-рый показал, что можно достигнуть излечения тяжелой формы истерии (известный случай Анны О.), если с помощью гипноза заставить пациента вспомнить и «отреагировать» забытую им травматич. ситуацию, послужившую источником невроза. Позднее Фрейд заменил гипноз, дававший неустойчивые результаты, методом свободных ассоциаций, к-рый лег в основ у техники П. Метод свободных ассоциаций обнаружил, что травматич. события, аффективные переживания, неисполнившиеся желания и т. п.
только по видимости исчезают из психики. На деле же они подвергаются «вытеснению» — активному удалению из сознания в сферу подсознательного. Не па-ходя прямого выхода в сознании, вытесненное продолжает, однако, активно воздействовать на психич. жизнь, проявляясь часто в замаскированной, «зашифрованной» форме в виде невротич. симптомов. Последние раскрываются как компромиссные психич. образования, возникшие в результате столкновения вытесненных влечений с противостоящей им внутр. «цензурой», представляющей собой механизм защиты сознательного «Я» против опасных влечений и импульсов. Сходной с невротич. симптомами внутр. структурой обладают и сны (см. 3. Фрейд,Толкование сновидений, М., 1913). То, что проявляется в сознании спящего как картина сновидения,— лишь конечный результат бессознательной психич. деятельности, итог борьбы противоположно направленных психич. сил (вытесненного материала и цензуры). Сновидение — галлюцинаторное символич. исполнение вытесненных желаний. Такого же рода компромиссные образования можно открыть в ошибочных действиях (оговорках, описках и т. д.), а также в остротах, представляющих собой модель для выявления структуры неврозов. Эти наблюдения вывели П. за пределы собственно психиатрии и позволили установить связь между нормальными и патологическими психич. явлениями. В тех и других П. обнаружил общие психич. механизмы символизации, замещения, конденсации и др.
Основы совр. теории П. составляет учение об общих принципах функционирования психики (мета-психология), структурная теория строения психич. аппарата и учение о способах распределения и трансформации психич. энергии (психодинамика).
С т. зр. метапсихологии каждое психич. явление должно быть раскрыто в трех аспектах — динамическом, энергетическом и структурном. Динамика рассматривает психич. процессы как результат взаимодействия и столкновения различных психич. сил. Энергетика — количество и распределение связной и свободной энергии, вовлеченной в тот или иной процесс. Структурный подход основан на пространств, модели психич. аппарата; в пространстве локализованы родственные группы психич. функций, причем оно не является внутренне однородным и подчиняется различным закономерностям в отд. своих частях. В основе психоаналитич. модели психики лежит представление о психич. энергии, действующей в пределах определенной неоднородной структуры. По аналогии с физич. энергией П. вводит понятие о количестве (квантуме) психич. энергии, о «зарядах» психич. энергии (катексисах), о различных способах распределения и перемещения психич. энергии.
На первом этапе развития П. разрабатывал учение о различных формах и проявлениях психич. энергии с акцентом на сексуальных влечениях (libido), поскольку, в отличие от влечений к самосохранению, они обладают способностью к вытеснению и сложной трансформации. В процессе индивидуального развития libido локализуется в различных телесных зонах, определяя фазы психосексуального развития, в ходе к-рого меняется и объект влечения: от ауто-эротизма через эдипов комплекс к внешнему объекту. Инфантильные компоненты сексуальности, подвергаясь в ходе индивидуального развития наиболее глубокому вытеснению, обладают и наибольшим патология, потенциалом; создавая гл. источник психоневрозов, они влияют на формирование характера. Столкнувшись с внешним препятствием, libido может возвращаться на пройденные этапы развития, приобретая форму патологич. регрессии (лежащей в основе шизофрении), и наряду с этим отклоняться
418 ПСИХОАНАЛИЗ
 от первонач. целей, образуя основу сложных процессов творчества.
от первонач. целей, образуя основу сложных процессов творчества.
Учение о психич. структуре возникло в П. позднее, чем учение о влечениях (З.Фрейд, «Я и Оно», М., 1921, и др.). С т. зр. структурной теории психич. аппарат есть единство трех систем, находящихся в постоянном взаимодействии. Наиболее архаическая, безличная часть психич. аппарата получила наименование Id («Оно») — это резервуар психич. энергии, «кипящий котел» влечений, стремящихся к немедленному удовлетворению. Id — часть психики, связанная с сома-тич. областью, служащей для нее источником энергии влечений. Она лишена контактов с внешним миром и не знает различия между внешней реальностью и субъективной сферой. Сознательное «Я» (Ego) формируется как «оттиск» внешней реальности на начальной массе влечений и импульсов. Среди факторов формирования Ego особую роль П. придает различным типам идентификации, бессознат. уподоблению с объектами (лицами) внешнего мира. Ego — посредник между внешним миром и Id, влечением и удовлетворением. В отличие от Id, оно руководствуется не принципом удовлетворения, а требованиями реальности. Значит, часть энергии расходуется на сдерживание и контроль иррациональных импульсов Id, против к-рых Ego воздвигает оборонительные рубежи (ан-тикатексисы), используя для этого различные защитные механизмы. Генетич. классификация последних дана дочерью основоположника П. Анной Фрейд (A. Freud, Ego and the mechanisms of defence, L., 1946). Эти механизмы функционируют бессознательно, хотя имеют сознат. аналогии. Важнейший из них — вытеснение. Как правило, вытесненный материал сохраняет значит, катексис энергии и стремится вернуться в сознание при любых ослаблениях анти-катексисов, чем поддерживается постоянное динамич. напряжение на рубежах вытеснения, на границе Ego и Id. Эти затраты энергии нередко приводят к ослаблению др. операций Ego, и целью психоаналитич. терапии является снятие излишних антикатексисов. К числу защитных механизмов относится также реактивное образование, построенное на амбивалентности влечений, при к-ром к.-л. влечение заменяется в сознании на противоположное (сохраняя в бессознательном свой первонач. характер). Так, бессознат. любовь может проявляться как сознат. ненависть, жестокость — как чрезмерная доброта и т. д. Механизм проекции есть перенесение собств. желаний и импульсов вовне, что играет большую роль в параноидных психозах, а также в формировании расовых и т. п. предрассудков. При механизме инверсии человек, не осмеливаясь направить свой гнев на первонач. объект, обращает его на себя («рвет на себе волосы»), что может быть связано с бессознат. идентификацией («идентификация с агрессором»—по терминологии Анны Фрейд). Третья психич. структура — Super-Ego (Сверх-Я) — формируется в результате интроекции предписаний родителей и воспитателей, выражающих установки социальной среды. Напряжения в психич. структуре, вызываемые Super-Ego, воспринимаются как чувства страха и вины. Хотя Super-Ego функционирует бессознательно, оно имеет и сознат. аналоги (совесть, идеал-«Я»). Ему присущи архаич. формы морали («око за око» — lex talionis, букв.— закон возмездия). Действия Super-Ego приводят к бессознат. потребности в искуплении и самонаказанип и служат, согласно П., источником религ. доктрины первородного греха; оно само может стать источником преступных действий, причем чувство вины в таком случае есть уже не следствие, а причина преступления (Т. Рейк, 1926). Деятельность Super-Ego может выразиться в неожиданном провале карьеры («невроз судьбы»), в «случайных» травмах, несчастных слу-
чаях и т. д. Поэтому Super-Ego само может быть источником опасности и Ego должно использовать против него те же защитные механизмы, что и против Id. Поскольку запреты воспитателей обычно имеют форму словесного приказания, Super-Ego сохраняет тесную связь со слуховыми восприятиями (голос совести). Отд. социальные группы обладают общностью Super-Ego вследствие идентификации его с одним и тем же лидером (Фрейд, 1921). Резкая перестройка Super-Ego может наступить и в зрелом возрасте (религ. и полп-тич. обращение). В норме все три психич. системы (Id, Ego и Super-Ego) пребывают в относительном равновесии. Однако при психич. заболеваниях эти отношения нарушаются. Так, в основе шизофрении лежит регрессия к примитивным стадиям организации libido, ведущая к господству над Ego (П. Шильдер, 1927), при этом сами функции Ego не разрушаются, но приходят в расстройство пз-за ослабления энергетгтч. системы Ego. Напротив, в паранойе регрессия протекает при сохранении синтетич. способностей Ego, а формы мышления наполняются патологич. содержанием, вызванным регрессией. При маниакально-депрессивном психозе нарушаются нормальные связи между тремя системами, причем в фазе депрессии Ego оказывается во власти Super-Ego с его потребностью в наказании и чувством вины, а в фазе мании Ego подпадает под власть импульсов Id.
Распространение П. в Европе началось примерно с 1908, когда возникла Междунар. психоаналитич. ассоциация [ранее было создано об-во психоаналитиков в Вене (1906)], и особенно интенсивно шло в годы после 1-й мировой войны. В 1920 был открыт Психоаналитич. институт в Берлине (под руководством К. Абрахама), начавший выпускать проф. врачей-аналитиков. Однако с приходом к власти фашизма II. подвергается гонениям в Германии, с 1938 — на его родине в Австрии, а также в Венгрии, давшей ряд психоаналитиков с мировым именем (III. Ференци, Г. Рохейм, М. Клейн и др.). С этого времени начинается быстрое развитие П. в Англии и особенно в США, куда эмигрировало большинство психоаналитиков из Европы. Ныне на США приходится св. 3/4 всей публикуемой лит-ры по'П.; там организовано св. 20 учебных и-исследовательских институтов П. В годы после 2-й мировой войны П. распространяется в Лат. Америке и ряде стран Азии (особенно Японии и Индии). В традиционно католич. странах развитию П. препятствовало отрпцат. отношение церкви (лишь в 1950 папской буллой было разрешено католикам лечиться у врачей-аналитиков).
Развитию П. с самого начала мешал догматизм, стремление принимать за непреложную догму все положения Фрейда, а также существование замкнутых психоаналитических обществ, недоступных для непосвященных, и отрыв от общей психологии, связанный с малой доступностью применяемых П. методов, овладение к-рыми требует специальной долголетней тренировки. Лишь к 40-м гг. экспериментальная психология разработала достаточно точные методы, чтобы приступить к проверке концепций П. Это выявило в П. ряд неточностей и недоработок, к-рые привели к перестройке и уточнению мн. положений П. (первый обзор экспериментальных данных у Р. Сире, 1943; подробнее — см. кн. «Psychoanalysis as science», Stanford, 1952). Среди новых течений в П. следует отметить разработку Эго-психологиа (Г. Гартман и др.) и связанный с ней перенос центра тяжести изучения с бессознательных на сознат. процессы, а также разработку П. детского возраста, проводимую гл. обр. британской группой психоаналитиков, возглавляемой Мелани Клейн (1882—1960). Развитие П. в континент. Европе в послевоенные годы проходило в значит, мере под влиянием философии
психологизм —психологизм в социологии
419
 экзистенциализма (экзистенциальный анализ Л. Бин-свангера, мед. антропология и др.). Из П. выделился ряд самостоят, направлений и школ (см. Юнг, «Индивидуальная психология», Ранк, Неофрейдизм я др.).
экзистенциализма (экзистенциальный анализ Л. Бин-свангера, мед. антропология и др.). Из П. выделился ряд самостоят, направлений и школ (см. Юнг, «Индивидуальная психология», Ранк, Неофрейдизм я др.).
Лит.: Ранк О., 3 а к с Г., Значение П. в науках о духе, пер. с нем., М., 1914; Ф р е й д 3., Лекции по введению в П., [т. 1—2], М.— П., 1922; его же, Осн. психологич. теории вП.,М.— П., 1923;его же, Методика и техника П., М.—П., 1923; П. и учение о характерах. [Сб. ст.], М.—П., 1923; Л у-рия А., П. в свете осн. тенденций совр. психологии, Каз., 1923; его ж е, П. как система монистич. психологии, в сб.: Психология и марксизм, Л., 1925; П. детского возраста. [Сб. ст.], М., 1924; Б ы х о в с к и й Б., Метапсихология Фрейда, Минск, 1926; Фрейд А., Введение в технику детского П., пер. с нем., Одесса, 1927; Рейх В., Диалектич. материализм и П., «ПЗМ», 1929, Л"в 7—8; Ширвиндт М. Л., П., в кн.: Осн. течения совр. психологии, М.—Л., 1930; Франк С, П. как миросозерцание, «Путь», 1930, № 25; Б а оси н Ф. А., Фрейдизм в свете совр. науч. дискуссий, «Вопр. психологии», 1958, №5—6; X и н к л е Г. Д ж., Социология и П., в кн.: Г. Б е к к е р, А. Б о с к о в, Совр. социологич. теория, пер. с англ., М., 1961; Hermann I., Psychoanalyse una Logik, W., 1924; его же, Die Psychoanalyse als Me-thode, W., 1934; Politzer G., Critique des fondaments de la psychologie, 1 —La psychologic et la psychanalyse, P., 1928; Dalbiez R., La methode psychanalytiqiue et la doctrine freudienne, 2 ed., [t. 1—2], P., 1949; M u s a t t i С L., Trat-tato di psicoanalisi, 2 ed., v. 1—2, Torino, 1950; Developments in psychoanalysis, L., 1952 (Intern, psychoanalytical library, № 43); Psychoanalysis as science, ed. E. Pumpian-Mindlin, Stanford, 1952; D e 1 p e с h R., Psychoanalysis et cybernetique, Actes de XI Intern. Congres Philos., 1953, v. 7; Psychoanalysis and the scientific method, «Scientific Monthly», 1954, v. 79, jfi 5; Brunswik F., Psychoanalysis and the unity of science, [Boston], 1954; Braatoy Т., Fundamentals of psychoanalytic technique, N. Y.—L., 1954; New directions in psychoanalysis, ed. M. Klein [a. o.], [L., 1955]; Outline of psychoanalysis, ed. С M. Thompson [a. o.], Toronto, 1955; Colby K., Energy and structure in psychoanalysis, N. Y., 1955; его же, An introduction to psychoanalytic research, N. Y., 1960; его ж е, Research in psychoanalytic information theory, «Amer. Scientist», 1961, v. 49, № 3; G r i n s t e i n A., The index of psychoanalytic writings, v. 1—5, N. Y., 1956—60; La psychanalyse d'aujourd'hui de S. Nacht, t. 1—2, P., 1956; Entfaltung der Psychoanalyse, Stuttg., 1956; Destin de la psychanalyse, P., 1956 (La Table ronde, № 108); L ii с k e r t H. R., Konflikt-Psychologie, Munch.—Basel, 1957; G orres A., Methode und Erfahrungen der Psychoanalyse, Munch., 1958; Conceptual and methodological problems in psychoanalysis, N. Y., 1959; Psychoanalysis. Scientific method and philosophy. A symposium, ed. S. Hook, N. Y., 1960; RappoportD., The structure of psychoanalytic theory, [N. Y.], 1960; T h i s В., La psychanalyse. Science de l'homme endevenir, [Tournai], 1960; Bally G., Einfiihrung in die Psychoanalyse S. Freuds, [Hamb.I, 1961; Scriven M., Psychoanalysis and parapsychology in frontiers of science, Pittsbourg, 1962, p. 79—130.
II e p и о д и ч. и з д.: «Imago» (Zeitschrift fur psycho-
analvtische Psychologie, ihre Grenzgebiete und Anwendungen),
Bd 1—23, W.—Lpz., 1912—37; «Psychoanalytic Review», v.
i, N. Y., 1913—; «Internationale Zeitschrift Юг Psychoanalyse»,
Bd 1—25, W.—Lpz,—Z., 1913—40; «The International Journal
of Psychoanalysis», v. 1, L., 1920—; Almanach der Psychoana
lyse. Hrsg. von A. I. Storfer, Jg 1 — 13, W., 1926—38; «Revue
franchise de psychanalyse», v. 1, P., 1927—; «Psychoanalytic
Quarterly», N. Y., 1932—; «American Imago», v. 1, Boston,
1939—; «The Yearbook of Psychoanalysis», v. 1 — 10, N. Y.,
1945—54; «The Psychoanalytic Study of the Child», v. 1,
N. Y., 1945; «Annual Survey of Psychoanalysis», v. 1,N. Y.,
1950—; «La psyhanalyse (Societe francaise de psychanalyse),
v. 1, P., 1956—; «The Psychoanalytic Study of Society», v. 1,
N. Y., 1960; «Jahrbuch der Psychoanalyse», KOln—Opladen,
Bd 1, 1960. Д. Ляликов. Москва.
ПСИХОЛОГИЗМ (в логике)—т. зр., согласно к-рой логика является частью психологии или по крайней мере зависит от психологии. Эта т. зр. основана на известном определении логики как науки о правильном мышлении (о правильных формах мышления) в соединении с обычным пониманием мышления как психич. деятельности, являющейся гл. предметом психологии. Проблема психологич. обоснования логики и соответственно психологич. трактовка логич. понятий сложилась в 19 в. в работах X. Зигварта, В. Вундта, Т. Липпса, Б. Эрдмана и др. С появлением математической логики П. стал противопоставляться логицизму, к-рый выступил с резкой критикой П.: «То, что называется „психологизмом" в логике,— признак упадка логики в современной философии» (Л у к а с е в и ч Я., Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики, пер.
с англ., М., 1959, с. 48). Известной критике П. подвергся и в «Логических исследованиях» Э. Гуссерля (рус. пер., т. 1, СПБ, 1909). Однако на связи логики и психологии продолжали настаивать не только мн. философы, но и логики и математики (А. Пуанкаре,
3. Гобло, Ф. Энрикес, Ф. Гонсет и др.) и психологи
(Г. Штёринг, Т.Циген, И.Херман, Э. Риньяно, Ж.Пиа
же ж др.). Определенную, хотя и косвенную, поддерж
ку П. получил со стороны сигнифики и интуициониз
ма, а также в последнее время в работах по прагмати
ческому и ультраинтуиционистскому обоснованию ло
гики и математики (см. Прагматика).
Лит.: Энриквес Ф., Проблемы науки, пер. с итал.,
4. 1, М., 1911; G о b 1 о t R., Traite de logique, 5 ed., P., 1929;
Gonseth F., Qu'est que la logique?, P., 1937; Hermann
I., Psychoanalyse und Logik, W., 1924; Mannoury G.,
Les fondements psycholinguistiques des mathematiques, Nchat.,
1947; Lukasiewicz J., Logika a psychologia, в его
кн.: Z zagadnieri logiki i filozofii, Warsz., 1961; A j d u-
kiewicz K., Logika pragmatyczna, Warsz., 1965.
M . Новоселов. Москва
ПСИХОЛОГИЗМ В СОЦИОЛОГИИ — подход к изучению обществ, проблем и социальных процессов, при к-ром в поле зрения социолога оказываются преимущественно явления психологии, характерные для индивида или социальной группы, но рассматриваемые изолированно от условий материальной жизни общества, вне их обусловленности объективной логикой историч. развития. Внимание социолога сосредоточивается на проявлениях и формах «человеч. поведения», изучении его психологич. механизма и субъективных побудит, мотивов, что само по себе заслуживает внимания. Однако все эти процессы рассматриваются (прямо или косвенно) в качестве самостоят, или даже определяющих движущих сил истории.
Из всей совокупности социальных связей в качестве основных выделяются межиндивидуальные, межличностные отношения или различные типы взаимодействия между отношениями людей, а отношения материальные, производственные, социально-экономические и классовые (в классовом обществе) либо исследуются лишь с т. зр. их зависимости от первых, либо* остаются вовсе вне социологич. анализа. При этом всякая социальная группа и даже общество в целом с позиций П. в с. трактуется прежде всего как некая идейно-психологич. общность, как совокупность отношений, влияний и коммуникаций в сфере сознания, как «коллективный психич. субъект».
Характерные черты П. в с. присутствовали во многих направлениях и течениях домарксистской социологии. Однако лишь к концу 19 в. в бурж. социологии сложился ряд самостоят, психологич. школ, прежде всего представленных школами Тарда, Лебона и Мак-Дугалла. В нач. 20 в. П. в с. во все большей степени стал развиваться не в русле отд. школ, а в качестве одного из осн. элементов бурж. эмпирич. социологии, тяготеющей к философии позитивизма. П. в с. начинает во все более четкой форме выступать как совокупность методологич. принципов, приемов и теоретич. предпосылок исследования обществ, проблем. Эти принципы и предпосылки начали разрабатываться амер. социологами Уордо.и, Кули, Э. Россом, Мидом, франц. социологом Дюркгеймом-и др. Становление П. в с. в 20 в. связано с определ. эволюцией в истолковании самой духовной жизни обществ, человека. На первый план выдвинулись явления обществ, и индивидуальной психологии, а роль и значение в историч. процессе различных форм науч. познания обществ, жизни, идеологии и др. продуктов сознания оказались приниженными. Особое внимание привлек механизм обыденного сознания, стихийно возникающих привычек, склонностей, эмоций и св-в личности. И здесь сказалось значит, влияние на социологию бихевиоризма, фрейдизма и неофрейдизма. Под их влиянием особой популярностью
420 ПСИХОЛОГИЗМ В СОЦИОЛОГИИ — ПСИХОЛОГИЯ
 начали пользоваться исследования элементов инстинктивности, иррационализма и автоматизма в сознании и поведении человека. Центр тяжести начал постепенно перемещаться с проблем, в рамках к-рых индивид, взятый как психологич. явление, выступал в качестве центр, момента, на проблемы, в рамках к-рых этот индивид уже оказывался в психологич. зависимости от социальной группы или социального института. Последнее особенно характерно для психологизма, органически соединенного с эмпирич. тенденциями. Эта эволюция в социальном плане связана с развитием гос.-монополистич. организации общества и характерных для нее форм бюрократии и бурж. «коллективизма». Вот почему, хотя психологизм можно легко обнаружить в многочисл. работах совр. бурж. социологов, посвященных различным проблемам (напр., теория классов Р. Сентерса или концепция войн Э. Джонса и т. п.), наиболее типичны в этом отношении социологич. исследования, связанные с задачей обеспечения системы управления и «социального контроля» над людьми в рамках бюро-кратич. организаций. Пользуясь всеми методами эмпирич. анализа, социологи собирают и обрабатывают информацию об обществ, настроениях и мнениях, о мотивах и специфич. особенностях поведения людей, об их чувствах, симпатиях, антипатиях. Но социолога прежде всего интересует приспособление поведения и сознания рядовых членов общества к целям, нормам поведения и «ценностям», задаваемым бурж. организациями, манипуляция людьми ради обеспечения «равновесия» в функционировании бурж. социального организма. При таком подходе игнорируются или фальсифицируются те тенденции, к-рые, действуя и в сфере обществ, бытия, и в сознании и психологии людей, ведут с неизбежностью к коренному преобразованию данного социального организма. Подобный социолог выступает не в роли социального философа и тем более не в роли социального критика, а по сути дела, в роли специалиста по человеч. поведению, консультирующего бюрократич. организации: корпорации, политич. партии, гос-во, армию и т. п. Такого рода тенденции особенно типичны для индустриальной социологии, для работ по «человеч. отношениям в промышленности», для представителей т. н. «управленч. науки» (менеджеризм) и т. п. Аналогичные установки можно обнаружить и в работах, посвященных «поведению людей в период выборов» (Лазарсфелъд, Б. Берелсон и др.), входящих в раздел т. н. политич. социологии; в обширной и модной области бурж. социологии, к-рая занимается проблемами воздействия на сознание и чувства человека «средств массовых коммуникаций», т. е. кино, телевидения, радио, прессы, коммерч. рекламы (Лазарс-фельд, Л. Лоувелл, Д. Кате, X. Ласуэлл, К. Хов-ленд и др.); в исследованиях, посвященных социальным заболеваниям личности: алкоголизму, преступности (особенно молодежной),душевных заболеваний п т.п. (К.Меннигер, А.Улмен, X. Блок, Ф. Флинн и др.).
начали пользоваться исследования элементов инстинктивности, иррационализма и автоматизма в сознании и поведении человека. Центр тяжести начал постепенно перемещаться с проблем, в рамках к-рых индивид, взятый как психологич. явление, выступал в качестве центр, момента, на проблемы, в рамках к-рых этот индивид уже оказывался в психологич. зависимости от социальной группы или социального института. Последнее особенно характерно для психологизма, органически соединенного с эмпирич. тенденциями. Эта эволюция в социальном плане связана с развитием гос.-монополистич. организации общества и характерных для нее форм бюрократии и бурж. «коллективизма». Вот почему, хотя психологизм можно легко обнаружить в многочисл. работах совр. бурж. социологов, посвященных различным проблемам (напр., теория классов Р. Сентерса или концепция войн Э. Джонса и т. п.), наиболее типичны в этом отношении социологич. исследования, связанные с задачей обеспечения системы управления и «социального контроля» над людьми в рамках бюро-кратич. организаций. Пользуясь всеми методами эмпирич. анализа, социологи собирают и обрабатывают информацию об обществ, настроениях и мнениях, о мотивах и специфич. особенностях поведения людей, об их чувствах, симпатиях, антипатиях. Но социолога прежде всего интересует приспособление поведения и сознания рядовых членов общества к целям, нормам поведения и «ценностям», задаваемым бурж. организациями, манипуляция людьми ради обеспечения «равновесия» в функционировании бурж. социального организма. При таком подходе игнорируются или фальсифицируются те тенденции, к-рые, действуя и в сфере обществ, бытия, и в сознании и психологии людей, ведут с неизбежностью к коренному преобразованию данного социального организма. Подобный социолог выступает не в роли социального философа и тем более не в роли социального критика, а по сути дела, в роли специалиста по человеч. поведению, консультирующего бюрократич. организации: корпорации, политич. партии, гос-во, армию и т. п. Такого рода тенденции особенно типичны для индустриальной социологии, для работ по «человеч. отношениям в промышленности», для представителей т. н. «управленч. науки» (менеджеризм) и т. п. Аналогичные установки можно обнаружить и в работах, посвященных «поведению людей в период выборов» (Лазарсфелъд, Б. Берелсон и др.), входящих в раздел т. н. политич. социологии; в обширной и модной области бурж. социологии, к-рая занимается проблемами воздействия на сознание и чувства человека «средств массовых коммуникаций», т. е. кино, телевидения, радио, прессы, коммерч. рекламы (Лазарс-фельд, Л. Лоувелл, Д. Кате, X. Ласуэлл, К. Хов-ленд и др.); в исследованиях, посвященных социальным заболеваниям личности: алкоголизму, преступности (особенно молодежной),душевных заболеваний п т.п. (К.Меннигер, А.Улмен, X. Блок, Ф. Флинн и др.).
В обобщенной форме принципы и установки П. в с, связанные с проблемами «социального контроля», нашли выражение прежде всего в социального действия теории, в теории малых групп и отчасти в социометрии.
П. в с. характерен и для растущей группы социологов, противостоящих бюрократически-манипулятор-ской ориентации, к-рые концентрируют внимание на болезненных процессах, типичных для личности в условиях гос.-монополистич. бюрократии. Они нередко выступают в роли социальных критиков, однако эта критика существенно ограничена психологизированной трактовкой сложных взаимоотношений человека и социальной организации. В центре внимания этих социологов находится детальное описа-
ние психологич. проявлений и последствий духовно-психич. отчуждения человека, однако сама проблема отчуждения оказывается оторванной от анализа действит. объективных социально-экономич. условий. Наиболее крупными представителями этой группы являются Фромм, Рисмен, Д. Мартиндейл, В. Видич, У. Уайт (младший) и т. д. В наст, время среди бурж. социологов растет сознание ограниченности и узости принципов и установок П. в с. Это проявляется,в частности, в попытках соединить психологич. подход к явлениям обществ, жизни со структурно-функциональным методом изучения социальных систем (Пар-соне, П. Блау, Ф. Селзник и др.). Все большее число авторитетных социологов выступает с критикой односторонности П. в с. (Мертон, Миллс).
Марксистская социология, выступая с критикой П. в с, выдвигает требования всестороннего и конкретного исследования разнообразных явлений и процессов обществ, психологии и духовной жизни личности, взятых в их диалектич. связи с объективной логикой социально-историч. развития.
Лит.: 3 а м о ш к и н Ю. А., Психологич. направление в
совр. бурж. социологии, М., 1958; его же, Кризис бурж.
индивидуализма и личность, М., 1966; Попова И. М.,
К вопросу о социальной почве психологизма в бурж. социо
логии, «ВФ», 1961, № 3; Н о в и к о в Н. В., Совр. амер. ка
питализм и «теория социального действия» Т. Парсонса, там
же, 1963, № 3; Осипов Г. В., Совр. бурж. социология, М.,
1964; Кон И. С, Позитивизм в социологии, Л., 1964; Ross
Е. A., Social control, N. Y,—L., 1901; World tension. The psy-
chopathology of international relations, N. Y., [1951]; Reader
in bureaucracy, ed. by R. K. Merton [a. o.j, Gleneoe, [1952];
Berclson B. and Janowitz M., Reader in public opinion
and communication, [2 ed.], Gleneoe, [1953]; Blumer H.,
Psychological import of the human group, в сб.: Group rela
tions at the cross roads, N. Y., [1953]; Bogardus E. S.,
The development of social thought, 4 ed., N. Y., [I960];
Centers R., The psychology of social classes, N. Y., 1961;
The behavioral sciences today, ed. by B. Berclson, N. Y.—[a. o.],
1964. Ю. Замошкин. Москва.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА в социологии — см. Психологизм в социологии.
ПСИХОЛОГИЯ (от греч. \|)rjxi — душа и Коуос, — наука) — наука, изучающая процессы активного отражения человеком и животными объективной реальности в форме ощущений, восприятий, понятий, чувств и др. явлений психики.
Особое место психич. явлений в жизни и деятельности человека и особая природа их связи с окружающим миром долгое время давали повод для обособления этих явлений и их противопоставления объектам внешней действительности. Специфич. форма данности психич. явлений была одной из причин обособления П. как науч. дисциплины, изъятия ее из общей системы наук, опирающихся на объективные методы. Поэтому на протяжении мн. столетий П. оставалась областью описат. знаний. Объяснение природы психич. явлений всегда было предметом борьбы между материализмом и идеализмом, к-рая была одновременно борьбой за возможность создания подлинно науч. П. Впервые филос. предпосылки развития П. как области объективного науч. знания были даны диалектическим материализмом. Сознат. перестройка П. на этой базе началась лишь в 20-х гг. в СССР.
На рубеже 19—20 вв. началось быстрое развитие П. Оно стимулировалось успехами естествознания, в первую очередь развитием эволюц. биологии, физиологии органов чувств, психофизики и физиологии высшей нервной деятельности, а также возросшими требованиями к П. со стороны медицины, педагогики и произ-ва. Выделились такие спец. области П., как медицинская, детская и педагогия. П., психология труда, социальная П. Все это создало условия для радикальной переориентации психологич. науки. Сущность этой переориентации состояла в следующем: объективные методы, применение к-рых прежде ограничивалось почти исключительно сферой из-
психология
421
 учения внешнего "поведения и нервных физиологич. процессов, были распространены также на изучение собственно психич. деятельности; широкое развитие получили пограничные исследования, прочно связавшие психологию с нейрофизиологией, а в последние годы — с кибернетикой, техникой, с обществ, науками; наконец, сильно возрос удельный вес психоло-гич. исследований, связанных с осуществлением на-учно-технич. революции (инженерная П., космич. П. и др.)- В результате П. фактически утратила свою былую обособленность и вместе с тем превратилась в самостоятельную, разветвленную область науч. знания.
учения внешнего "поведения и нервных физиологич. процессов, были распространены также на изучение собственно психич. деятельности; широкое развитие получили пограничные исследования, прочно связавшие психологию с нейрофизиологией, а в последние годы — с кибернетикой, техникой, с обществ, науками; наконец, сильно возрос удельный вес психоло-гич. исследований, связанных с осуществлением на-учно-технич. революции (инженерная П., космич. П. и др.)- В результате П. фактически утратила свою былую обособленность и вместе с тем превратилась в самостоятельную, разветвленную область науч. знания.
Широкое развитие П. в последние десятилетия не означает, однако, что ее фундаментальные мето-дологич. проблемы получили общепризнанное теоре-тич. решение. Это относится и к главной из них — проблеме предмета П. и осознания ее принципиального метода. Осн. трудность здесь заключается в том, что ни очевидная зависимость субъективных психич. явлений от внешних воздействий, ни столь же очевидная зависимость их от внутр. мозговых процессов не указывают пути для ее решения. Переходя от субъективных явлений прямо к обусловливающей их внешней объективной действительности, психологич. исследование неизбежно утрачивает свой предмет: ведь сама эта действительность не есть действительность психологическая и ее изучение есть задача других наук. Утрата психологич. исследованием своего предмета происходит и в том случае, если оно обращается вовнутрь, к мозгу. Хотя материальную основу всякого психич. явления составляют мозговые процессы, однако их изучение входит в предмет не П., а нейрофизиологии. Проблема не решается и путем соединения обоих этих направлений исследования: психич. явления и в этом случае выступают лишь как сопровождающие объективные физиологич. процессы, параллельные им побочные явления — эпифеномены. Убеждение в невозможности осуществить в П. переход от явления к сущности и привело в конце 19 в. к идее отказа от науч. познания психики и к попыткам строить П. как науку о поведении (см. Бихевиоризм) или как науку о рефлексах (см. Рефлексология). С др. стороны, в П. выделились различные идеалистич. направления, принципиально отрицавшие возможность науч. объяснения психики (описат. П., психология как наука о духе). В это же время в П. обостряются и др. противоречия: между биологич. и социологич. подходами к психике человека, между аналитическим и целостным подходами. В итоге в П. образовались различные направления, каждое из к-рых стало разрабатывать свой особый круг вопросов, накапливая обширный фактич. материал. По мере накопления материал этот все менее укладывался в исходные концепции, и отд. направления стали постепенно утрачивать свою первонач. четкую очер-ченность, как это произошло, напр., с бихевиоризмом; возникла перспектива их сближения между собой. Однако в пределах идеалистич. и механистич. понимания природы психики эта перспектива не могла быть реализована.
Новое понимание предмета и методов П. как области конкретно-науч. знания развивалось на основе ди-алектич. материализма, ленинской теории отражения. Понимание это исходит из взгляда на психику как на продукт развития живой материи. Психика не просто «прибавляется» к жизни, а необходимо порождается ею и выполняет реальную функцию в эволюции, в развитии дальнейшего приспособления организмов— функцию ориентирования организма в свойствах предметной среды и управления его поведением. В основе этой функции лежит особая форма ассимиляции воздействий среды, состоящая в их преобразовании во
внутр. состояния субъекта, к-рые уподобляются и изоморфны воздействующим свойствам; по отношению к последним эти состояния и суть их психич. отражение.
Развитие исследований поведения подвело к необходимости охарактеризовать эти внутр. состояния, раскрыть их объективную функцию; возникла задача изучения взаимозависимости психич. отражения и деятельности субъекта в окружающей его предметной действительности. Анализ полученных данных показал, что переход отражаемого в психич. отражение совершается именно в процессе деятельности; что в деятельности, практически связывающей субъекта с объективной действительностью, происходит вместе с тем сверка психич. отражения с отражаемым и его коррекция, обеспечивающая все большую его адекватность.
Важное методологич. значение имело успешное изучение психики животных и детей раннего возраста, еще не владеющих речью: благодаря этому была показана принципиальная возможность дать характеристику ощущений, образов и чувств, обобщений, не обращаясь к интроспекции. Конечно, при этом исследователь не проникает в субъективные переживания, но это не накладывает принципиального ограничения на науч. познание психики: во-первых, не существует никаких оснований, требующих допустить, что на этих ступенях психич. развития имеется интроспекция; во-вторых, тот факт, что у человека эти явления существуют, лишь ставит новую задачу: показать необходимость их возникновения и их специфич. функцию. Т. о., существование субъективного психич. мира превращается из исходного постулата П. в проблему науч. исследования. Решающее значение в успешной разработке этой проблемы имел историч. подход к психике человека, т. е. рассмотрение ее как продукта развития специфически человеческой, трудовой деятельности. Переход к труду породил новую форму психич. отражения — человеч. сознание, в к-ром отражаемое «является» субъекту, открывается ему как картина мира, включающая и его собств. деятельность, и его собств. состояния. Труд как продуктивная целесообразная деятельность, подчиненная результату, на достижение к-рого она направлена, требует, чтобы этот результат был представлен в голове человека в такой субъективной форме, к-рая позволяет соотносить его с исходным материалом (предметом труда), этапами преобразования последнего и достигнутым результатом (продуктом труда). С др. стороны, это представление само должно активно видоизменяться субъектом на основе опыта деятельности и в соответствии с меняющимися ее условиями. Иными словами, оно должно существовать для субъекта так, чтобы он мог дать себе отчет в нем и совершать в своей голове действия с ним, а это и значит существовать для него интроспективно. Т. о., субъективные (интроспективные) сознат. явления отнюдь не представляют собой только эпифеномены, сопровождающие человеч. деятельность, но составляют ее обязательное внутр. условие. Действит. природа той как бы «удво-енности» отражения, к-рая характеризует сознание, раскрывается лишь объективным анализом условий и процесса осознания.
Историч. условия сознат. отражения возникают в той же деятельности, к-рая создает и его необходимость — в деятельности трудовой. В этом процессе превращения формы деятельности в форму покоящегося свойства или бытия (Маркс) происходит также и опредмечивание психич. деятельности человека. Побуждающий и регулирующий деятельность субъекта внутр. образ реализуется в ней и в ее продукте; в этой экстериоризованной своей форме он сам становится объектом психич. отражения. Происходящее в голове
422 ПСИХОЛОГИЯ
 человека соотнесение регулирующего деятельность представления с отражением объекта, воплотившего в себе это представление, и есть процесс осознания последнего. Этот процесс может реализоваться лишь в том случае, если объект выступит перед человеком именно как запечатлевший психич. содержание деятельности, т. е. своей идеальной стороной. Выделение этой последней осуществляется посредством языка, в процессе словесного означения. Поэтому осознанное есть всегда также словесно-означенное, вербализованное. В этой своей функции язык выступает уже не только как средство общения людей, но и как их практическое, действенное сознание, к-рое существует для индивида лишь постольку, поскольку оно существует для др. людей (Маркс). Система языка, носителя обществ, сознания, присваиваемая индивидами, и становится субстратом их сознания. Т. о., сознание как форма индивидуальной психики возможно лишь при условии существования обществ, сознания. С выделением и развитием духовного произ-ва, обогащением и технизацией языка сознание индивидов освобождается от прямой связи с практич. трудовой деятельностью; круг сознаваемого расширяется, и сознание становится у человека универсальной формой психич. отражения. Это, однако, не значит, что теперь все отражаемое в голове человека осознается им; это только значит, что все может им осознаваться. Одна из фундаментальных психологич. проблем и заключается в исследовании условий и процесса индивидуального осознания. Совр. исследования высших форм восприятия, речи и ее роли в регуляции целенаправл. деятельности, исследования формирования значений и др. дают достаточный материал для полного преодоления интроспекционистского, созер-цат. представления о человеч. психике.
человека соотнесение регулирующего деятельность представления с отражением объекта, воплотившего в себе это представление, и есть процесс осознания последнего. Этот процесс может реализоваться лишь в том случае, если объект выступит перед человеком именно как запечатлевший психич. содержание деятельности, т. е. своей идеальной стороной. Выделение этой последней осуществляется посредством языка, в процессе словесного означения. Поэтому осознанное есть всегда также словесно-означенное, вербализованное. В этой своей функции язык выступает уже не только как средство общения людей, но и как их практическое, действенное сознание, к-рое существует для индивида лишь постольку, поскольку оно существует для др. людей (Маркс). Система языка, носителя обществ, сознания, присваиваемая индивидами, и становится субстратом их сознания. Т. о., сознание как форма индивидуальной психики возможно лишь при условии существования обществ, сознания. С выделением и развитием духовного произ-ва, обогащением и технизацией языка сознание индивидов освобождается от прямой связи с практич. трудовой деятельностью; круг сознаваемого расширяется, и сознание становится у человека универсальной формой психич. отражения. Это, однако, не значит, что теперь все отражаемое в голове человека осознается им; это только значит, что все может им осознаваться. Одна из фундаментальных психологич. проблем и заключается в исследовании условий и процесса индивидуального осознания. Совр. исследования высших форм восприятия, речи и ее роли в регуляции целенаправл. деятельности, исследования формирования значений и др. дают достаточный материал для полного преодоления интроспекционистского, созер-цат. представления о человеч. психике.
Др. фундаментальная психологич. проблема — выявление природы тех внутренних, протекающих в голове человека, процессов, к-рые субъективно переживаются им как деятельность его сознания. Исследования интеллектуального поведения животных, изучение у человека т. н. наглядно действенного мышления и особенно исследование формирования внутренней мыслит, деятельности и других умств. процессов у детей вели к устранению в П. того абс. противопоставления внутренней, теоретической и внешней, практич. деятельности, из к-рого исходила старая субъективно-эмпирич. П. Была показана генетич. связь и общность принципиальной структуры этих форм деятельности, подробному исследованию подвергся и самый процесс преобразования внешних действий и операций во внутренние, умственные (процесс интериоризации). Вместе с тем перед психологическим исследованием выступил и противоположный процесс: процесс экстериоризации внутренней психической деятельности — ее развертывания во внешних формах.
Введение понятия деятельности как процесса, в к-ром осуществляется переход отражаемого в отражение, создает возможность теоретич. решения в П. также проблемы биологического и социального. Человек в своей деятельности вступает в отношения к действительности, созданной человечеством в ходе его историч. развития. Присвоение этой действительности индивидом приводит к преобразованию исходных биологич. форм его поведения и познания, его потребностей и чувств. Поэтому проблема биологического и социального в П. есть не проблема взаимоотношения двух разных факторов, детерминирующих психику человека, а проблема снятия законов биологич. развития психики законами ее обществ.-историч. развития.
По своему предмету П. связана с физиологич. изучением деятельности мозга. Успехи физиологии выс-
шей нервной деятельности привели часть исследователей к идее о сводимости психического к физиологическому. Эта идея играла прогрессивную роль и была оправдана, пока П. понималась как область чисто описат. знаний о субъективных явлениях. Однако раскрытие психич. отражения как детерминированного деятельностью, осуществляющей связи субъекта с предметной действительностью, не только выделило П. в самостоят, науку, но и позволило понять дёйст-вит. соотношение П. и нейрофизиологии: хотя и внешняя и внутр. деятельность осуществляются системой физиологич. процессов, они не могут быть выведены прямо из физиологич. законов. Так, предметные движения руки, вооруженной орудием, хотя и реализуются посредством физиологич. процессов, но управляют ими объективные свойства самого орудия, предмета труда, а также трудовая задача. То же соотношение обнаруживается и во внутренней, напр. поз-нават., деятельности. Конечно, эта деятельность является функцией мозга, однако ее строение, как и используемые в ней логич. операции, не выводимы из физиологич. законов работы мозга. Действит. отношения, связывающие психическое с физиологическим, вытекают из того факта, что работа мозга реализует деятельность субъекта, в частности его внутр. психич. деятельность. Поэтому полная характеристика психич. процессов включает в себя также характеристику реализующих их частных физиологич. механизмов. В связи с этим возникает особая задача: исследовать физиологич. механизмы и морфологич. основу тех или иных конкретных психич. процессов (цветовых ощущений, процессов зрит, поиска, воспроизведения звуков речи и т. п.). Решением этой задачи занимаются пограничные с П. дисциплины — психофизиология и нейропсихология. В свою очередь собственно психологич. исследования широко используют физиологические, особенно электрофизиологич. индикаторы, позволяющие выявить нек-рые особенности протекания психич. деятельности. Однако это не превращает психологич. исследование в физиологическое, подобно тому как применение в физиологии химич. индикаторов не превращает ее в биохимию.
Совр. П. представляет собой широко разветвленную область знания, включающую ряд отд. дисциплин и науч. направлений. Несмотря на прогрессивную дифференциацию отраслей П., она сохраняет единство своего предмета, общую направленность на изучение переходов отражаемого в психич. отражение, внешней деятельности в деятельность внутреннюю, психическую, а также переходов психич. отражения в форму деятельности и ее продукты; переходы эти образуют особую форму движения материи, продукт высших ступеней развития жизни.
А. Леонтьев. Москва.
История зарубежной П. У истоков детерминистич. понимания психики стояли Гераклит и Демокрит, к-рые трактовали душу как огненное вещество, придающее телу жизнь. Медицинские наблюдения и ана-томич. исследования привели к признанию мозга органом психич. деятельности (Алкмеон Кротон-ский), к зарождению учения о темпераментах как различных пропорциях в смеси четырех физич. элементов, определяющих индивидуальные особенности личности (Гиппократ и его школа), а также о пневме как носителе психич. актов. Однако с позиций учения о душе как одном из видов материи нельзя было объяснить происхождение идеальных продуктов — понятий, слов, чисел, что создавало предпосылки для превращения этих продуктов в сущности, пребывающие по ту сторону изменчивой природы. Способная к созерцанию идей душа была противопоставлена телу и объявлена бессмертной (пифагорейцы, Платон). В учении Аристотеля было утверждено понимание
психология
423
 души как способа организации живого тела и его поведения. В трактатах «О душе», «О происхождении животных» и др. Аристотель изложил первую систему исихологич. понятий. Лишь при объяснении высших форм умств. активности (учение о нусё) он покидал естеств.-науч. почву и склонялся к дуализму. В эл-линистич. период материалистич. подход к психике отстаивали перипатетики, Эпикур и ранние стоики, в Древнем Риме — Лукреций и Лукиан; линия Платона развивалась неоплатониками. Позиции материализма были укреплены успехами анатомии и медицины: Герофил и Эрасистрат открыли нервы, отличив их от мышц и сухожилий, различили чувствительные и двигат. нервы (это открытие было забыто), изучали зависимость чувствительности организма и его двигат. реакций от головного мозга. У Галена складывается детально разработанная схема строения и функций нервной системы, господствовавшая почти полтора тысячелетия. От гилозоизма мысль переходит к строгому расчленению неодушевленного и живого, а собственно психическое отделяется от общебиоло-гического. Следующей ступенью явилась дифференциация внутри самого психического, зарождение понятия о сознании. Однако единство человеч. сознания, способного к интроспекции, не укладывалось в на-туралистич. схему; поэтому возникли новые попытки утвердить имматериальность психики (Плотин, Августин). Гарантом истинности знания была объявлена душа, к-рая живет и движется в божестве, «поворачивается к себе», постигая с предельной достоверностью собств. деятельность и ее незримые продукты. Система аргументов Августина на века стала путеводной нитью для враждебной детерминизму интроспективной П.
души как способа организации живого тела и его поведения. В трактатах «О душе», «О происхождении животных» и др. Аристотель изложил первую систему исихологич. понятий. Лишь при объяснении высших форм умств. активности (учение о нусё) он покидал естеств.-науч. почву и склонялся к дуализму. В эл-линистич. период материалистич. подход к психике отстаивали перипатетики, Эпикур и ранние стоики, в Древнем Риме — Лукреций и Лукиан; линия Платона развивалась неоплатониками. Позиции материализма были укреплены успехами анатомии и медицины: Герофил и Эрасистрат открыли нервы, отличив их от мышц и сухожилий, различили чувствительные и двигат. нервы (это открытие было забыто), изучали зависимость чувствительности организма и его двигат. реакций от головного мозга. У Галена складывается детально разработанная схема строения и функций нервной системы, господствовавшая почти полтора тысячелетия. От гилозоизма мысль переходит к строгому расчленению неодушевленного и живого, а собственно психическое отделяется от общебиоло-гического. Следующей ступенью явилась дифференциация внутри самого психического, зарождение понятия о сознании. Однако единство человеч. сознания, способного к интроспекции, не укладывалось в на-туралистич. схему; поэтому возникли новые попытки утвердить имматериальность психики (Плотин, Августин). Гарантом истинности знания была объявлена душа, к-рая живет и движется в божестве, «поворачивается к себе», постигая с предельной достоверностью собств. деятельность и ее незримые продукты. Система аргументов Августина на века стала путеводной нитью для враждебной детерминизму интроспективной П.
В феод, эпоху развитие положит, знаний о психике резко замедлилось. Однако и здесь естеств.-науч. мысль пробивает себе дорогу в физиологич. П. Ибн Сипы, в борьбе номиналистов с реалистами и др.
17 век открывает принципиально новый подход к психич. деятельности, на к-рую распространяется принцип детерминизма (первоначально в его механи-стич. выражении). Декарт открывает рефлекторную природу поведения, а понятие о душе преобразует в нетеологич. понятие о сознании как непосредств. знании субъекта о собств. психич. актах. В эту же эпоху складывается ряд важнейших исихологич. учений: об ассоциации (Декарт, Гоббс, Локк), о страстях (Декарт) и аффектах (Спиноза), об апперцепции и бессознательном (Лейбниц), о происхождении знания из индивидуального чувств, опыта (Локк). Под влиянием механики Ньютона Гартли создает систему, объединившую ассоциативный принцип с рефлекторным. Материалистич. ассоциационизм вскрыл закономерный характер течения процессов сознания в зависимости от частоты и последовательности контактов организма с внешним миром, а также др. реальных факторов (т. н. законы ассоциации). Учение об ассоциации как осн. механизме душевной деятельности определяло облик большинства психологич. концепций 18—19 вв., как материалистических, так и идеалистических.
Франц. материализм 18 в. выдвинул учение о различных уровнях нервно-психич. организации (Дидро, Кабанис) и поставил проблему формирования личности, ее интересов и способностей в зависимости от воздействий социальной среды (Дидро, Гельвеций).
В русле материалистич. мировоззрения складываются и психологич. идеи Ломоносова, Радищева и др. прогрессивных рус. мыслителей. Для 1-й пол. 19 в. характерен расцвет нейрофизиологии. В центре ее интересов первоначально находилось выяснение однозначной зависимости функций от анатомич. структур. Опытное изучение нервной деятельности
приводит к открытию механизма рефлекторной дуги (Прохаска, Белл, Мажанди). В недрах физиологии зародились экспериментальные методы исследования психич. функций, а также первые попытки ввести в анализ этих функций количеств, оценки. Изучая изменения ощущений при изменении силы раздражителей, Э. Вебер установил наличие определ. закономерности в соотношении психического и физического. Работы Вебера были использованы Фехнером, сформулировавшим т. н. основной психофизич. закон (см. Ощущение). Др. направление, внесшее эксперимент и количеств, подход в анализ психики, связано с исследованием скорости реакции. Гельмгольц (1850) определил скорость передачи возбуждения по нерву. В 60-х гг. дат. психофизиолог Ф. Дондерс предложил схему для вычисления скорости психич. процессов как проявлений мозговой деятельности.
Развитие рефлекторной концепции, физиологии органов чувств, учения о времени реакции, а также становление эволюц. теории в биологии утвердило представление о том, что психическое включено в работу биологич. систем как фактор, имеющий объективную ценность. Вместе с тем логика развития опытного знания вела к укреплению идеи о том, что психич. явления подчинены законам, не совпадающим с анатомо-физиологическими, и тем самым ставила вопрос о праве П. на самостоят, существование. Выдвигается неск. программ построения П. как опытной науки. Наибольшую популярность приобрела первоначально программа Вундта, направленная на объединение всех современных ему концепций. Но синтез, к-рого он добивался, предполагал объединение направлений, не совместимых по своей идейной сути: интроспективной концепции сознания с детерминистич. психофизиологией. Поэтому теоретич. концепция, посредством к-рой Вундт стремился придать единство возглавленному им движению за построение экспериментальной П., не выдержала испытания временем. Тем не менее в организац. оформлении экспериментальной П. заслуги Вундта весьма велики. Он создает первую психологич. лабораторию (Лейпциг, 1879), по образцу к-рой возникают аналогичные учреждения в России, США, Англии и др. странах. Появляются спец. периодич. издания. Открываются кафедры в ун-тах. Созываются междунар. конгрессы (1-й в Париже в 1889). В 70—80-е гг. и произошло становление П. как самостоят, области знания.
Большинство психологов-эксперименталистов находилось в те годы под влиянием интроспективной трактовки сознания как совокупности феноменов, доступных только непосредственно переживающему их субъекту. На необходимости выйти за пределы интроспекции и вскрыть зависимость сознания от объективных факторов настаивали мн. приверженцы «опытной школы» (Бэн, Рибо). Спенсер в имевших большое влияние «Принципах психологии» требовал дополнить субъективную П. объективной. Амер. психофизиолог Дж. Раш разработал оригинальную систему, в к-рой факты сознания трактовались как порождения способной отражать внешний мир материи. Последоват. программу построения П. на базе объективного метода выдвинул Сеченое, идеи к-рого (через И. П. Павлова) повлияли на разработку объективных методов в мировой П. Сеченовские работы стимулировали и развитие прогрессивных учений в России (Лесгафт, Бехтерев, Н. Н. Ланге, Корсаков, Токарский, И. П. Павлов).
Помимо проблем, поставленных еще ранее психофизикой и психофизиологией, экспериментальная П. подвергла опытному изучению и ассоциации, к-рые изучались сначала с т. зр. скорости их возникновения, а затем на основе экспериментов по памяти (прежде всего Эббингауза) были установлены наиболее общие
424
ПСИХОЛОГИЯ
 зависимости ассоциаций от частоты повторений и распределения во времени. Были проведены работы по изучению объема внимания (Кэттел), навыков (Брайан и Хартер) и др. Параллельно развивались сравнит. П. (Дарвин, Леб, Ллойд-Морган), а также исследования эмоций (Джемс, Г. Ланге, Рибо), восприятия (рус. психолог Н. Н. Ланге), двигат. ощущений (Бастиан, Мюнстерберг и др.). Экспериментальная П. складывалась на почве понятий и методов естеств. наук. Социальная же природа психич. деятельности человека впервые получила детерминистич. объяснение в марксистском учении, к-рое, однако, стало методология, основой психологич. работы лишь после Великой Октябрьской революции.
зависимости ассоциаций от частоты повторений и распределения во времени. Были проведены работы по изучению объема внимания (Кэттел), навыков (Брайан и Хартер) и др. Параллельно развивались сравнит. П. (Дарвин, Леб, Ллойд-Морган), а также исследования эмоций (Джемс, Г. Ланге, Рибо), восприятия (рус. психолог Н. Н. Ланге), двигат. ощущений (Бастиан, Мюнстерберг и др.). Экспериментальная П. складывалась на почве понятий и методов естеств. наук. Социальная же природа психич. деятельности человека впервые получила детерминистич. объяснение в марксистском учении, к-рое, однако, стало методология, основой психологич. работы лишь после Великой Октябрьской революции.
Невозможность проанализировать сознание пси-хофизиологич. методами дала повод считать само сознание недоступным детерминистич. анализу. Популярной становится идея о двух принципиально несовместимых подходах к психике: естественнонаучном и культурно-историческом (Вундт, Дилътей, Риккерт и др.). В это же время Дюркгейм, Мид, Болдуин и др. пытаются утвердить конституирующую роль социальных связей и продуктов по отношению к индивидуальному сознанию. При этом, однако, социальность рассматривается абстрактно, как «чистое» общение. Социогенез личности и ее психич. функций не получает истинно каузального истолкования. Обществ, бытие сводится к обществ, сознанию, а последнее либо психологизируется (Тард), либо био-логизируется. Тем не менее эти концепции отмечены несомненной новизной подхода и оказали существ, влияние на ряд психологич. направлений.
Запросы педагогической, медицинской, кримина-листич. практики, а затем во все возрастающих масштабах требования капиталистич. произ-ва создали необходимость в разработке методов определения индивидуальных различий между людьми. Один из инициаторов этого направления (получившего название дифференциальной П.) Ф. Гальтон разработал технику статистич. изучения свойств и способностей личности. Позднее с целью измерения умств. способностей стали применяться тесты. П. получает широкий выход в практику, применяется при решении проблем организации труда, проф. пригодности, проф. обучения, изучения сбыта, рекламы и др. Работы в области прикладной П. щедро субсидируются как капиталистич. фирмами, так и гос-вом. Широкое развитие экспериментальных исследований привело к пересмотру ряда исходных принципов совр. бурж. П. Вундтовская схема «субъект и наблюдаемые им процессы внутр. мира» постепенно вытесняется схемой «среда и организм, приспосабливающийся к ней». Вюрцбургская школа в ходе экспериментального изучения мышления пришла к выводам, к-рые фактически подрывали ее исходную интроспекционистскую схему, поскольку выяснилось, что процесс мышления детерминируется установкой — задачей, к-рая направляет мысли субъекта, однако им вовсе не осознается. Против субъективного метода школы Титченера (где от психолога требовалось сосредоточиться на элементах сознания как таковых, абстрагируясь от их предметного значения и роли в поведении) выступил т. н. функционализм (Дьюи, Эйнджелл), трактовавший психику как орудие приспособления к среде, «аккомодации к новому». Наряду с этим направлением функциональной П., восходящим к Джемсу, имелись и другие, представленные в Англии Уордом и Стоутом, в Германии — Штумпфом, в Дании — Гёффдингом, в Швейцарии — Клапаредом. Функционалисты подготовили почву для появления бихевиоризма, ставшего гл. течением в амер. П. 20 в. В бихевиоризме односторонне преломилась потребность в перестройке П. на основе объективного метода: под влиянием по-
зитивизма психич. реальность была отождествлена с непосредственно наблюдаемыми внешними проявлениями поведения, а формула «стимул — реакция» трактовалась как конечная единица отношений организма к среде. Бихевиоризм дал мощный импульс развитию исследований по проблеме научения. Укрепляя объективный подход к поведению, бихевиоризм стал одним из факторов прогресса П. Но в борьбе с субъективной П. он сам находился под влиянием выдвинутых ею воззрений на сознание и поэтому требовал искоренить все понятия о психич. явлениях, найдя для них телесные эквиваленты (логич. мышление — реакция речевого аппарата, чувство — реакции внутр. органов и т. д.). Бихевиоризм проделал сложную эволюцию — от прямолинейно-механистич. схемы Уотсона к связанному с неореализмом учению Э. Холта, от к-рого идут попытки восстановить к правах прежние психологич. понятия, однако в новой, поведенческой интерпретации.
Гешталътпсихология подвергла критике психологич. атомизм и направила усилия на исследование целостного, структурного характера психич. деятельности, однако при этом она рассматривала интеллект чисто статически, вне развития.
На рубеже 20 в. сложился психоанализ Фрейда, начавший с интерпретации психоневрологич. материала и расширивший свои претензии до масштабов общей теории психич. деятельности, в основу к-рой был положен тезис о предопределенности всех психич. актов энергией слепых сексуальных влечений (либидо). После первой мировой войны Фрейд внес коррективы в свою концепцию, введя в нее категорию «Сверх-Я» (Super-Ego), указывающую на социальную детерминацию поведения. Однако социальность при этом оказалась сведенной к биологическому, во многом — к чисто сексуальному. Из школы Фрейда вышли вскоре разошедшиеся с учителем Адлер и Юнг. Адлер, отклонив мнение о всесилии сексуальности, признал осн. двигателем поведения стремление к превосходству, при неудовлетворении к-рого возникает «комплекс неполноценности», порождающий «сверхкомпенсацию». Юнг сделал упор на «коллективном бессознательном», понимая под ним доисторич. архетипы мысли, накладывающие ограничения на всю последующую умств. работу человечества. Био-логизация механизмов сознания в учении Юнга и др. психоаналитиков использовалась для расистских выводов в фашистской Германии (Йенш, Зандер и др.).
В 30—40-е гг. в зарубежной П. резко усиливается тенденция к сближению и переплетению концепций, выдвинутых в предшествующий период. Это происходит на фоне быстрого совершенствования экспериментальной техники и методов, возрастающего размаха исследований, непосредственно связанных с социальной, инженерной и воен. практикой. В методологич. плане, однако, П. по-прежнему отличает эклектичность, отсутствие обобщающих теорий, к-рые бы позволили охватить в единой непротиворечивой системе весь эмпирич. материал. Значит, влияние приобрел логич. позитивизм. Сдвиги происходят как в бихевиоризме, так и в психоанализе (гештальтизм как самостоят, направление вообще сходит со сцены, его идеи ассимилируют др. школы). В необихевиористских теориях (Толмен, К. Холл и др.) на передний план выдвигается понятие о «промежуточных переменных», т. е. о тех факторах, к-рые опосредствуют двигат. реакцию (зависимая переменная) на раздражитель (независимая переменная).
В 50—60-х гг. окончательно побеждает тенденция исследования «центр, процессов», развертывающихся между сенсорным «входом» и моторным «выходом» системы организма. Эта тенденция, порожденная логикой развития самой науки и требованиями практи-
ПСИХОЛОГИЯ 425
 ки, утверждается, в частности, благодаря опыту программирования на вычислит, машинах.
ки, утверждается, в частности, благодаря опыту программирования на вычислит, машинах.
С 60-х гг. широкое междунар. признание получает концепция Ж. Пиаже, к-рый стремится рассматривать П. как одну из наук целостного комплекса дисциплин, занятых изучением человека, и в этой связи пытается построить как биологическое, так и социологич. обоснование предмета П. Характерным для Пиаже является постоянное стремление сочетать в психоло-гич. исследовании методы логики и П., в частности аппарат математич. логики. Пиаже отстаивает системный подход к психике, пытаясь построить особую «логику целостностей», в этом смысле он сделал важный шаг вперед по сравнению с гешталыизмом, дополнив принцип структурности принципом генетизма.
Предпринимаются попытки рассмотреть нейрофи-зиологич. механизмы как компонент общей структуры поведения (Хебб, Прибрам), распространить объективный метод на изучение чувственно образного аспекта жизнедеятельности (Брюнсвик, Гибсон).
Под воздействием математич. логики, кибернетики и теории информации в П. нарастает тенденция к формализации, выступившая уже в «гипотетико-де-дуктивном» бихевиоризме К. Холла. В системе К. Левина понятия топологии были использованы для объяснения динамики мотивов индивидуального и группового поведения. Левин был инициатором экспериментального изучения личностных отношений, т. е. взаимодействия индивидов в группах различной степени общности. Эти работы образовали новое направление в социальной психологии. Трансформации подвергся и психоанализ, из недр к-рого вышел неофрейдизм, связавший бессознат. психич. механику с действием социально-культурных факторов (Хорни, Салливан, Фромм) и соответственно перестроивший психотерапию, к-рая используется не только для лечения невротиков, но и с целью помочь нормальным людям избавиться от чувства беспомощности, страха, неудовлетворенности. Резко возрастает число проф. психологов-консультантов, в функции к-рых входит содействие индивиду в «оптимальной адаптации» к социальным условиям.
Неудовлетворенность биологизаторскими и идеа-листич. концепциями способствовала пробуждению у передовых психологов бурж. стран (Полицер, Валлон, Фрес, Уэлс и др.) живого интереса к диалек-тико-материалистич. пониманию психич. деятельности, достижениям СОВ. П. М. Ярошевский. Ленинград.
История советской П. Накануне Октябрьской революции в России П. развивалась в сложных и противоречивых условиях. Крайнюю правую группировку в ней составляли философы-психологи (А. И. Введенский, Л. М. Лопатин, Н. О. Лосский, С. Л. Франк и др.), стоявшие на позициях нем. идеалистич. философии и П. Им противостояло естеств.-науч. направление («объективная П.» или «психорефлексология» Бехтерева, «биопсихология» В. А. Вагнера, «реальная П.» Н. Н. Ланге), развивавшееся в тесной связи с идеями И. М. Сеченова и И. П. Павлова. Позиция организатора Моск. психологич. ин-та Г. И. Челпа-нова была двойственной: тяготея в своих общетеоретич. построениях к идеалистич. П. («Мозг и душа», М., 1912), он в то же время способствовал развитию экспериментальных психологич. исследований.
В первые послереводюц. годы ведущую роль играет естеств.-науч. направление, провозглашающее союз с естествознанием (биологией, физиологией, эволюц. теорией) и выступающее с идеями построения П. как объективной науки. В развитии этого направления важнейшую роль играет учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. В эти же годы в работах Бехтерева и Корнилова определяются черты ведущих направлений П. тех лет — рефлексологии и реакто-
логии. На 1-м Всеросс. съезде по психоневрологии (10—15 янв. 1923) в докладе Корнилова впервые в истории мировой П. выдвигается требование применить марксизм в области П. Вокруг Моск. психологич. ин-та, возглавляемого (с 1923) Корниловым, группируются молодые науч. работники, стремящиеся реализовать программу построения марксистской П. (Н. Ф. Добрынин, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, В. А. Артемов и др.); видная роль принадлежит Л. С. Выготскому.
На 2-ю пол. 20-х гг. приходятся первые опыты создания марксистской П. При всей очевидности того, что П. не может оставаться «наукой о душе», сов. психологи испытывали еще значит, трудности при определении предмета изучения П. В этих условиях в реактологии и рефлексологии складывается мехаии-стич. трактовка ее как науки о поведении. Однако формирующиеся в этот период психологич. концепции, связанные с проникновением в П. принципов ленинской теории отражения и диалектико-материа-листич. учения о развитии (теория историч. развития высших психич. функций Л. С. Выготского, генетич. принцип трактовки психич. процессов у П. П. Блон-ского и др.), вскоре перерастают те методологич. предпосылки, к-рые допускала трактовка П. как науки о поведении. Это осознается передовыми психологами. Важнейшая черта перестройки П., к-рая приходится на начало 30-х гг. и сопровождалась дискуссиями по общей П., заключалась в утверждении сознания в качестве ее предмета. Начиная со 2-й пол. 20-х гг. на первый план выдвигаются прикладные отрасли П.: психотехника и П. труда, детская и педагогич. П., судебная П. и др. Сов. психологи активно участвуют в решении проблем перестройки произ-ва, науч. организации труда (НОТ), социального воспитания, культурно-массовой работы и др. Социальная значимость разрабатываемых науч. проблем становится осн. нервом исследовательской работы. В то же время в области прикладной П. продолжается идейно-теоре-тич. борьба: критика теории «двух факторов» в педа гогич. и детской П., «наследственно-биологич.» направления в патопсихологии и характерологии и т. п.
В теоретич. оформлении основ сов. П. существ, роль играло становление диалектич. концепций, прежде всего теории происхождения, структуры и развития высших психич. функций Выготского. В трудах Выготского и его сотрудников складывался историч. подход к изучению психики человека, связанный с двумя гипотезами: об опосредствованном характере психич. деятельности и о происхождении внутр. психич. процессов из деятельности первоначально внешней и «интерпсихической». Историзм в трактовке психики человека получает дальнейшее развитие в работах А. Н. Леонтьева и его сотрудников, где психич. деятельность рассматривается как особая форма деятельности, продукт и дериват внешней материальной деятельности, к-рая преобразуется в ходе обществ.-историч. развития во внутр. деятельность че-ловеч. сознания (А. Н. Леонтьев, Проблемы развития психики, М., 1959; Ленинская премия в 1963). В книгах Блонского формулируется подсказанная принципами диалектич. подхода генетич. теория развития памяти и мышления. Большое внимание привлекают работы С. Л. Рубинштейна, в к-рых обосновывается принцип детерминизма в П., рассматриваются основы теории мышления, обстоят, критике подвергаются зарубежные психологич. теории.
Перестройка П. на основе теории отражения выдви-нулана первый план разработкупроблемы психологич. структуры познават. процессов. Важное значение приобретает изучение переходов от ощущения к мышлению, а также интеллектуального опосредствования ощущений (Б. Г. Ананьев), исследование зрит, ощуще-
426
ПСИХОЛОГИЯ
 ний, чувствительности и сенсибилизации органов чувств (С. В. Кравков, К. X. Кекчеев), слуховых ощущений (Б. М. Теплое) и т. д. Первоначально возникнув в области изучения восприятий, все более широкий размах приобретают исследования, связанные с теорией установки (Д. Н. Узнадзе) и давшие возможность реализовать оригинальный подход к проблемам активности личности и бессознательного. В предвоен. годы заметные сдвиги наблюдаются в исследовании навыков (Л. А. Шварц, Е. В. Гурьянов и др.), внимания (Н. Ф. Добрынин), памяти (А. А. Смирнов, П. И. Зин-ченко, Н. А. Рыбников, Л. В. Занков), мышления (П. А. Шеварев, П. Я.Гальперин, А. В. Запорожец, Н. А. Менчинская, Л. И. Божович). Тогда же намечаются предпосылки для создания диалектико-ма-териалистич. концепции способностей и их развития в процессе деятельности (Б. М. Теплов). Интерес к П. личности, определившийся в это время, связан с учением А. С. Макаренко о развитии личности в коллективе.
ний, чувствительности и сенсибилизации органов чувств (С. В. Кравков, К. X. Кекчеев), слуховых ощущений (Б. М. Теплое) и т. д. Первоначально возникнув в области изучения восприятий, все более широкий размах приобретают исследования, связанные с теорией установки (Д. Н. Узнадзе) и давшие возможность реализовать оригинальный подход к проблемам активности личности и бессознательного. В предвоен. годы заметные сдвиги наблюдаются в исследовании навыков (Л. А. Шварц, Е. В. Гурьянов и др.), внимания (Н. Ф. Добрынин), памяти (А. А. Смирнов, П. И. Зин-ченко, Н. А. Рыбников, Л. В. Занков), мышления (П. А. Шеварев, П. Я.Гальперин, А. В. Запорожец, Н. А. Менчинская, Л. И. Божович). Тогда же намечаются предпосылки для создания диалектико-ма-териалистич. концепции способностей и их развития в процессе деятельности (Б. М. Теплов). Интерес к П. личности, определившийся в это время, связан с учением А. С. Макаренко о развитии личности в коллективе.
Всеобщее признание получает понимание обществ.-историч. обусловленности сознания человека. На этой основе исследуются различные формы активности личности: направленности личности (С. Л. Рубинштейн), установок как модификаций личности (Д. Н. Узнадзе), отношений (В. Н. Мясищев) и др. В П. прочно утверждается принцип развития. Сов. психологи исходят из единства сознания и деятельности, находя основу объективного познания психики и получая возможность правильного решения вопроса о методах П. Исследуя структуру человеч. сознания, П. начинает нащупывать межфункциональные связи и отношения (о к-рых еще в 20-е гг. говорил Выготский), преодолевая узкий функционализм в трактовке психич. процессов. Однако эта задача не была решена гл. обр. потому, что это требовало перестройки самой системы понятий в П.— теоретически утверждаемый принцип единства психич. деятельности вступал в противоречие с традиц. схемой изолированных психич. функций. Разрешение этого противоречия становится одним из факторов дальнейшего развития сов. П.
В период Великой Отечеств, войны в сов. П. широко развернулись работы оборонной тематики (изучение условий повышения чувствительности зрения и слуха, свето- и звукомаскировки, восстановления боеспособности и трудоспособности раненых и т. д.).
В послевоен. годы продолжается интенсивная разработка теоретич. и экспериментальных проблем сов. П., проводятся дискуссии по важнейшим методологич. проблемам, выявляются разнообразные науч. школы и течения. Создание Академии педагогич. наук РСФСР (1943) явилось важным фактором, способствовавшим широкому включению психологов в разработку проблем обучения и воспитания. На трех всесоюзных совещаниях по П. (в 1952, 1953 и 1955) подводятся итоги выполненной в послевоен. период большой работы в области П. личности и воспитания, физиологич. механизмов психич. деятельности человека, П. позна-ват. процессов и др. В 1957 было учреждено Об-во психологов при АПН РСФСР, а в 1959 состоялся его первый съезд. Разработка осн. проблем П. осуществляется в исследованиях В. А. Артемова, Е. И. Бойко, П. Я. Гальперина, Ф. Д. Горбова, В. В. Давыдова, Н. Ф. Добрынина, Н. И. Жинкина, Л. В. Занкова, А. В. Запорожца, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, Н. А. Менчинской, В. Д. Небылицына, К. К. Платонова, С. Л. Рубинштейна, П. А, Рудика, А. Н. Соколова, Е. Н. Соколова, А. А. Смирнова, Б. М. Теплова, Ф. Н. Шемякина, П. А. Щеварева, Е. А. Шороховой, Д. Б. Эльконина, П. М. Якобсона (Москва), Б. Г. Ананьева, Л. М. Веккера, В. Ф. Ломова, В. Н. Мясищева, М. Г. Ярошевского (Ленинград), Г. С. Костюка (Киев), Р. Г. Натадзе, А. С.
Прангишвили, 3. И. Ходжава (Тбилиси), П.И. Зинченко (Харьков), М. А. Мазманяна (Ереван), В. С. Мерлина (Пермь), И. В. Страхова (Саратов), Д. Г. Элькина (Одесса) и мн. других. Для сов. П. конца 50-х —1-й пол. 60-х гг. характерно развитие отраслей, важных для нар. х-ва и культуры (педагогич. П., социальная П., инженерная П., космич. П. и др.), тесный контакт со смежными науками (логикой, педагогикой, кибернетикой, социологией и т. д.), широкое использование электроники и новейшей экспериментальной техники, факторного анализа, моделирования психич. функций. Эти новые черты сов. П. обнаруживаются в содержании работы 2-го съезда Об-ва психологов (1963).
Заметно расширяются и углубляются связи сов. П. с зарубежными психологами. Это выражается в совместном участии в междунар. съездах и конференциях, переводе и издании книг, использовании и проверке эксперимент, методик и т. п.
В наст, время в СССР н.-и. работа ведется во мн.
психология, учреждениях и лабораториях. В Моск.
и Ленингр. ун-тах организованы психологич. фак-ты.
Очередной (18-й) междунар. конгресс психологов сос
тоялся в Москве (авг. 1966), президент конгресса —
А. Н. Леонтьев. А. Петровский. Москва.
Структура совр. П. Строгой классификации психологич. науки по отраслям не существует. Ориентируясь на фактич. положение дел в совр. П., ее можно разделить на общую П. и социальную психологию. Последняя, занимая на первых порах промежуточное положение между П. и социологией, по мере кон-ституирования и уточнения своего предмета все более обособлялась и в наст, время представляет собой вполне самостоят, науку, обладающую развитыми собств. методами исследования, хотя и не утратившую связи со своими базовыми дисциплинами.
Если иметь в виду предметное содержание П., то одна из возможностей ее классификации содержится в принятом в П. принципе единства развития и деятельности. Исходя из этого, в качестве основания классификации П. могут быть избраны психологич. аспекты: 1) конкретной деятельности, 2) развития, 3) отношения личности (как субъекта развития и деятельности) к обществу (в к-ром осуществляется ее деятельность и развитие).
Если за основу принимается первое основание, то определяется след. ряд отраслей П.: психология т р у-д а, в свою очередь подразделяющаяся на инженерную, авиационную (исследование психологич. закономерностей деятельности в процессе летного обучения и выполнения полетов), космич. П.; педагогич. П., изучающая психологич. закономерности обучения и воспитания человека; медицинская П., изучающая психологич. аспекты деятельности врача и поведения больного и подразделяющаяся па нейропсихологию (исследование динамич. локализации психич. явлений, соотношение психич. функцион. структур с мозговыми физиологич. структурами), психофармакологию (изутчение влияния лекарств, веществ — т. н. психотропных веществ — на психич. деятельность), психотерапию (изучающую и использующую средства психич. воздействия для лечения больного), психопрофилактику и психогигиену (разрабатывающую систему мероприятий для обеспечения психич. здоровья людей); ю р и д и ч. П., рассматривающая психологич. аспекты деятельности, связанной сре-ализацией системы права, подразделяется на судебную П., исследующую психологию участников уголовного процесса, криминальную П. (психологич. проблемы поведения и формирования личности преступника, мотивы преступления и т. п.), пенитенциарную или исправительно-трудовую П.; военная П.; психология торговли; П. спорта, иссле-
психология
427
 дующая психологич. особенности личности и деятельности спортсмена, условия и средства психологич. подготовки спортсменов и психологич. факторы, связанные с организацией и проведением соревнований; П. научного и художеств, творчества, по своему предмету тесно смыкающаяся с эвристикой.
дующая психологич. особенности личности и деятельности спортсмена, условия и средства психологич. подготовки спортсменов и психологич. факторы, связанные с организацией и проведением соревнований; П. научного и художеств, творчества, по своему предмету тесно смыкающаяся с эвристикой.
Если за основу классификации принять психологич. аспекты развития, то П. разветвляется на в о з р а с т-н у ю П., подразделяющуюся на детскую П., психологию подростка, П. юности, геронтопсихологию; П. анормального развития (патопсихология, олигофренопсихология, сурдопсихология и т. д.); с р а в н и т. П.
Если же классифицировать отрасли П. с т. зр. психологич. аспектов взаимоотношения личности и общества, то вычленяются такие отрасли, как и н д и-в и дуальная П. (прежде всего П. личности) и общественная П. (социальная П.), исследующая П. коллектива, малых групп, П. религии и т. д.
Дифференциация П. дополняется встречным процессом интеграции, в результате к-рого осуществляется «стыковка» П. с др. науками (через инженерную П.—с техникой, через социальную П.— с социологией и т. д.). Вместе с тем внутри психологич. науки обнаруживаются возможности объединения ранее не связанных между собой отраслей. Так, на основе утверждающейся в наст, время трактовки формирования личности в трудовой деятельности не непосредственно, а через трудовой коллектив, намечается тенденция сближения социальной П. и П. труда, имеющих различные историч. корни.
Поскольку в конкретном психологич. исследовании все три аспекта соотношения деятельности и развития личности в обществе органически слиты, любые схемы классификации оказываются относительными.
Определ. представление о конкретном содержании
совр. П. может быть получено в результате знаком
ства с такими ее отраслями, как П. труда, инженер
ная П., космич. П., военная П., психология творчества,
сравнит. П. И детская П. А. Петровский. Москва.
П. детская — раздел П., изучающий онтогенез различных психич. процессов, психологич. особенности разных видов детской деятельности (игры, учения, труда), формирование качеств детской личности. J3 качестве особой науч. дисциплины детская П. сложилась в сер. 19 в.
Исследования в области детской П. показали, что наследств, особенности нервной системы и процессы ее созревания представляют собой необходимое условие психич. развития ребенка, но не являются движущими причинами этого развития. Духовные способности человека формируются на основе прирожденных анатомо-физиологич. предпосылок или «задатков» под влиянием условий жизни и воспитания (Б. М. Теплов и др.). Ведущую роль в онтогенезе человоч. психики играет обучение, в ходе к-рого ребенок овладевает обществ, опытом, накопленным предшествующими поколениями. В результате обучения происходит не только обогащение ребенка известной суммой знаний и умений, но и качеств, перестройка его психич. процессов, образование новых функцион. систем, формирование новых способностей и качеств личности. Усвоение детьми обществ, опыта происходит в активной форме, в процессе деятельности (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.). Как показали исследования (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, П. И. Зинченко, Г. С. Кос-тюк, Н. А. Менчинская и др.), развитие психич. процессов и формирование свойств личности существ, образом зависят от характера деятельности ребенка и тех возрастных изменений, к-рые в ней происходят на протяжении детства. Между внешней, практической и внутр., психич. деятельностями существуют
сложные генетич. и функцион. зависимости. Так, исследования формирования у детей интеллектуальных процессов и понятий, проведенные П. Я. Гальпериным, Д. Б. Элькониным и др., обнаружили закономерные переходы от материальных к идеальным действиям, совершаемым в уме, в плане представлений. Признание детерминированности психич. развития ребенка условиями жизни и воспитания не означает отрицания внутр. логики этого развития, известной его «спонтанейности». На разных генетич. ступенях дети оказываются особо чувствительными, «сензитивными» к определ. содержаниям, тогда как другие усваиваются ими плохо или вовсе не усваиваются (Выготский). В процессе развития, особенно в переходные периоды детства, возникают противоречия, приобретающие иногда острую форму «возрастных кризисов» (как это, напр., имеет место при кризисе в подростковом возрасте). Важное значение имеет противоречие между возросшими физическими и духовными возможностями ребенка и старыми, ранее сложившимися формами взаимоотношений с окружающими и видами деятельности. Это противоречие разрешается путем установления новых взаимоотношений и формирования новых видов деятельности, что знаменует собой переход ребенка на более высокую ступень психич. развития. В совр. сов. исследованиях показана относительность, историчность возрастных лимитов и стандартов, что имеет важнейшее значение для теории обучения.
А. Запорожец. Москва.
П. труда изучает психологич. особенности трудовой деятельности человека. Развитие П. труда началось в 20 в. в связи с движением НОТ — науч. организации труда.
К началу 1-й мировой войны центр, место в П. труда заняли проблемы проф. отбора. В этой связи широкое применение получил метод тестов, с помощью к-рых пытались определять и количественно оценивать предпосылки к успешному овладению той или иной профессией. Наряду с различиями в проф. способностях были вскрыты и различия в проф. склонностях, интересах и мотивах, побуждающих людей предпочитать одни профессии другим. Возникла потребность в организации спец. консультационных бюро по оказанию помощи подросткам, выбирающим профессию. Так выросла спец. ветвь П. труда, известная под именем проф. отбора и проф. консультации.
Особое направление в П. труда составляют исследования, посвященные изучению законов упражнения и развития навыков и качеств, важных для различных видов труда.
Предпосылкой еще одного направления исследований в области П. труда послужили эмпирич. данные о колебаниях работоспособности, в первую очередь связанных, с утомлением, суточным ритмом. Возникла необходимость в изыскании спец. методов, с помощью к-рых можно было бы измерять утомляемость и степень снижения работоспособности. В этом русле П. труда, как правило, координирует свои усилия с физиологией труда. Вплотную к этому разделу П. труда примыкает в методич. отношении близкий ему раздел, посвященный изучению влияния на психич. деятельность внешней среды, рабочего места, конструкции и расположения приборов и др. Возникла потребность в психологич. рационализации оборудования, машин, рычагов управления, средств сигнализации и т. п., включая цветовое оформление. Первые исследования в этой области, начатые еще в 20-е гг., определили содержание и пути развития самостоят, направления П. труда, известного сейчас под названием инженерной П.
Особое место в арсенале методов П. труда заняли аналитич. методы, с помощью к-рых вскрываются психологич. особенности трудовой деятельности. Эта
428
ПСИХОЛОГИЯ
 глава П. труда получила название П. профессий, или профессиографии.
глава П. труда получила название П. профессий, или профессиографии.
Существует целый ряд др. направлений П. труда, связанных с задачами рационального реконструирования профессий, анализом причин возникновения аварийных ситуаций и ошибочных действий и т. п.
Наиболее актуальные проблемы совр. П. труда кон
центрируются вокруг задач инженерной П. и вопросов
проф. обучения, разрабатываемых специалистами в
области П. труда совместно с инженерами и педа
гогами. С- Геллерштейн. Москва.
П. инженерная — раздел П. труда, изучающий деятельность человека-оператора в автоматизированных системах управления. Как самостоят, науч. дисциплина инженерная П. возникла в конце 40-х гг. 20 в. На начальном этапе своего развития она решала задачи, связанные с облегчением труда человека (пилота, диспетчера, наблюдателя), работающего с автоматич. устройствами. Были выработаны полезные рекомендации по оптимальному конструированию шкал приборов, указателей, органов управления, по их размещению на пультах управления, по выбору средств сигнализации и т. п. Развитие кибернетич. методов, возникновение системного подхода к проектированию новых технич. средств, создание систем управления большого масштаба, наконец, развитие и совершенствование электронных вычислит, и инфор-мационно-логич. машин в 50-х гг. поставили как центр, проблему автоматизации проблему «человек-машина», т. е. проблему рацион, распределения и согласования функций между человеком и машиной. Реальные системы и реальные люди оказались не вполне совместимыми, попытки же полной автоматизации, исключения человека из системы управления привели к неудачам. На этом этапе своего развития инженерная П. выступает как наука, теоретически и практически изучающая человеч. аспект функционирования автоматизированных систем управления, тогда как системотехника изучает его технич. аспект. Решая эти задачи, инженерная П. сталкивается с широкими филос. проблемами: о месте и роли человека в научно-технич. прогрессе, о будущем технич. цивилизации, о моделировании психич. функций и т. п. На этой основе в инженерной П. осуществляется синтез П. труда, общей П. человека, педагогич. и социальной П. К практич. задачам совр. инженерной П. относятся: науч. обоснование распределения функций между человеком и машиной, отыскание алгоритмов нек-рых операций, выполняемых человеком, с целью передачи их машине; оптимальное распределение функций между операторами и координация выполняемых ими действий; определение макс, объема и скорости приема, переработки и передачи информации человеком, отыскание наиболее эффективных способов кодирования информации, предъявляемой оператору; установление критериев надежной, стабильной и точной работы оператора в реальных условиях, оценка влияния утомления, психич. напряженности и др. факторов на эффективность деятельности оператора; разработка адекватных и действенных методов обучения и тренировки операторов на основе знания психологич. структуры процессов усвоения, выработки навыков и т. д.; разработка принципов отбора операторов с учетом их антро-пометрич., физиологич. и психологич. особенностей. Деятельность оператора имеет сложный, опосред-ствов. характер. Упрощенно она может быть описана с помощью следующей схемы: прием (восприятие) информации, оценка принятой информации и переработка ее в форму, пригодную для принятия решения,— принятие решения — исполнит, действия. В одних случаях центр тяжести приходится на первые две ступени (обычно их объединяют понятием «информационный поиск»), в других—главным является принятие
решения или исполнит, действия (обычно объединяемые понятием «обслуживание»).
Характерной особенностью деятельности оператора является то, что он, как правило, лишен возможности непосредственно наблюдать объекты управления if вынужден пользоваться сведениями о них, поступающими к нему по каналам связи. Для того чтобы оператор мог быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации, эти сведения, а также информация о параметрах внешней среды и состоянии самой системы управления поступают обычно на визуальные средства отображения информации (индикаторы, табло, экраны и др.). То, что видит оператор на средствах отображения, является информац. моделью реальной обстановки, реальных объектов. Создаваемые информац. модели должны в макс, степени учитывать функцией, возможности оператора, его знания и опыт. Более того, информац. модель должна допускать оперативное декодирование информации и формирование образон, с тем чтобы оператор мог приступить к решению задачи с миним. задержкой во времени. Формирование образов означает трансформацию информац. модели во внутреннюю, т. и. концептуальную модель внешней обстановки. Для сложных изменяющихся ситуаций согласование содержания информационной и концептуальной моделей является осн. средством повышения оперативности и точности информац. поиска.
Создание адекватных реальности и задачам оператора информац. моделей, их улучшение и приспособление к психологич. особенностям человека есть часть более общей проблемы создания информац. языка, понятного человеку и могущего быть использованным машиной, проблемы общения человека с машиной.
В.Зинченко, Г. Смолян. Москва.
П. космическая — новая, быстро развивающаяся ветвь П. труда, изучающая воздействие специфич. условий и факторов космич. полета на психологич. аспекты функцион. деятельности космонавтов. Осн. содержание космич. П. составляют экспериментально-психологич. исследования, направленные на обеспечение отбора и подготовки космонавтов. Психологич. структура деятельности космонавта определяется рядом проф. особенностей: непрерывностью деятельности; жестко регламентированным порядком работы; строгим ограничением времени, отводимого на рабочие операции; опосредствованным характером оценки полезных результатов работы (определяемым «включением» автоматич. устройств и приборов в перцептивные, интеллектуальные и исполнит, процессы и связанным с необходимостью сложного психич. перекодирования результатов с учетом поправок на запаздывание приборов); постуральиым фактором, объединяющим специфич. воздействия космич. полета (невесомость, перегрузки и др.); фактором «новизны», связанным с большой эмоц. нагрузкой, нервным и умств. напряжением. Эти и нек-рые другие факторы космич. полета приводят к появлению новых взаимоотношений между сигнальной (воспринимаемой) информацией и оперативной деятельностью, что ведет к возникновению психически напряженных состояний, преодоление к-рых требует значит, психич. и мышеч-но-тонич. постуральной адаптации. В качестве иллюстрации можно указать на нарушения спонтанной деятельности анализаторов в условиях невесомости, вызывающие у отд. лиц пространств, дезориентацию вплоть до полного разрушения правильного восприятия внешнего мира и т. н. «схемы тела» — отражения в сознании свойств и способов функционирования как отд. частей и органов тела, так и всего тела. Опыт показывает, что только спец. методами тренировки можно выработать и закрепить новую функцион. схему анализаторов, при к-рой достигается адаптация к пос-туральному фактору космич. полета.
психология
423
 Коомич. П. разрабатывает спец. экспериментально-псмхологич. методики, направленные на обнаружение высоких функцион. возможностей организма и адаптацию к разнообразным (известным и предполагаемым) факторам космич. полета. Эти методики, строящиеся преим. на принципе воспроизведения, позволили выяснить и объективировать, а в ряде случаев и исключить неблагоприятные психологич. факторы, обусловливающие недостаточную нервно-пси-хич. устойчивость кандидатов в космонавты. При отборе космонавтов немалое значение отводится психич. симптомокомплексу, выражаемому обычно понятиями мнительности, внушаемости. Объективные исследования этого комплекса в космич. П. только начались, однако в систему психологич. подготовки космонавтов уже входят мероприятия, позволяющие преодолеть или ослабить состояние напряженного (тревожного) ожидания, неуверенности, беспокойства за благополучный исход.
Коомич. П. разрабатывает спец. экспериментально-псмхологич. методики, направленные на обнаружение высоких функцион. возможностей организма и адаптацию к разнообразным (известным и предполагаемым) факторам космич. полета. Эти методики, строящиеся преим. на принципе воспроизведения, позволили выяснить и объективировать, а в ряде случаев и исключить неблагоприятные психологич. факторы, обусловливающие недостаточную нервно-пси-хич. устойчивость кандидатов в космонавты. При отборе космонавтов немалое значение отводится психич. симптомокомплексу, выражаемому обычно понятиями мнительности, внушаемости. Объективные исследования этого комплекса в космич. П. только начались, однако в систему психологич. подготовки космонавтов уже входят мероприятия, позволяющие преодолеть или ослабить состояние напряженного (тревожного) ожидания, неуверенности, беспокойства за благополучный исход.
Особое значение в космич. П. приобретают вопросы взаимодействия космонавтов, коллективной организации их труда, проблемы прогноза эффективности деятельности экипажа. Совместная групповая деятельность космонавтов ставит вопрос о психологич. совместимости, сыгранности отд. лиц. Взаимозависимая трудовая деятельность и отдых в условиях длит, групповой изоляции выдвигают перед групповой П. такие проблемы, как определение осн. линии поведения группы в целом и отд. лиц в различных ситуациях, в т. ч. в аварийных.
Ф. Горбов, Г. Смолян. Москва.
П. военная — отрасль прикладной П., исследующая проблемы, связанные с оценкой и предвидением поведения человека в боевых условиях, приспособление к условиям воен. жизни, действия по управлению войсками и боевой техникой (П. командования), отбор по родам войск и для спец. заданий, психологич. аспекты воеи. воспитания и обучения, взаимоотношения начальников и подчиненных, разработку методов «психологич. войны» (пропаганда и контрпропаганда и т. д.). Основным для воен. П. является изучение того влияния, к-рое оказывает на протекание психич. процессов, на действия и поступки человека состояние напряженности («стресс»), связанные с ним изменения в работе органов чувств, в осуществлении мыслит, операций, волевых действий, в частности его влияние на принятие решения. Воен. П. выделилась в самостоят, отрасль П. в нач. 20 в. в период подготовки 1-й мировой войны. Первоначально ее гл. тематикой была П. воен. руководства, а осн. тенденцией — выведение П. армии из П. толпы; социальный аспект репрезентировал всю воен. П. (Тард, Лебон, Компеано, Ардан дю Пик, Курбе, Дю Тейль).С развитием воен. техники гл. задача смещается в сторону определения роли человеч. фактора в управлении этой техникой. Особенно большое развитие воен. П. получает после 2-й мировой войны, прежде всего в США, где огромное число исследований самой разнообразной психологич. тематики выполняется как самими воен. орг-циями, так и по контракту с ними.
В СССР исследования по воен. П. проводятся, исходя из общих методологич. установок сов. П. и с учетом качеств, отличия сов. вооруж. сил от армий импери-алистич. стран. Ряд принципиальных положений воен. П. был разработан М. В. Фрунзе и др. полководцами
Сов. Армии. М. Роговин. Москва.
П. творчества как процесса созидания новых социально значимых продуктов в различных областях деятельности, прежде всего в науке, технике, иск-ве, становится областью спец. исследования в нач. 20 в. Для ее эмпирич. разработки используются первоначально статистический (Ф. Гальтон) и биографический (В. Оствальд, А. Пуанкаре) методы, в дальнейшем
тесты, интервью, эксперимент, факторный анализ. Изучение П. творчества приобретает широкий размах в 50-х гг. Работы по П. науч.-технич. творчества развертываются в неск. направлениях. Анализу подвергается специфика творч. мышления, в отличие от др. форм интеллектуальной активности. В связи с этим обсуждается роль в творч. процессе интуиции, воображения, подсознательного, вдохновения и др. психич. актов и состояний. Большое число работ посвящено особенностям творч. личности. В качестве таковых выделяются: оригинальность, склонность к разумному риску, поиск порядка в беспорядке, дивср-гентность, нонконфоризм и др. Гилфорд предпринял попытку построить математич. модель структуры творч. личности, используя тесты и метод факториаль-ного анализа. Эта модель, как и другие, применялась в США для определения способностей к творч. работе в науке и пром-сти. Изменение характера науки потребовало перейти к описанию группового творчества (Бруннер). Изучению подвергается также возрастная динамика творч. возможностей и достижений личности (Термен, Леман, Торранс и др.). Важное значение придается факторам, стимулирующим творч. активность, предлагается спец. техника «штурма мозга» (Осборн) и даже применение психофармакологических средств (А. Хаксли, Лири).
Значит, лит-ра существует в области П. художеств,
творчества и П. иск-ва. Однако, несмотря на большой
эмпирич. материал, общая теория творч. процесса
остается слабо разработанной, что затрудняет и эф
фективное решение практич. задач. В последние годы
исследования в области П. творчества начинают раз
вертываться в СССР (такие исследования проводились
И В 20-е ГГ.). М. Ярошевский. Ленинград.
П. сравнительная — область психологич. исследований, в к-рой осуществляется сопоставление психики животных и человека, устанавливаются характер и причины существующего сходства и различий в их поведении, а также изучается психика животных, принадлежащих к различным систематич. группам (видам, родам, семействам и т. д.). Хотя предмет сравнит. П., как он исторически сложился, по существу совпадает с предметом зоопсихологии, однако понятие сравнит. П. является более широким, т. к. на первый план здесь выступают сопоставления различных форм поведения и психич. деятельности у животных и человека. Совр. сравнит. П. имеет весьма сложную и далеко неустановившуюся структуру, охватывая исследования в области зоопсихологии и физиологии высшей нервной деятельности животных, антропогенеза, экологии, этологии и генетики поведения. Осн. проблематика сравнительно-психологич. исследований включает в себя проблемы тропизмов, инстинкта, навыков, интеллекта, т. е. важнейших врожденных и приобретенных механизмов поведения животных. К классич. объектам сравнит. П. (паукам, птицам, собакам, лошадям, антропоидам и др.) в наст, время присоединены китообразные (дельфины).
В первые десятилетия 20 в. к исследованиям инстинктивной деятельности (В. А. Вагнер) присоединяются сравнительно-психологич. исследования приспособления посредством индивидуального изменения поведения. Исключит, значение имели здесь классич. эксперименты И. П. Павлова над условными рефлексами у животных. Важную роль сыграли осуществленные В. Кёлером исследования интеллекта человекообразных обезьян. Сравнительно-психологич. исследования человекообразных и низших обезьян проводятся и в СССР (Н. Н. Ладыгина-Коте, Э. Г. Ва-цуро, Н. Ю. Войтонис, Г. 3. Рогинский, Н. А. Тих и др.).
В совр. бурж. сравнит. П. в последние годы получила распространение этологич. школа, изучающая
430
ПСИХОЛОГИЯ
 гл. обр. вро;кденные компоненты поведения. Вместе с тем развивается биопсихологич. направление (Пьерон, Фишель), дающее не только психологич. и физиологич. интерпретацию поведения, но и принимающее во внимание его биологич. характеристику. В работах этого направления (особенно у Фишеля) находят развитие взгляды, принятые в школах сов. сравнит. П.
гл. обр. вро;кденные компоненты поведения. Вместе с тем развивается биопсихологич. направление (Пьерон, Фишель), дающее не только психологич. и физиологич. интерпретацию поведения, но и принимающее во внимание его биологич. характеристику. В работах этого направления (особенно у Фишеля) находят развитие взгляды, принятые в школах сов. сравнит. П.
А. Петровский. Москва.
Лит.: Общая П. К о р н и л о в К. Н., Учение о реакциях человека с психологич. т. зр., М., 1921; Б л о н с к и и П. П., Память и мышление, М.—Л., 1935; Рубинштейн С. Л., Бытие и сознание, М., 1957; его же, Принципы и пути развития П., М., 1959; Леонтьев А. Н., Об историч. подходе в изучении психики человека, в кн.: Психологич. наука вСССР, т. 1, М., 1959; его же, Проблемы развития психики, [2 изд.], М., 1965; Выготский Л. С, Развитие высшихпсихич. функций, М., 1960; Джемс В., Науч. основы П., пер. с англ., СПБ, 1902; Л и п п с Т., Самосознание, пер. с нем., СПБ, 1903;К ю л ьп е О., Совр. П. мышления, в сб.; Новые идеи в философии, сб. 16, СПБ, 1914; К о ф ф к а К., Основы психич. развития, пер. с нем.,М.—Л., 1934; П. мышления. Сб. переводов с нем. и англ., М., 1965;Wundt W., Gmndriss der Psychologie, Lpz., 1896; 5 Aufl., Bd 1—2, Lpz., 1902; Watson J. В., Psychology as a behaviorist views it, «Psychol. Rev.», 1913, v. 20; Selz O., Zur Psychologie des produktiven Denkens und des Irrtums, Bonn, 1922; К б h 1 с г W., Gestaltprobleme und AnfSnge einer Gestalttheorie, «Jah-resber. iiber gesamte Physiol.», 1922—24; Biihler K., Die Krise der Psychologie, 2 Aufl., Jena, 1929; Janet P., L'evo-lution psychologique et la personalite, P., 1929; Titchcner E. В., Systematic psychology, prolegomena, N. Y., 1929; T о 1-m a n E d. С h., Purposive behaviour in animals and men, N. Y., 1932; L e w i n K., Principles ot topological psychology, N. Y., 1936; P i a g e t J., La psychologie de l'intelligence, 3 ed., P., 1952; Wertheimer M., Productive thinking, N. Y., 1945; W a 1 1 о n H., Introduction a Г etude de la vie mentale, в кн.: Encyclopedic fran?aise, t. 8 (La vie mentale), P., 1938.
История зарубежной П. Рубинштейн С. Л., Основы общей П., 2 изд., М., 1946; Совр. П. в ка-питалистич. странах, М., 1963; Ярошевский М. Г., История П., М., 1966; Р и б о Т., Совр. англ. П., пер. с франц., М., 1881; его же, Совр. герм. П., пер. с франц., СПБ, 1895; Д е с с у а р М., Очерк истории П., пер. с нем., СПБ, 1912; Klemm О., Geschichte der Psychologie, Lpz., 1911; Hall G. St., Founders of modern psychology, N. Y., 1912; Rand В., Classical psychologists, Boston, 1912; Baldwin J. M., History of psychology, v. 1—2, N. Y., 1913; H e n n i n g H., Psychologie der Gegenwart, Lpz., 1931; D 6-r i n g W. O., Die Hauptstromungen in der neueren Psychologie, Lpz., 1932; H e i d b r e d e r E., Seven psychologies, N. Y.—L., 1933; Miiller-Freinfels R., Die Hauptrichtungen der gcgenwartigen Psychologie, 3 Aufl., Lpz., 1933; Spearman С h. E., Psychology down the ages, N. Y., 1937; Levine A. J., Current psychologies: a critical synthesis, Camb., 1940; BrennanR. E., History of psychology from standpoint of a thomist, N. Y , 1945; WoodworthR. S., Contemporary schools of psychology, N. Y., 1948; Sargent S. S., Basic teachings of the great psychologists, N. Y., 1948; Dennis W. (ed.), Readings in the history of psychology, N. Y., 1948; Muhlmann W. E., Geschichte der Anthropologic, Bonn, 1948; Schiller P., Aufgabe der Psychologie. Eine Geschichte Hirer Probleme, W., 1948; Murphy G., Historical introduction to modern psychology, N. Y., 1949; Boring E. G., A history of experimental psychology, 2 ed., N. Y., 1950; F 1 ii-gel J. C, A hundred years of psychology, L., 1953; F о u 1-quie P. et DeledalleG., La psychologie contempo-raine, P., 1951; Tomann W., Einfilhrung in die moderne Psychologie, W.—Stuttg., 1951; R о back A. A., History of American psychology, N. Y., 1952; В г е 11 G. S., History of psychology, ancient and patristic, N. Y., 1953; Ralea M., В о t e z С I., Istoria psihologiei, [Buc], 1958; H о 1 z n e г В., Amerikanische und deutsche Psychologie, Wurzburg, 1958; W о 1 m a n В. В., Contemporary theories and systems in psychology, N. Y., 1960; В ori iig E. G., Psychologist at large, N. Y., 1961; Documents of Gestalt psychology, ed. by M. Henle, Berk., 1961; EsperE., A history of psychology, Wash., 1964; A history of psychology in autobiography, ed. by G. Murchison, v. 1—3, Oxf., 1930—36.
История сов. П. Те плов Б. М., Сов. психологич. наука за 30 лет, М., 1947; Психологич. наука в СССР. [Сб. ст.], т. 1—2, М., 1959—60; Парией з iCTopil в1тчизняно1 психологи кшця XIX i початку XX столггтя, под ред. Г. С. Костюка, К., 1959; Б у д и л о в а Е. А., Борьба материализма и идеализма в рус. психологич. науке (Вторая половина XIX — начало XX в.), М., 1960; Ярошевский М. Г., Проблема детерминизма в психофизиологии XIX в., Душанбе, 1961; Петровский А. В., Об осн. направлениях в рус. П. нач. XX в., в кн.: Из истории рус. П., М., 1961; его же, На подступах к марксистской П., в кн.: Вопросы теории и истории П., М., 1964; его же, История сов. П., М., 1967.
Детская П. Рубинштейне. Л., Основы общей П., 2 изд., М., 1946; Вопросы детской П., ч. 1 — 2. «Изв. АПН РСФСР», 1948, вып. 17—18; Костю к Г. С, Про генезис поняття числа у д1тей, «HayKOBi записки Науково-цослщного
институту психологИ», 1949, т. 1; У ш и н с к и й К. Д., Человек как предмет воспитания, Собр. соч., т. 8—9, М.—Л., 1950; Проблемы высшей нервной деятельности нормального и аномального ребенка, отв. ред. А. Р. Лурия, т. 1—2, М., 1956—58; Выготский Л. С, Избр. психологич. исследования, М., 1956; его же, Развитие высших психич. функций, М., 1960; Менчинская Н. А., Развитие психики ребенка. Дневник матери, [2 изд.], М., 1957; Божович Л. И., Вопросы формирования личности школьника в свете проблем воспитания, «Вопр. психологии», 1963, № 6; П. детей дошкольного возраста. Развитие познават. процессов, под ред. А. В. Запорожца и Д. Б. Эльконина, М., 1964; Б л о н-с к и й П.П., Избр. психологич. произв., М., 1964; Стерн В., П. раннего детства до шестилетнего возраста, пер. с нем., 2 изд., П., 1922; Бюлер К., Духовное развитие ребенка, пер. с нем., М., 1924; Пиаже Ж., Речь и мышление ребенка, пер. с франц., М,—Л., 1932; Валлон А., От действия к мысли, пер. с франц., М., 1956; Пиаже Ж., Инельдер Б., Генезис элементарных логич. структур, пер. с франц., М., 1963; Pi a get J., La formation du symbole chez l'enfant, Nchat.— P., 1945; его ж е, La naissance de l'intelligence chez l'enfant, 3 ed., Nchat., 1952; W a 1 1 о n H., L'evolution psychologique de l'enfant, 4 ed., P., 1952; Child psychology, ed. H. W. Stevenson, Chi., 1963.
П. труда. Трудовой метод изучения профессий. Сб., под ред. И. Н. Шпильрейна, М., 1925; Р у з е р Е. И., Психологич. методы исследования утомления, в сб.: Психофизиология труда, вып. 2, М.—Л., 1927; ГсллерштейнС. Г., Проблемы психотехники на пороге второй пятилетки, «Сов. психотехника», 1932, JV5 1—2; его же, Вопросы П. труда, в сб.: Психологич. наука в СССР, т. 2, М., 1960; Архангельский С. Н., Очерки по П. труда, М., 1958; Вопросы П. труда, «Изв. АПН РСФСР», 1958, вып. 91; Ч е б ы ш е в а В. В., Нек-рые вопросы П. производств, обучения, «Вопр. психологии», 1959, Na 2; Л и и м а н О., П. профессий, пер. с нем., П., 1923; Мюнстерберг Г., П. и экономич. жизнь, пер. с нем., 2 изд., М., 1924; М е с с и о Б., Рацион, организация труда и П., пер. с англ., М.—Л., 1924; Клапаред Э., Проф. ориентация, ее проблемы и методы, пер. с франц., М., 1925. См. также лит. при ст. Психотехника.
Инженерная П. Ломов Б. Ф., Человек и техника, 2 изд., Л., 1966; Инженерная П., отв. ред. А. Н. Леонтьев, М., 1964; «Проблемы инженерной П.», 1964—66, вып. 1—4; Пушкин В.Н.,Оперативное мышление в больших системах,М.—Л., 1965; Зинченко В. П., Смолян Г. Л., Человек и техника, М., 1965; Экспериментальная П., пер. с англ., т. 2,М., 1963; Инженерная П. Сб. ст., пер . с англ., М., 1964; Fried-m a n n G., Machine et humanisme, v. 2, P., 1946; Miller G. A., Language and communication, N. Y., 1951;McCor-mick E. J., Human engineering, N. Y.—Toronto—L., 1957; Chapanis A., Research techniques in human engineering, Bait., 1959.
К о с м и ч. П. Г о р б о в Ф. Д., Нек-рые вопросы космич. психологии, «Вопр. психологии», 1962, № 6; Первые космич. полеты человека, М., 1962; Первый групповой космич. полет, М., 1964: Психологич. проблемы человека в космосе. XVIII Междунар. психологич. конгресс, Симпозиуме» 28, М., 1966.
Военная П. Те плов Б. М., К вопросу о практич. мышлении (Опыт психологич. исследования мышления полководца по военно-историч. материалам), «Уч. зап. МГУ. Психология», 1945, вып. 90, с. 149—214; Фрунзе М. В., Единая военная доктрина и Красная Армия, Избр. произв., т. 2, М., 1957; его же, Несколько слов о дисциплине, там же; Роговин М. С. и Офицеров В. В., Военная П., в кн.: Совр. П. в капиталистич. странах, М., 1963; Совр. бурж. военная П., [сост. М. С. Роговин], М., 1964.
П. творчества: Грузенберг CO., Психология творчества, т. 1, Минск, 1923; Якобсон П. М., Процесс творч. работы изобретателя, М.—Л., 1934; Пономарев Я. А., Психология творч. мышления, М., I960; Исследования по П. науч. творчества в США. Обзор лит-ры и рефераты, под ред. М. Г. Ярошевского, М., 1966; Creativity and its cultivation, ed. H. H. Anderson, N. Y., [1959]; Scientific Creativity. Its recognition and development, ed. С W. Taylor and F. Barron, N. Y.—L., [1963]; Creativity: progress and potential, ed. С W. Taylor, N. Y.— [a. o.], [1964].
Сравнит. П. Вагнер В. А., Биологич. основания сравнит. П., т. 1—2, СПБ—М., [1910—13]; его же, Возникновение и развитие психич. способностей, вып. 1—9, Л., 1924—29; Ладыгина-Коте Н. Н., Дитя шимпанзе и дитя человека..., М., 1935; ее же, Развитие психики в процессе эволюции организмов, М., 1958; Б о р о в с к и й В. М., Психич. деятельность животных, М.—Л., 1936; В а ц у р о Э. Г., Исследование высшей нервной деятельности антропоида (шимпанзе), М., 1948; Р о г и н с к и й Г. 3., Навыки и зачатки интеллектуальных действий у антропоидов (шимпанзе), Л., 1948; ВойтонисН. Ю., Предистория интеллекта, М.—Л.. 1949; Воронин Л. Г., Лекции по сравнит, физиологии высшей нервной деятельности, М., 1957; С п и р к и н А. Г., Происхождение сознания, М., 1960; Warden С. J., J с п-kins Т. N., Warner L. H., Comparative psychology, v. 1—3. N. Y., 1935—40; T h о r p e W. H., Learning and instinct in animals, L., 1956; Comparative psychology, 3 ed., ed by С P. Stone, L., 1953; Ratner S. С and Denny M. R., Comparative psychology; research in animal behavior, Home-wood, 1964. См. также лит. при ст. Этология.
ПСИХОТЕХНИКА — ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
431
 Омеждунар. конгрессах по П. см. Я р о-шевский М. Г., Прогресс П. и междунар. психологич. конгрессы, «ВФ», 1966, № 7.
Омеждунар. конгрессах по П. см. Я р о-шевский М. Г., Прогресс П. и междунар. психологич. конгрессы, «ВФ», 1966, № 7.
О журналах по П. см. ст. Журналы психологические, в кн.: Педагогическая Энциклопедия, т. 2, М., 1965.
ПСИХОТЕХНИКА — ветвь психологии, изучающая проблемы практич. деятельности людей в конкретно-прикладном аспекте. В наст, время за рубежом понятие П. в общем идентично понятию прикладная психология (gewandte Psychologie, applied Psychology) и включает в себя содержание различных отраслей психологии труда (инженерная, пром. психология), воен. психологии, психологии торговли и т. п. П. возникла в нач. 20 в. и получила теоретич. оформление в работах В. Штерна, Мюнстерберга, Гизе и др. психологов-эксперименталистов. Осн. задача П. заключалась в осуществлении проф. отбора, проф. ориентации, изучении утомления и упражнения в процессе труда, приспособления человека к машине и машины к человеку, выяснении эффективности различных средств воздействия на потребителя (реклама), тренировке психич. функций при подготовке рабочей силы и т. д. П. использовала в решении этих задач различные испытания (гл. обр. тесты). В капиталистич. странах П. активно способствовала совершенствованию системы эксплуатации рабочих и их социальному подавлению.
В СССР П. получила значит, развитие в 20-е и в 1-ю пол. 30-х гг. Во мн. городах работали психотех-нич. лаборатории, готовились кадры психотехников, было создано Всесоюзное об-во П. и прикладной психофизиологии, издавался журн. «Советская П.» (с 1928 по 1934), проводились конференции и съезд по П. 7-я Междунар. психотехнич. конференция (1931) проходила в Москве. Нач. этап развития П. в Сов. России связан с движением научной организации труда (НОТ) и сводился гл. обр. к усвоению осн. понятий и достижений бурж. П. Как особая отрасль сов. психологии П. организационно оформляется к 1927—28. Тогда же получает распространение тезис о внеклассовом характере П. В 1930—32 начинается пересмотр методологии сов. П., явившийся следствием марксистско-ленинской перестройки психологич. науки. Сов. психологи и психотехники наметили тогда же перспективный план дальнейшего развития прикладных отраслей психологии и конкретной помощи социалистич. строительству. Характерной чертой П. к сер. 30-х гг. становится перенесение центра тяжести в исследоват. работе с проблемы проф. отбора на задачу рационализации методов политехнич. и проф. обучения, организации трудового процесса, формирования навыков и умений, борьбы с травматизмом и аварийностью и т. п.
Культ личности существенно затормозил развитие психологии труда в СССР. Отрицат. отношение к П. еще более усилилось в период повсеместно развернувшейся критики педологии (1936—37). Справедливо усматривая у П. немало общего с педологией, критики по существу перечеркивали все достижения П. и оспаривали правомерность почти всей проблематики психологии труда (в 1936 закрываются почти все лаборатории по П. и психофизиологии труда). Установка на отказ не только от ошибочных тенденций в П. (к-рые во многом были уже к тому времени преодолены или осознаны как неверные), но и от ее принципиальных достижений принесла определ. ущерб психологич. науке и социалистич. строительству. В настоящее время разработка проблем психологии труда возродилась, стимулировав развитие инженерной, космич. психологии и др. спец. отраслей психологич. науки.
Лит.: Геллерштейн С. Г., Вопросы психологии труда, в кн.: Психологич. наука в СССР,т. 2, М., 1960; Платонов К. К., Вопросы психологии труда, М., 1962; Л е-в и т о в Н. Д., Психология труда, М., 1963; Петровский А. В., К истории психологии труда в СССР, в кн.: Материалы конференции по психологии труда, Я.,- 1965. его же, Исто-
рия сов. психологии, М., 1967; ет о ж е, Problems of personality and labour in Soviet psychology, в кн.: XVIII Intern. Congress of Psychology. Symp. 38, Moscow—N. Y., 19S6.
А . Петровский . Москва.
ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА — в более широком аспекте вопрос о месте психического в природе, восходящий к основному вопросу философии; в частном — проблема соотношения психич. и физиологич. (нервных) процессов. Мысль о зависимости психич. проявлений от жизни тела является очень древней, но первые попытки науч.-филос. решения П. п. связаны с пониманием психики (души) как одного из видов материи (милетские натурфилософы, Гераклит, древние атомисты). Им противостояла т. зр. Платона, к-рый саму материю считал функцией идеи. Аристотель в противовес этому построил учение о нераздельности души и материального субстрата тела. Уязвимыми сторонами этого учения явились телеологич. взгляд на регуляцию жизненных актов и трактовка ума как бестелесной сущности.
Новые пути разработки П. п. наметились лишь в 17 в. на основе механистич. картины мира. Декарт предпринял открывшую новую эпоху попытку объяснить поведение живых существ по типу механич. взаимодействия, рассматривая с этой т. зр. не только мышечные реакции, но и определ. категорию пспхич. проявлений (т. н. «страстей души»). Однако, признав сознание непространств, субстанцией, способной произвольно управлять «машиной тела», он утвердил новый вариант дуализма, известный как концепция психофизич. взаимодействия: хотя тело только движется, а душа только мыслит, они могут влиять друг на друга, соприкасаясь в определ. районе мозга. Гоббс и Спиноза отбросили презумпцию субстанциональности сознания (души), объявив его безостаточно выводимым из взаимодействия природных объектов. Лейбниц, поставив целью совместить механистич. картину мира с представлением о психике как уникальной сущности, выдвинул идею психофизического параллелизма, трактовавшегося им с идеа-листич. позиций. Материалистич. интерпретацию психофизич. параллелизм получил в 18 в. у Гартли и др. натуралистов.
В 19 в. дарвиновское учение потребовало понять психику как активный фактор регуляции жизненных процессов. Это требование иногда ложно преломляется в новых разновидностях теории психофизич. взаимодействия (Джемс). В конце 19—нач. 20 вв. получает распространение махистская трактовка П. п., согласно к-рой душа и тело «построены» из одних и тех же «элементов» — ощущений, и поэтому речь должна идти не о реальной взаимосвязи реальных явлений, а о корреляции между «комплексами ощущений». Логич. позитивизм рассматривает П. п. как псевдопроблему и полагает, что связанные с ней трудности разрешимы путем применения различных языков к описанию соответственно сознания, поведения и нейрофизиология, процессов.
За всеми этими способами решения П. п. скрыт все тот же дуализм, порожденный интроспективным взглядом на психику как особую сущность, к-рая лишена всех определений, свойственных материальному миру, и открыта только для ее носителя — субъекта.
Диалектич. материализм основывает решение П. п. на понимании психики как выступающего в форме образов продукта активного взаимодействия высокоор-ганизов. живых систем с внешним миром. Такое решение П. п. позволяет широко использовать при ее конкретно-науч. разработке достижения психофизиологии, базирующейся на рефлекторной теории (в со сеченовской интерпретации — см. Рефлекс), и др. смежных наук.
В различных разделах психофизиологии и смежных с ней дисциплин накоплен огромный материал о мпо-
432
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ — ПУАНКАРЕ
 гообразных формах зависимости психич. актов от их физиологич. субстрата и об активном воздействии сознания на ход жизнедеятельности (учение о локализации функций, об идеомоторных актах, данные ряда разделов нейро- и патопсихологии, психофармакологии, генетики и др.)- Однако и в наст, время мн. принципиальные аспекты П. п. не могут считаться однозначно решенными, поскольку не до конца исследована природа психического.
гообразных формах зависимости психич. актов от их физиологич. субстрата и об активном воздействии сознания на ход жизнедеятельности (учение о локализации функций, об идеомоторных актах, данные ряда разделов нейро- и патопсихологии, психофармакологии, генетики и др.)- Однако и в наст, время мн. принципиальные аспекты П. п. не могут считаться однозначно решенными, поскольку не до конца исследована природа психического.
Лит.: Рубинштейн С. Л., Бытие и сознание, М., 1957; В е к к е р Л. М-, Восприятие и основы его моделирования, Л., 1964; Bain A., Mind and body, 2ed.,L., 1873; M с D о u g a 1 1 W., Body and mind, 7 ed., L., 1928; Boring E., A history of experimental psychology, 2 ed., N. Y., [1950].
_ M. Ярошевский. Ленинград.
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ — один из способов решения психофизической проблемы, исходящий из невозможности причинного взаимодействия между психич. и физиологич. процессами. Зарождение П. п. относится к эпохе утверждения меха-нистич. взгляда на природу (17 в.). В борьбе с дуализмом Декарта Спиноза утверждал, что «ни тело не может определять душу к мышлению, ни душа не может определять тело ни к движению, ни к покою, ни к чему-либо другому...» (Избр. произв., т. 1, М., 1957, с. 457). Однако истинными родоначальниками П. п. являются окказионалисты (Малъбранш) и Лейбниц, считавшие, что взаимодействие между душой и телом невозможно из-за их абс. гетерогенности. Новый вариант П. п. представил в 18 в. материалистич. ассоциацией Гаргпли и его последователей, к-рые полагали, что психич. явления соединяются параллельно вибрациям в нервном субстрате. Поскольку эти вибрации в свою очередь ставились в причинную зависимость от воздействия внешних физич. тел, психическое трактовалось как производное от материального. В середине 19 в. П. п. становится господствующей доктриной под влиянием открытия закона сохранения и превращения энергии, укрепившего взгляд на материальный мир как замкнутое каузальное целое. В этот период мн. философы и психологи приходят к т. зр., что сознание неотделимо от тела, по в казуальном отношении с ним не находится. Среди сторонников этой т. зр. имелись как материалисты, так и идеалисты.
П. п. потерял кредит в связи с успехами эволюц. биологии и психологии, теоретически и экспериментально доказавшими важную роль психич. компонентов в регуляции и прогрессе жизнедеятельности.
В 20 в. П. п. попыталась возродить гештальт-психология, к-рая описывала психич. явления (геш-тальты) в виде структур, взаимнооднозначно соответствующих нервным структурам, но причинно не связанных с ними.
Лит. см. при ст. Психофизическая проблема.
М. Ярошевский. Ленинград.
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ —
один из способов решения психофизической проблемы, согласно к-рому психическое и физическое постоянно влияют друг на друга; в рамках концепции П. в. психическое и физическое рассматриваются, как правило, дуалистически.
ПТОЛЕМЕИ (ПтоА,еи.а!ос;) (неправильно Птоломей), Клавдий — греч. математик, астроном и оптик 1-й пол. 2 в. Жил в Александрии. Гл. труд — «Сочинение, или Математическая система» («Sovxagig (шдтцхапхт;», лат. назв. «Compositio seu syntaxis mathematica») явилось высшим достижением др.-греч. математич. астрономии. Соч. переведено в 7 в. на сирийский, в 9 в.— на арабский и в 12 в. с арабского на лат. язык.
Хотя в 3 в. до и. э. Аристархом Самосским были сформулированы принципы гелиоцентрич. системы, к-рой столетием позже придерживался и Селевк из Селевкии, однако геоцентрич. система П. с ее предположением о неподвижном положении наблюдателя и
его инструментов оказывалась в то время более плодотворной как для геометрич. конструкций планетных путей, так и для усовершенствования методов наблюдений. Теория П. явилась более совершенной в математич. отношении, чем т. н. теория Евдокса и Каллипа, разделявшаяся Аристотелем (см. Евдокс Книдский). Истинность геоцентрич. системы П. пытался обосновать целым рядом аргументов. В выборе гипотез П. считал необходимым руководствоваться принципом простоты; в тех случаях, когда простейшая гипотеза несогласна с небесными явлениями, нужно выбирать наиболее подходящие, т. е. согласные с ними. В средние века, в период господства аристотелизма, нередки были попытки истолковать гипотезу П. лишь как удобную математич. фикцию, сохраняя объективное значение за теорией Аристотеля. Борьба обеих концепций, птолемеевской и аристотелевской, закончилась побед oil первой, пока на смену обоим вариантам геоцентрич. системы не пришла гелиоцентрич. система Коперника. Последний, однако, использовал ряд наблюдений, приводимых П.
С о ч.: Opera omnia, ed J. L. Heiberg, v. 1—3, Lipsiae, 1898—1952; Geographia, e codicibus recognovit С Mullerus, v. 1, p. 1—2, P., 1883—1901; L'optique, ed. critique par A. Leje-une, Louvain, 1956.
Лит.: ИдельсонН. И., Этюды по истории планетных теорий, в сб.: Николай Коперник, М.—Л., 1947; L е ] е u n e A.,Euclideet Ptolemee. Deux stades de l'optique geometrique grecque, Louvain, 1948; его же, Les recherches de PtoLemee sur la vision binoculaire, «Janus», 1958, [v.] 47, № 2; D и h e m P., Le systeme du monde, v. 1 —10, P., 1913—59 (см. имен, указат.); S art on G., A history of science, Camb., 1952.
I.B. Зубов\. Москва.
|
|
ПУАНКАРЕ (Poincare), Анри (29 анр. 1854—17 июля 1912) — франц. математик, физик и философ; член Парижской академии наук (с 1887). Одновременно и независимо от Эйнштейна разработал основы спец. относительности теории с анализом ее приложений и математич. следствий (1905). В философии П. известен своими работами по общеметодо-логич. проблемам науки, стимулировавшими усилия ученых в исследовании структуры науч. знания и его ценности. Некритически восприняв философию Канта (особенно его учение о синтетич. суждениях apriori) и Бутру,П.в интерпретации науки и ее законовявил-ся родоначальником конвенционализма, к-рый он, правда, проводил непоследовательно, с «отступлениями» в материализм. Основу филос. учения П. о науке составляет утверждение, что общие теоретич. принципы науки являются продуктами человеч. ума. В полемике с Э. Ле-руа он доказывал, что ум ученого с помощью соглашений создает понятийный аппарат — категориальную схему («язык науки»), при посредстве к-рой он познает (а не творит) «грубые объективные факты». Теоретич. принципы творятся ученым, но результаты его творения обусловлены опытом и плодотворностью их применения, их способностью «открывать нам чего-то реального» (см. «Наука и гипотеза», СПБ, 1904, с. 3). Наиболее ярко материалистич. тенденция П. проявляется в учении об объект и вн ом инвар и а н т е, в к-ром утверждается, что содержание различных теорий одного и того же фрагмента реальности взаимопереводи-мо, т. е. что существуют инвариантные (объективные) закономерности, являющиеся соотношениями между голыми фактами,в то время как соотношения между науч. фактами (т. е. голыми фактами, переведенными па язык науки) всегда остаются в зависимости от условных соглашений, создаваемых человеч. разумом (см.
ПУРИТАНИЗМ —ПУСТОЕ 433
 «Ценность науки», М., 1906, гл. 10, § 4). Признавая объективный характер науки, П. в ряде своих произведений признает и критерий практики, причем, как указывает Ленин, в объективном смысле. Однако в понимании самой объективной реальности с наибольшей силой проявился идеалистич. характер взглядов П.: отрицание объективного существования материи, признание объективно существующими только соотношений между вещами, только «...они общи и останутся общими для всех мыслящих существ» (там же, с. 190). С такой т. зр. наука объективна лишь как система соотношений. Закономерным исходом подобной интерпретации явился агностич. тезис о невозможности науки открыть истинную природу вещей (см., напр., там же, с. 187). Поэтому ценность науч. теории для П. измеряется не степенью правильности и глубины отображения ею действительности, а лишь удобством и целесообразностью ее применения для практич. целей.
«Ценность науки», М., 1906, гл. 10, § 4). Признавая объективный характер науки, П. в ряде своих произведений признает и критерий практики, причем, как указывает Ленин, в объективном смысле. Однако в понимании самой объективной реальности с наибольшей силой проявился идеалистич. характер взглядов П.: отрицание объективного существования материи, признание объективно существующими только соотношений между вещами, только «...они общи и останутся общими для всех мыслящих существ» (там же, с. 190). С такой т. зр. наука объективна лишь как система соотношений. Закономерным исходом подобной интерпретации явился агностич. тезис о невозможности науки открыть истинную природу вещей (см., напр., там же, с. 187). Поэтому ценность науч. теории для П. измеряется не степенью правильности и глубины отображения ею действительности, а лишь удобством и целесообразностью ее применения для практич. целей.
Большое значение для философии математики имела полемика П. с представителями логицизма, в к-рой он доказывал, что из математич. рассуждений нельзя полностью удалить те элементы, к-рые основаны на интуиции как непосродств. интеллектуальном усмотрении.
Соч.-. Oeuvres, t. 1—11, P., 1916—56; в рус. пер.— Математич. творчество. Психологич. этюд, Юрьев, 1909; Наука и метод, СПБ, 1910; Новая механика, М., 1913; Математика и логика, в сб.'. Новые идеи в математике, сб. 10, П., 1915, с. 1—52; Последние мысли, П., 1923.
Лат .: Ражо Г., Ученые и философия, [пер. с франц.],
2 изд., СПБ, 1912; А с м у с В. Ф., Проблема интуиции в фи
лософии и математике, 2 изд., М., 1965; Necrologie H. Р.
(1854—1912),«Revue de metaphysique et de morale», 1912, sept.;
R о u g i e r L., La philosophic geometrique de H. P., P., 1920;
F о r n а г о G., H. P. e il valore della scienza, Napoli, 1924;
В e n r u b i J., Les sources et les eourants de la philosophic
contemporaine en France, t. 1, P., 1933, p. 350—72; С е с с h i-
n i A., II concetto di convenzione matematica in H. P., Torino,
1954; P о i r i e r R., H. P. et le probleme de la valeur de la
science, «Revue philosophique de la France et de l'etranger»,
1954, № 10—12, p. 485—513; Dantzig Т., Н. Poincare,
N. Y.—L., 1954. И. Добронравов. Москва.
ПУРИТАНИЗМ (от лат. purus — чистый) — рефор-мациоппое течение в Англии и Шотландии 16—17 вв., к-роо в религ. форме кальвинизма отразило оппозиц. настроения буржуазии, нового дворянства, гор. мелкой буржуазии и части крестьянства, выступавших против феод.-абсолютистского порядка и гос. англиканской церкви. Сторонники П. требовали продолжения Реформации: конфискации земель, оставшихся у церкви после ликвидации монастырского землевладения, отделения церкви от гос-ва, упразднения епископата и церк. судов, упрощения и удешевления церк. обрядности, сокращения числа религ. праздников, отказа от соблюдения постов и почитания «святых». Обличая роскошь двора и нравы аристократии, пуритане выступали против театра и развлечений, пропагандировали бережливость, воздержание от жизненных удовольствий, деловую активность, что отвечало интеросам англ. буржуазии эпохи «первоначального накопления». Нравств. проповедь П. оказала сильное влияние на англ. лит-ру того времени.
Движение П. в своем развитии прошло ряд этапов. В 30—60-х гг. 16 в. П. был одним из крайних течений внутри англиканской церкви, представители к-рого требовали в первую очередь изменения церк. обрядности. Лишь в 60-х гг. сторонники П. открыто выступили за замену правительств, епископальной церкви системой пресвитерий — кальвинистских орг-ций во главе с выборным приходским управлением (пресвитерами). В этот период в П. зарождаются два осн. направления — умеренное пресвитерианское и радикальное индопендентское. Последнее выступало против любой принудительной общегос. церк. системы, за независимость каждой религ. общины — конгрегации (см. Конгрегационализм), вплоть до автоном-
ного определения формы культа и символа веры. Иидепенденты отвергали любое посредничество между душой человека и богом, признавали за каждым членом общины возможность «пророчества» и проповеди на основе откровения. Это сближало их учение с идеями анабаптистов.
Превращение П. с сер. 80-х гг. 16 в. в открытую оппозицию господств, церкви привело к репрессиям со стороны властей, продолжавшимся вплоть до бурж. революции в Англии 17 в. и вызвавшим массовую эмиграцию пуритан, гл. обр. в Сев. Америку (начало англ. колонизации). В дальнейшем П. в обеих своих гл. разновидностях становится идеологич. знаменем надвигающейся бурж. революции. Размежевание пресвитерианства и индепендентства усиливается, они превращаются в политич. партии революции.
И е т о ч н.: The Puritans. A sourcebook of their writings, v. 1 — 2, N. Y., [1963].
Лит.: Энгельс Ф., Введение к англ. изданию, «Развитие социализма от утопии к науке», Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 22; Г а р д и н е р С. Р., Пуритане и Стюарты. 1603—1660, пер. с англ., СПБ, 1896; Потехи н А., Очерки из истории борьбы англиканства с пуританством при Тюдорах (1550—1603), Каз., 1894; Англ. бурж. революция. Сб. под ред. Е. А. Косминского, т. 1, М., 1954; ГЙтокмарВ. В., Очерки по истории Англии XVI в., Л., 1957; N е а 1 D., The history of the puritans, v. 1—2, N. Y., 1856; С h a m b о n I., Der Puritanismus. Sein Weg von der Reformation bis zum Ende des Stuarts, Z., 1944; Hughes P h., The reformation in England, v. 1—2, L., 1952—53.
Л. Затуловспая. Москва.
ПУРУН1А (санскр.— мужчина, гражданин, человек; душа, дух) — термин индийской философии, претерпевший сложную эволюцию и имеющий различное значение в разных школах. В ведах II. означал человека вообще. Однако в ряде гимнов Ригведы (например, X, 90) П. символизировал бытие в целом, выступавшее в виде тысячеглавого, тысячеглазого, тысяченогого космического божества. В эпосе Ма-хабхарата и позднейших филос. текстах П. трактуется обычно уже как душа, дух и по своему смыслу совпадает с понятиями атман и брахман. В системе санкхъя П. означает индивидуальную душу, лишенную, однако, всех признаков и качеств реального эмпирич. индивида. Она воплощает в себе принцип чистой духовности в ее абс. противоположности материи (пракрити). По мнению инд. исследователя Д. П. Чаттопадхьяя, П. символизирует приоритет мужского начала в мировоззрении арийских скотоводч. племен, где господствовал патриархат, в то время как для мировоззрения коренного дравидийского населения Индии, занимавшегося земледельч. трудом в рамках матриархальных отношений, характерен культ женского начала, воплощенный в концепции пракритн (см. Д. П. Чаттопадхьяя, Локаята даршана. История индийского материализма, пер. с англ., М., 1961).
Н. Аникеев. Москва.
ПУСТОЕ (в математике и логике) — то же, что «не содержащее элементов (членов)». Так, П. множество (или класс) — это «множество» (соответственно «класс»), не имеющее (-ий) элементов; П. слово (в формализованных языках математики и математич. логики) — «слово», «состоящее» из нуля букв, и т. п. Эпитет «П.» прилагается, т. о., к «несобственным» (т. е. в несобств. смысле слова) объектам, вводимым в рассмотрение в соответств. теориях примерно в силу тех же причин (и играющих в них ту же роль), что число 0 в арифметике положит, чисел (англ. термин « null » в качестве прилагательного просто является синонимом для «empty»). Напр., (1) сумма (объединение) любого множества и П. множества равна данному множеству; (2) пересечение (теоретико-множеств. аналог произведения) любого множества и П. множества есть П. множество; (3) подобно тому как 0 не превосходит никакого натурального числа, П. множество есть подмножество («несобственное») любого множества (в т. ч. и самого себя). К рассмотрению П. объектов
434 «ПУТЕШЕСТВИЕ В ИКАРИЮ» — ПУФЕНДОРФ
 приводят прежде всего соображения технич. удобства — они делают ненужными многочисленные и громоздкие оговорки (типа «если таковые существуют» и т. п.) в формулировках различных предложений; в ряде случаев невозможность (или хотя бы неумение) решить вопрос о пустоте или непустоте к.-л. конкретного объекта теории делала бы такие оговорки неизбежными, что, очевидно, осложнило бы (хотя и не принципиальным образом) построение теории. Экстенсиональное (объемное) понимание «пустоты» можно охарактеризовать и интенсионально (с т. зр. содержания), напр., как противоречивость нек-рого понятия; так, П. множеством можно, по определению, называть множество всех таких х, что хфх. Но никакая такая интенсиональная характеристика не исчерпывает полиостью экстенсиональной, поскольку фактически истинное предложение о пустоте нек-рого класса не обязательно является и логически истинным (пример: класс жителей Луны; см. Логическая истинность, Фактическая истинность}.
приводят прежде всего соображения технич. удобства — они делают ненужными многочисленные и громоздкие оговорки (типа «если таковые существуют» и т. п.) в формулировках различных предложений; в ряде случаев невозможность (или хотя бы неумение) решить вопрос о пустоте или непустоте к.-л. конкретного объекта теории делала бы такие оговорки неизбежными, что, очевидно, осложнило бы (хотя и не принципиальным образом) построение теории. Экстенсиональное (объемное) понимание «пустоты» можно охарактеризовать и интенсионально (с т. зр. содержания), напр., как противоречивость нек-рого понятия; так, П. множеством можно, по определению, называть множество всех таких х, что хфх. Но никакая такая интенсиональная характеристика не исчерпывает полиостью экстенсиональной, поскольку фактически истинное предложение о пустоте нек-рого класса не обязательно является и логически истинным (пример: класс жителей Луны; см. Логическая истинность, Фактическая истинность}.
Оптологич. допущение (иногда неявное) о непусто
те тех или иных классов (или предметных областей)
играет важную роль в логике. Напр., такое «очевид
ное» предложение, как ухА (х) з jxA (х) («если все х
обладают св-вом А, то существует х, обладающий
свойствами ^4»), на П. предметной области оказывается
ложным (в этом случае предложение ухА(х) истинно,
а предложение -зхА(х) ложно для любого предиката
А). Поэтому т. н. универсальную общезначимость
предложения yjxA { x )^ jxA ( x ) узкого предикатов
исчисления следует понимать как его общезначимость
в любой непустой предметной области, описы
ваемой с помощью этого исчисления. (Вообще непус
тота предметной области предполагается для исчис
ления предикатов в качестве исходного «онтологиче
ского» допущения.) Др. пример: 4 из 19 правильных
(с т. зр. аристотелевой силлогистики) модусов катего-
рич. силлогизма основываются на такой интерпрета
ции общеутвердит. высказываний вида «Все А суть .В»,
согласно к-рой класс истинности А не является пус
тым. В рамках классич. логики П. класс есть дополне
ние универсального класса. Это обстоятельство вместе
с естеств. аналогией между логич. предложениями
(или формулами) и их «множествами (классами) истин
ности» [т. е. множествами (классами) предметов, для
к-рых они истинны], согласно к-рой П. множество ста
вится в соответствие (тождествепно-)ложному высказы
ванию, а универсальное — (тождественно-)истинному,
обусловливает далеко идущие аналогии между логич.
и теоретико-множественными (теоретико-классовыми)
понятиями и предложениями. Примерами могут слу
жить хотя бы упомянутые выше предложения; (1) — (3)
и соответственно предложения: (1') дизъюнкция любого
предложения с ложным эквивалентна данному предло
жению; (2') конъюнкция любого предложения с лож
ным— ложна; (3') из ложного предложения следует лю
бое предложение. При вероятностной интерпретации
понятий теории множеств (и теоретико-множеств. обос
новании теории вероятностей, см. Вероятность, Ве
роятностная логика) аналогом понятия П. множества
служит понятие невозможного события. Эпитет «П.»
применяется естеств. образом и к др. объектам, рас
сматриваемым в логике и математике (хотя любое такое
применение, при всей своей естественности, должно
быть, строго говоря, специально оговорено, чтобы счи
таться осмысленным), напр., «выводимость из П.
посылки» есть синоним «доказуемости» (см. Вывод в
математической логике). ю - Гастее. Москва.
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ИКАРИЮ» (1840) — осн. соч. Кабе.
ПУФЕНДОРФ (Pufendorf), Самюэль (8янв. 1632— 26 окт. 1694)— нем. юрист, представитель школы естественного права. Изучал междунар. право в Лей'п-
цигском ун-те, философию и математику — в Поиском.
|
|
Заслугой П. является попытка построить науку о праве как светскую. Свою систему взглядов на естеств. право (изложенную в работах «О праве естественном»— «De jure naturae et gentium», L., 1672, и более кратко в «De officio hominis et civis», L., 1673; в рус. пер. «О должности человека и гражданина», [СПБ], 1726) П. строил, опираясь на идеи Греция, Гоб-бса, Спинозы и следуя рацио-налистич. методу картезианства. Все положения науки о праве и гос-ве следует, согласно П., строить геометрич. методом. Предметом обществ, наук являются «вещи моральные» — семья, гражд. общество, гос-во. Из трех источников естественного права, отмеченных Гроцием (общественные инстинкты, человеческий разум и обществ, воля), П. придавал гл. значение первому. Вместе с тем П. уделял большое внимание роли разума, считая, что человек—существо разумное и лишь как таковое может руководствоваться определ. правилами. Из обществ, инстинктов (стремление к свободе, к самосохранению) вытекает все естеств. право, безраздельно господствовавшее в естеств. состоянии. Но, в отличие от Гоббса, у П. в естеств. состоянии господствует по всеобщая вражда, а мир. Гос-во П. признавал нравств. личностью (persona шoralis), воля к-рой создается в результате единения воли многих — в общественном договоре и рассматривается как воля всех. Гос-во обязано использовать силы и способности каждого в целях достижения мира и безопасности. По мнению П., идея божеств, происхождения власти разрушает идею договора между верховной властью и гражданами и подрывает осн. законы гос-ва. П. стремился подчинить религию гос. власти, однако, требовал от нее религ. терпимости, а также терпимости по отношению к науке. Сам П. был сторонником деизма — «естественной религии», не связывающей науки. П. провозглашал этич. и юри-дич. равенство граждан, а также считал, что обе стороны договора (и подданные и правители) одинаково обременены обязанностями по отношению друг к другу. Вместе с тем П. не допускал сопротивления подданных верховной власти. В политике П., выражая интересы нем. буржуазии 17 в. в условиях экономич. и политич. отсталости Германии, когда феод, порядки в стране, несмотря на проникновение капитализма, были еще сильны, а буржуазия крайне слаба и монархически настроена, как и др. представители нем. школы естеств. права (Томазий, X. Вольф), был консерватором. Он рекомендовал лишь некоторое ограничение императорской власти. Считая, как и Гоббс, междунар. право видом естественного, П. полагал, что первое обладает лишь моральной силой. Такая концепция устраивала нем. князей, т. к. оправдывала феод, раздробленность страны и ослабляла силу междунар. правовых норм.
Соч.: Elementorum Jurisprudentiae Universalis libri II, Hagae, 1660; v. 1—2, Oxf., 1931; De statu Imperii Germanici, Genevae, 1667 (под псевд. Severinus de Monzabano, нов. изд., Weimar, 1910); Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, Fr./M., 1684; Tl 1—4, Fr./M., 1730—33; De habita religionis christianae ad vitam eivilem, Bremae, 1687; в рус. пер.— Введение в историю Европейскую, т. 1—2, СПБ, 1767—77; Политич. рассуждение о согласии политики истинной с религиею христианскою, СПБ, 1815.
Лит.: История политич. учений, М., 1960, с. 238 — 42; История политич. учений, т 1, М., 1965, с. 172—73; J a s t-г о w J., Pufendorfs Lefire von der Monstrositat der Reichsver-fassung, В , 1882; L e z i u s P., Der Toleranzbegriff Lockes und Putendorfs,Lpz.,t 900 (Stndien zur Geschichte der Theologie und
ПЬЕР ИЗ МАРИКУРА — ПЯТИДЕСЯТНИКИ
435
 der Kirche, Bd 6, Н. 1); TrcitschkcH. von, Historische
der Kirche, Bd 6, Н. 1); TrcitschkcH. von, Historische
und politische Aufsatze, Bd 4, Lpz., 1920; Wolf E., Grotius,
Pufendorf, Thomasius, Tubingen, 1927; его же, Grosse Rechts-
denker der deutschen Geistesgeschichte, 4 Aufl., Tubingen,
1963; Welz el H., Die Naturrechtslehre S. Pufendorfs,
Hdlb., 1930 (нов. изд., В.,,1959). E . Вейцман. Москва.
ПЬЕР ИЗ МАРИКУРА (Pierre de Maricourt, Petrus Peregrinus) — франц. ученый 2-й пол. 13 в. Осн. внимание П.изМ. уделял естеств. наукам, занимался математикой, оптикой, астрономией, медициной, алхимией; изобрел ряд физич. приборов, пытался разрешить задачу создания «вечного двигателя». Сохранилось два соч. П.изМ.: «Новое устройство астролябии» (Nova compositio Astrolabii particularis, не издано) и «Послание о магните» ([Epistola]... de magnete, в кн.: G. Hellmarm, Neudrucke von Schriften und Karten uber Meteorologie und Erdmagnetismus, h. 10—Rara Magnetica 1269 — 1599, В., 1898; в рус. пер.— Послание о магните. Вводная статья, перевод и примечания В. П. Зубова, см. «Труды ИИЕТ», 1959, т. 22, с. 293—323). В последнем П. из М. выступал как сторонник экспериментального метода, считал, что исследователю «... надлежит знать природу вещей, быть осведомленным о небесных движениях и вместе с тем надлежит ему прилежно заниматься ручным трудом, чтобы посредством своего труда выше показать чудесные действия, ибо благодаря такому прилежному занятию ему ничего не будет стоить исправить ошибку, которую он вовеки не исправил бы при посредстве одной физики и математики, сам не владея ручным трудом» (указ. соч., с. 302). В качестве экспериментатора и исследователя П. из М. оказал влияние на Р. Бэкона, к-рый упоминал в своих соч. «магистра Петра», с похвалой отзываясь о его науч. заслугах. Интерес к «Посланию» П. из М., первому европ. соч., специально посвященному магнитным явлениям, возрос в 16 в., в период формирования новой экспериментальной науки.
Лит .: Schlund E., Petrus Peregrinus von Maricour,
sein Leben und seine Schriften, «Archivum Franciscanum Histo-
ricum», 1911, Bd 4, S. 436 — 55, 633—43; 1912, Bd 5, S. 22—40;
D a u J a t J., Note sur un fondateur de la physique du magne-
tisme au XVIII siecle: Pierre de Maricourt, «Thales», 1936,
2 annee, p 158—61. А. Горфункелъ. Ленинград.
ПЬЕРОН (Pieron), Анри (18 июля 1881 — 6 нояб. 1964) — франц. психолог, психофизиолог и психотехник. Ученик А. Бине и П. Жане; директор пси-хологич. лаборатории Сорбонны, где по его инициативе создан (1921) Ин-т психологии, основатель Нац. ин-та проф. ориентации (1928).
П. понимал психологию как науку о целостном поведении организмов и указывал, что познание пси-хич. процессов должно опираться на физиологию высшей нервной деятельности, на гистологию и морфологию головного мозга, на данные психологии животных и на открытия в области изучения социального развития человека. Социальное воздействие на человека, по П., осуществляется в двух направлениях: оно изменяет, социализирует элементарные формы биологич. поведения п порождает новые, специфически социальные формы поведения (вербальное поведение, образование и воспитание, поведение в труде и т. д.).
В области психофизиологии П. установил ряд закономерностей, касающихся соотношения интенсивности порогового возбуждения и его продолжительности (закон Пьерона), зависимости нарастания яркости ощущений от цветности раздражителя и др.
С оч.: L'evolution de la memoire, P., 1910; Le cerveau et la pensee, 2 ей ., Р., 1923; Psychologie experimentale, P., 1927; ... Aux sources de la connaissance: La sensation, guide de vie, [P., 1945]; La vision en lumidre intermittente, P., 1961; Examens et docimologia, P., 1963.
Лит.: Соколов Е. Н., Проблема ощущений в новом
труде А. П., «Вопр. психологии», 1955, № 4; Анри П. (К 811-ле
тию со дня рождения), там же, 1961, № 4; Анри П. Шекро-
лог), там же, 1965, .№ 3. О. Тутунджян. Ереван.
ПЬЕТРО Д'АЕАНО (Pietro d'Abano, Petrus de Padua, Aponensis) (1257—1315) — итал. философ, основатель падуанской школы аверроистов. Был проф. медицины, философии и, возможно, математики в Падуе. В соч. «Примиритель разногласий философов и врачей» («Conciliator differentiarum philosophorum et prae-cipue medicorum», прибл. 1310, Matuae, 1472; Venetiis, 1476) в противоположность схоластам-томистам истолковывал философию Аристотеля в натура-листич.-материалистич. духе. П. д'А. составил большое руководство по астрономии. Одним из первых в истории итал. и европ. натурфилософии сделал попытку поставить в зависимость от движения небесных светил процессы природы и события человеч. жизни, включая изменения в области религии, за что был привлечен к следствию инквизиции, как и за утверждение о вечности и несотворенности мира. В этом учении П. д'А. в извращенной форме была выражена мысль о естеств. закономерности природных процессов и земных событий, освобождавшихся, т. о., от всемогущего контроля христ. бога.
С о ч.: Liber copilatois phisonomie, Padua, 1474; Expo-sitio problematum Aristotelis, Mantuae, 1475, [Venetiac], 1162, Venetiis, 1501.
Лит .: Dyroff A.. Dante und Pietro D'Abano, «Philos.
Jahrb. der Gorresgesellschaft», 1920, Bd 33, S. 253—71; S a i t-
t a G., II pensiero italiano neir umanesimo e nel rinascimento,
v. 1, Bologna, 1949, p. 32—39; Nardi В., Saggi sull'aristo-
telismo padovano del secolo XIV al XVI, Pirenze, [1958], p.
1 — 74. В. Соколов. Москва.
ПЯТИДЕСЯТНИКИ — религ. секта, учение к-рой отправляется от евангельского сюжета о «сошествии св. духа на апостолов» в день т. н. пятидесятницы. Отличит, особенность учения П. — идея «индивидуальной пятидесятницы», понимаемой как способность ревностного верующего приобрести «дары св. духа», проявляющиеся в глоссолалии («говорении на языках») и исцелении больных путем наложения на них рук. По своим идеям П. близки баптистам и адвентистам: первым — по идее греховности человека и единственно возможному для него спасению благодаря искупит, жертве Христа; вторым — по идее о непосредств. близости второго пришествия и установления на земле тысячелетнего царства Христа.
П. появились в первом десятилетии 20 в. почти одновременно в Уэльсе и Лос-Анжелосе и распространились во мн. странах: Скандинавии, Венгрии, Польше, Германии, а также в Лат. Америке. Особенно большой успех проповедь П. имела среди последователей лютеранства, методизма, баптизма. В наст, время общая численность П. превышает 10 млн. чел. В 1906 —14 П. проникли из Скандинавии в Финляндию, оттуда в Россию, вербуя себе сторонников гл. обр. среди рядовых последователей евангельского христианства и баптизма, недовольных диктатурой «верхов». В первые годы после Октябрьской революции П. не отличались широким прозелитизмом. Оживление деятельности в годы нэпа продолжалось до конца 20-х гг. Секта нмела централизованное руководство, проводила съезды, издавала журнал «Евангелист». Значительно уступая в численности евангельским христианам и баптистам, секта П. к исходу 20-х гг. сравнялась по числу последователей с адвентистами. П. упорно отказывались от службы в Красной Армии. В 1944—45 П., при условии отказа от глоссолалии, были приняты в Союз евангельских христиан. Тем не менее они продолжали придерживаться своего экстатич. культа. А. Клибанов. Москва.
р
 РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ — об
РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ — об
ществ. строй, основанный на рабстве и рабовладель-честве; первая в истории человечества антагонистич. общественно-экономич. формация. Рабство, т. е. труд одних людей на других, соединенный с личной принадлежностью трудящегося тому, кто присваивает продукт его труда,— явление, существовавшее в разных историч. условиях. В Р. ф. рабский труд играет роль господствующего способа ироиз-ва. Странами, в истории к-рых историки открывают наличие Р. ф., являются: Египет, Вавилония, Ассирия, Персия; гос-ва Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции и Италии. Этот перечень свидетельствует, что Р. ф. имела значение мировой системы. Возникнове-лие Р. ф.— историч. закономерность. Но эта закономерность только в рамках общемирового историч. процесса, но отнюдь — не в истории отд. народов или стран. Для раскрытия ее философско-историч. смысла необходимо изучение тех рабовладельч. гос-в, пароды к-рых пережили полно выраженную эпоху первобытнообщинного строя, перешли потом к эпохе рабовладельч. строя, а затем вступили на путь феодализма (греки, итальянцы, персы, индийцы, китайцы). Возможно, однако, и дальнейшее ограничение материала. Для историч. моделирования Р. ф. важно взять те ярко выраженные и богатые содержанием ее проявления, к-рые возникли и развивались независимо друг от друга: у народов КитаяиународовГрециииИталии.
Общей предпосылкой возникновения Р. ф. было развитие орудий произ-ва, разделения и кооперации труда, в результате чего стало возможным произ-во прибавочного продукта и возникновение частной собственности и эксплуатации. В развитии Р. ф. выделяют 3 этапа: 1) складывание, 2) утверждение и развитие, 3) достижение зенита и распадение. Историч. характеристику первого этапа можно построить на материале истории Китая времен Чжоуского царства (11 — 8 вв. до н. э.), истории Греции «Гомеровской эпохи» (9—8 вв. до н. э.), истории Италии (8—6 вв. до н. э.). Характеристику второго этапа можно построить на материале истории Китая времени рабовладельч. царств периода Чуньцю-Чжаньго (8—3 вв. до н. э.), Греции — эпохи полисов в период их расцвета (5—4 вв. до н. э.), Италии — времени Рим. республики поздней поры (3—1 вв. до н. э.). Характеристику 3-го этапа можно построить на материале истории двух империй: Ханьской на Востоке (2 в. до н. э. — 2 в. н. э.), Римской на Западе (1 в. до н. э.— 5 в. н. э.).
Для этапа становления Р. ф. характерны четыре процесса. Первый: постепенное приобретение рабским трудом, бытовавшим до этого лишь на уровне домашнего рабства, значения важнейшего средства интенсификации ремесл. произ-ва и с. х-ва, интенсификации, ставшей необходимой ввиду количеств, и качеств, роста потребностей. Второй: рост произ-ва за счет расширяющегося применения труда рабов,
появление в связи с этим возможности накопления и отчуждения производимого продукта и возникновение на этой почве частной собственности. Третий: возникновение в связи с появлением частнособст-веннич. присвоения продукта имуществ. неравенства внутри общины, обусловленного возможностью для нек-рых членов общины в силу наследования ими обществ, должностей захватывать в частную собственность рабов, а затем — землю. Четвертый: складывание в составе общины первых классов — рабов и рабовладельцев, антагонистических по своему положению в системе произ-ва, и вместе с тем зарождение антагонистич. отношений между крупными рабовладельцами-землевладельцами, с одной стороны, и мелкими производителями — с другой. Эти процессы развертывались в обстановке противоречий: рабского труда и труда мелких свободных производителей; этих последних и крупных рабовладельцев-землевладельцев; этих последних и родовой знати общиннородовой эпохи. В итоге борьбы, вызванной этими противоречиями, и распада институтов родоплеменного строя возникает гос-во, как стабилизатор и регулятор отношений между антагонистич. классами в интересах господствующего класса и как орган управления. Признаком сложения такой обстановки, видимо, являются: в истории Китая — реформы, проведенные в царстве Ци (7 в.) и в царствах Лу, Чу, Чжэн (6 в. до н. э.); в истории Греции — реформы Солона и Клис-фена (6 в. до н. э.); в истории Италии — реформы Сер-вия Туллия (6 в. до н. э.).
Второй этап является временем расцвета того, что в истории Греции получило название «полис», в истории Италии — «civitas», в истории Китая —«го». Под этими наименованиями скрывается в общем одно и то же: гос-во, сведенное к одному центру — городу, господствующему над всей подвластной ему территорией, причем такой город-гос-во был не только политическим, но и экономическим целым. Именно в этом смысле город-гос-во и был базисом собственности — в том ее масштабе, к-рый она тогда приняла: ее объектом были, во-первых, рабы, во-вторых, земля. Преобладающей формой собственности на рабов была частная; форма собственности на землю была двойной — общинной и частной, причем последняя была опосредствована первой: условием частной собственности на землю была принадлежность к гражд. общине. Рабский труд па этом этапе еще не имел того значения в х-ве, к-рое он получил позднее. Именно к этому этапу античности относятся слова Маркса: экономич. основой «... классического общества в наиболее цветущую пору его существования...», когда общинные формы собственности уже разложились, а «... рабство ещё не успело овладеть производством в сколько-нибудь значительной степени», было «... мелкое крестьянское хозяйство... и независимое ремесленное производство...» («Капитал», т. 1, 1955, с. 341, прим.). Эта характеристика относится к Греции и
РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ
437
 Риму классич. эпохи, но она приложима и ко второму этапу истории Р. ф. и в Китае, в к-ром эпоха «ле го» — огд. гос-в (7—3 в. до н. э.) с полным правом, может быть названа «классической».
Риму классич. эпохи, но она приложима и ко второму этапу истории Р. ф. и в Китае, в к-ром эпоха «ле го» — огд. гос-в (7—3 в. до н. э.) с полным правом, может быть названа «классической».
Кризис города-гос-ва обусловил переход к третьему этапу — большим рабовладельч. державам. Развившиеся производит, силы требовали др. масштабов самого произ-ва и потребления. Еще в конце классич. эпохи возникла тенденция к образованию широких экономич. и лолитич. общностей — либо в форме союзов, напр. Ахейский, 1-й и 2-й Афинские и Коринфский союзы в Греции 5—4 вв. до н. э., либо в форме федераций, как федерация италийских городов-гос-в иод гегемонией Рима в 4 в. до н. э., либо в форме поглощения одних гос-в другими — четыре крупных города-гос-ва в Китае сер. 4—сер. 3 вв. до н. э.: Хань, Ци, Цинь, Чу. Концом этого процесса политич. и экономич. интеграции следует считать образование в 3 в. до н. э. т. н. эллинистич. монархий и Рим. республики, единого большого гос-ва в Китае — империи (династии Цинь и Хань). С 1 в. до н. э. возникает Рим. империя. В рамках этих больших мировых держав Р. ф. и достигла максимума своего развития. Сущность этого процесса — превращение рабского труда в осн. силу во всем произ-ве, что подрывало положение массы свободных мелких производителей. Этот процесс соединился с ростом крупного землевладения (латифундии). К этому толкали повысившиеся требования, обращенные к этому произ-ву со стороны многочисленного и культурно выросшего населения городов, неуклонно увеличивавшихся в своем числе и в своих размерах. К этому же толкал и чрезвычайно расширившийся обмен между районами, ранее обособленными, объединенными в одном гос-ве — как в евро-афро-азиатском круге земель времен эллинистич. монархий, а позднее Римской империи, так и в восточно- и центрально-азиатском круге, подвластном Ханьской империи.
Растущая торговля стимулировала ремесл. произ-во, нуждавшееся в этих условиях в улучшении своей техники и повышении производительности труда. Совокупность этих условий могла образоваться только в городе, поэтому торгово-пром. город и стал главным очагом цивилизации. Сельское же х-во все еще оставалось почти на прежнем техиич. уровне; необходимое увеличение продукции достигалось гл. обр. увеличением рабочей силы — рабов. Поэтому цивилизация этого позднего этапа истории Р. ф. есть в первую очередь цивилизация города.
О наступлении конца третьего этапа истории Р. ф. говорит ряд явлений. Рабский труд перестал обеспечивать необходимое развитие х-ва. Для повышения продуктивности произ-ва не только в ремесле, но и в с. х-ве требовалась уже не живая машина, нужен был человек, самостоятельно организующий свою работу. В связи с этим в составе рабского населения появился культурный, интеллектуально развитый слой, ничуть не уступающий в этом отношении труженикам из свободного населения, особенно земледельческого. Значение и роль рабского труда в произ-ве вступили в полное противоречие с положением раба в социальной структуре. Уравнение рабов — в сфере их трудовой деятельности — со свободными трудящимися становилось насущной экономич. необходимостью. О кризисе Р. ф. свидетельствовало также огромное увеличение имуществ. неравенства. Угроза пауперизации нависла над всей массой свободного трудящегося населения, как ремесленного, так и земледельческого. Поскольку же свободные мелкие производители составляли большинство населения, постольку их экономич. положение затрагивало само существо социально-экономич. системы.
Т. о., экономич. кризис перерастал в кризис социальный и привел в конечном счете к распаду рабовладельч. строя. Р. ф., создавшая в свое время условия для огромного развития человечества, исчерпала свои возможности и превратилась в осн. препятствие на пути дальнейшего прогресса. В историч. лит-ре встречаются утверждения, что гл. силой, ниспровергшей рабовладельч. строй, были рабы: «рабы опрокинули Рим». Встречается даже выражение «революция рабов». Такие утверждения не соответствуют историч. реальности. Разумеется, волнения рабов и даже восстания их (напр., возглавленное Спартаком) — историч. факт. Но именно свободные земледельцы и ремесленники и были главной силой, покончившей с рабовладельч. строем.
Утрата рабским трудом значения осн. экономич. силы привела к исчезновению рабов как класса: рабы слились с массой свободных мелких производителей, т. е. стали свободными. Однако на том этапе мировой истории экономич. жизнь общества могла развиваться только на основе принудит, регулирования хоз. деятельности трудящегося населения, осуществлявшегося внеэкономич. средствами, т. е. силой — воинской и правовой. Мелкие производители стали обязанными отдавать тем, кто ими управлял, ту или иную часть производимого ими продукта. Ввиду этого признаком краха Р. ф. служат именно движения свободного трудящегося населения рабовладельч. страны, движения сопротивления налагаемому на него новому — феод, гнету: т. н. «Восстание желтых повязок» в Китае (конец 2 в.), восстания 3 в. н. э. в афр. провинциях Рима и в Галлии (восстание багаудов). Жестокое подавление этих восстаний и утвердило новые формы эксплуатации, а это значит и новые феод, правовые и иолитич. институты.
Историч. смысл Р. ф. очень велик и сложен. Она продемонстрировала прежде всего процесс образования классового общества, резкого антагонизма классов, процесс образования различных обществ. груплг образования гос-ва. Р. ф. выработала и осн. формы власти в гос-ве, охарактеризованные Полибием и Сима Цяием. Оба историка иришли к идее круговорота форм.
К тому общезначимому, что образовалось в эпоху Р. ф., относятся и те категории, к-рые у пас фигурируют в виде понятий национального и общечеловеческого. Этап Р. ф., связанный с городом-гос-вом, создал представление о локальной — местной этнической —• общности; во времена союзов и федераций эта локальная общность стала этнической уже в более широком масштабе. С образованием же империй на место этнич. общности стала общность общечеловеческая. Именно в этом и состоит то ощущение общности, к-рое мн. философы и историки эпохи эллинизма обозначают словом космополитизм. Идея человечества, как единого большого целого, проявилась и в понятии «Вселенная», сформулировавшемся именно тогда. У греков это была «эйкумена» — «обитаемая земля», у римлян — «orbis terrarum» — «круг земель», у китайцев — «тянься» — «поднебесная». Столь же существенной, как и идея человечества, является оформившаяся тогда идея гуманизма — представление о человеке, как о наивысшей ценности, как о носителе всех основ обществ, жизни, как о творце культуры. На этой основе был поставлен важнейший для историч. деятельности человека вопрос о его роли в общем процессе бытия. Обществ, строй, выработавшийся в условиях Р. ф., показал существование неравенства людей. Неравенство социальное породило' идею о неравенстве нравственном {Конфуций, Цицерон). Однако самым резким выражением идеи неравенства было деление на людей в полном смысле слова, кем были свободные, и на людей-вещей, кем
438
РАБОЧИЙ КЛАСС
 были рабы. Именно в связи с таким резчайшим противопоставлением одних людей другим и была сформулирована в двух возникших в это время крупнейших религиях — буддизме и христианстве — идея полной человеческой равноценности как рабов, так и свободных.
были рабы. Именно в связи с таким резчайшим противопоставлением одних людей другим и была сформулирована в двух возникших в это время крупнейших религиях — буддизме и христианстве — идея полной человеческой равноценности как рабов, так и свободных.
В эпоху Р. ф. были заложены важнейшие основы науч. познания природы и человеч. жизни. Противопоставление двух обществ, классов, соединившись с наблюдениями простейших явлений в природе, привело к идее противоположностей (в Китае — инь и ян, а также у Пифагора и Гераклита), связи («восемь триграммов» Ицзина, Гераклит, буддийская концепция Махаяны — «Большого колеса», и др.). Возникли также идеи о существовании первоэлементов материальной природы (Эмпедокл, чарваки, Веданта, Шу-цзин), круговорота (Гераклит, чарваки, категория «преодоления» у китайцев), мельчайших частиц вещества (атом у Левкиппа и Демокрита, «ану» у индийцев). Была создана также логика, как учение о познании. Она развивалась у индийцев, у китайцев, у греков (Акшапада, Мо-цзы, Аристотель).
В эпоху Р. ф. с исключит, отчетливостью и рез
костью проявились противоположности, прежде всего
общественные. Эти противоположности пребывали
в состоянии непрерывной борьбы, результатом к-рой
был переход на более высокую ступень обществ, раз
вития. Н. Конрад. Москва.
Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1 — 3, М а р к с К. и Э н-г е л ь с Ф., Соч., 2 изд., т. 23, 24, 25 (ч. 1 и 2); е г о же. Формы, предшествующие капиталистич. производству, [M.J, 1940; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 1,79—201; его же, Происхождение семьи, частной собственности и государства, там же, т. 21, с. 108, 109—19, 120 — 29, 145 — 55, 156—78; Ленин В. И., О государстве, Соч., 4 изд., т. 29; Античный способ произ-ва в источниках, Л., 1933; Т ю м е н е в А. И., История античных рабовладельч. обществ, М.—Л., 1935; Валлон А., История рабства в античном мире, пер. с франц., [т. 1 — 2, М.], 1941; К о н р а д П. И., Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве, пер. и исследование, М.—Л., 1950; Р а н о в и ч А. Б., Эллинизм и его историч. роль, М.—Л., 1950; Утченко С. Л., О классах и классовой структуре античного рабовладельч. общества, «Вестн. др. истории», 1951, № 4, с. 15—21; Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства, там же, 1952, Л° 3, с. 197—303 (Приложение); Всемирная история, т. 1—2, М., 1955—56; Го М о - ж о, Эпоха рабовладельч. строя, пер. с кит., М., 1956; ЮмашевА. И., Рабовладельч. способ произ-ва, М., 1957; ШтаерманЕ. М., Кризис рабовладельч. строя п Зап. провинциях Римской империи, М., 1957; Т о м с о н Д ж., Исследования по истории древнегреч. общества. Доисторич. Эгейский мир, пер. [с англ.], М., 1958; Алексишвили М., Из истории глубины веков. Рабовладельч. строй и его падение, пер. с груз., Тб., 1959; Р о б у ш И. А., О переходных производств, отношениях при формировании рабовладельч. общества, «Уч. зап. Ошского гос. пед. ин-та», 1959, вып. 3, с. 137—66; Б оннар А., Греч, цивилизация, пер. с франц., т. 1—3, М., 1958—62; Законы Ману, пер. [с санскрита], М., 1960; Ч е р н и л о в с к и й 3. М., История рабовладельч. гос-ва и права, 2 изд., М., 1960; К о р с у н-с к и й А. Р., Проблемы классовой борьбы в античном обществе в освещении совр. бурш, историографии, «Вопр. истории», 1962, ЛЬ 8, с. 168—75; Черкасова Е. А., Распад родового строя и образование гос-ва, «Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та. Всеобщая история», 1963, т. 115, вып. 4, с. 125—60; Е л ь и и ц-к и й Л. А., Возникновение и развитие рабства в Риме в VI11— III вв. до н. э., М., 1964; Чанана Дев Рад ж, Рабство в древней Индии, М., 1964; ШтаерманЕ. М., Расцвет рабовладельч. отношений в Римской республике, М., 1964; Westermann W. L., The slave systems of Greek and Roman antiquity, Phil., 1955; We is k op f E. Ch., Bemer-kungen zum Wesen und zum Begritf der Sklaverei, «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1957, Jg. 5, H. 3; Etat et classes dans l'antiquite esclavagiste. Structure. Evolutions, P., 1957; Ruben W., Die Lage der Sklaven in der altindischen Gesell-schaft. В., 1957; Vernant J. P., L'antiquite esclavagiste, «Pensee», 1958, № 77; Slavery in classical antiquity. Views and controversies, ed. by M. I. Fenley, Camb., 1960; D 1 11 S., Roman society in the last century ot the Western Empire, N. Y., 1960.
H . Стариков. Москва.
РАБОЧИЙ КЛАСС, или пролетариа т,— при капитализме — класс наемных работников, лишенных собств. средств произ-ва, живущих исключительно путем продажи своей рабочей силы и эксплуатируемых капиталом непосредственно в процессе
капиталистич. произ-ва (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 4, с. 424, прим.; В. И. Ленин, Соч., т. 2, с. 84). При социализме социальная природа Р. к. коренным образом изменяется. Овладевая средствами произ-ва, превращая их в обществ, собственность и уничтожая тем самым пролет, условия своего существования, он становится классом тружеников обще-нар. социалистич. предприятий, приобретает руководящую роль в обществе. Р. к. представляет собой главную производительную силу индустриально развитых стран.
Марксистско-ленинское учение отождествляет понятия «Р. к.» и «пролетариат» применительно к капиталистич. условиям. Нек-рые бурж. и реформистские теоретики разрывают и противопоставляют эти понятия; к Р. к. они относят только рабочих физич. труда, а под пролетариатом подразумевают либо обездоленных людей вообще независимо от их конкретного социального положения и вне определ. историч. эпохи (А. Тойнби), либо только пром. рабочих (Р. Арон). Обе эти т. зр. игнорируют главное — место Р. к. в системе капиталистич. произ-ва. В отличие от рабов и крепостных, наемные рабочие свободны юридически, т. е. лично независимы; в отличие от крестьян, ремесленников, кустарей,— свободны от собственности на орудия и средства произ-ва, т.е. располагают только своей рабочей силой. Предпосылки образования Р. к. зародились в недрах феод, общества с появлением на европ. континенте в 14 в. первых ростков капиталистич. способа произ-ва; однако в ту эпоху численность свободных рабочих была ничтожной. Подлинная история Р. к. началась с наступлением капиталистич. эры, т. е. с 16 в., когда в Англии, а потом и в др. странах Зап. Европы развернулся процесс первонач. накопления. Крест, беднота и гор. плебейство были той гл. социальной средой, из к-рой выделился мануфактурный пролетариат 16 —18 вв. Его называют также предпролетариатом. Совр. пролетариат, промышленный, возник в результате пром. переворота (конец 18 — сер. 19 вв.). С переходом во всех осн. отраслях пром-сти к машинному, фабричному произ-ву «... рабочий класс впервые действительно стал устойчивым классом населения...» (Э н-г е л ь с Ф., Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 2, с. 257). К сер. 19 в. полностью сложились и объективные условия для появления науч. коммунизма. Возникновение марксизма (см. Марксизм-ленинизм) положило начало превращению пролетариата из класса «в себе» в класс «для себя» (см. Класс «в себе» и класс «для себя»),
Маркс и Энгельс открыли в Р. к. ту главную материальную силу, к-рая, будучи вооружена революц. теорией, способна ликвидировать капиталистич. строй и создать новое общество без классов и эксплуатации. Всемирно-историч. роль Р. к. вытекает из следующего: 1) В самих условиях существования пролетариата заложено отрицание капиталистич. эксплуатации, а вместе с тем — всякой эксплуатации вообще. Антикапиталистич. стремления Р. к. полностью совпадают с осн. направлением развития совр. производит, сил, перерастающих рамки частной собственности и требующих обобществления средств произ-ва. 2) Развитие крупной капиталистич. пром-сти ведет к упадку и уничтожению других трудящихся классов (мелких крестьян, ремесленников и т. д.), пролетариат же является ее непосредств. продуктом и постоянно растет. 3) Пролетариат — класс, к-рый в силу своего положения наиболее способен к организации, к развитию классового самосознания. Условия труда и жизни воспитывают у рабочих дух коллективизма, солидарности. Самим ходом классовой борьбы пролетариат подготавливается к восприятию социалистич. идеологии. 4) Интересы Р. к. объективно сов-
РАБОЧИЙ КЛАСС
439
 падают с интересами громадного большинства трудящихся. Даже если пролетариат или его революц. авангард составляют меньшинство населения, они выражают действит. интересы подавляющего большинства. Поэтому сила и подлинная роль Р. к. в история, борьбе классов неизмеримо выше, чем его доля в составе населения.
падают с интересами громадного большинства трудящихся. Даже если пролетариат или его революц. авангард составляют меньшинство населения, они выражают действит. интересы подавляющего большинства. Поэтому сила и подлинная роль Р. к. в история, борьбе классов неизмеримо выше, чем его доля в составе населения.
История подтвердила правоту марксистско-ленинского учения о всомирно-историч. роли Р. к. как созидателя социалистич. общества. С 30—40-х гг. 19 в. открылась полоса крупнейших самостоят, выступлений европ. пролетариата против буржуазии (чартистское движение в Англии, восстания силезских ткачей в Германии, июньское восстание 1848 во Франции, Парижская Коммуна 1871). Развитие рабочего движения вширь и вглубь сопровождалось образованием проф. союзов, формированием пролет, политич. партий, распространением марксизма и вытеснением утошгч., мелкобурж. форм социализма, что связано гл. обр. с деятельностью Союза коммунистов и 1-го Интернационала. К концу 19—нач. 20 вв. в рабочем движении Запада усилилось влияние реформизма, а центр революц. рабочего движения переместился в Россию. С началом 1-й мировой войны в междунар. рабочем движении произошел раскол на два осн. течения — революционное во главе с партией большевиков и ее основателем — Лениным, и реформистско-оппортунистическое, возглавленное лидерами 2-го Интернационала. В окт. 1917 рус. пролетариат в союзе с крест, беднотой осуществил первую в миро социалистич. революцию и утвердил диктатуру пролетариата. Силы мирового революц. рабочего движения объединились в 3-й, Коммунистич. Интернационал. После 2-й мировой войны социалистич. революции победили в ряде стран Европы и Азии, в результате чего социализм превратился в мировую систему. Победа революции на Кубе наглядно продемонстрировала возможность перехода новых стран на путь социализма в условиях дальнейшего углубления общего кризиса капитализма.
Предпринимаются попытки поставить под сомнение или опровергнуть положение о всемирно-историч. роли Р. к., рассматривая его как «мифотворческое», «мессианское» (Р. Арон, Ж. Кальвез и др.), обвиняя весь Р. к. зап. стран в «обуржуазивании» и «утрате» революц. потенций (П. Суизи), противопоставляя ему крестьянство стран «третьего мира» как единств, эффективную революц. силу (теория окружения «мирового города» «мировой деревней»). Но такие концепции не могут поколебать истинности данного положения. Во всемирно-историч. масштабе именно Р. к. является ведущей революц. силой современности, определяющей характер и направление развития че-ловеч. общества. «В центре современной эпохи стоит международный рабочий класс и его главное детище — мировая система социализма» (Заявление Совещания представителей коммунистич. и рабочих партий, пояб. 1960, см. «Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм», 1961, с. 46).
Растущая мощь Р. к. находит выражение в постоянном и быстром увеличении его численности, повышении уровня организованности. Если в сер. 19 в. пром. пролетариат насчитывал примерно 9—10 млн. чел., го к сер. 20 в. во всем мире число рабочих несельско-хозяйств. отраслей достигло примерно 200 млн., число рабочих и служащих несельскохозяйств. отраслей — приблиз. 300 млн., общее число лиц наемного труда — ок. 400 млн. В нач. 60-х гг. армия наемного труда во всем мире насчитывала прибл. 500 млн. чел. Профсоюзы, только зарождавшиеся в 1-й пол. 19 в., ныне объединяют во всем мире св. 200 млн. трудящихся. Политич. партии Р. к. насчитывают ок. Go млн. членов, из них коммунистические пар-
тии, действующие почти в 90 странах мира, — ок. 50 млн.
Р. к. состоит из различных проф., отраслевых и иных групп, роль к-рых в классовой борьбе неодинакова. Его ядро образуют фабрично-заводские, пром. рабочие. Почти 3/5 мирового пром. Р. к. сосредоточено в странах развитого капитализма. На страны социалистич. системы в нач. 50-х гг. приходилась l U мирового пром. Р. к.; к концу десятилетия, благодаря быстрым темпам развития пром. нроиз-ва, доля его увеличилась прибл. до '/$ и продолжает расти. Фабрично-заводские и горнопром. рабочие, а также примыкающие к ним строительные и транспортные рабочие — наиболее развитый в классовом отношении отряд Р. к.
Структура Р. к. постоянно изменяется, отражая сдвиги в развитии производит, сил общества. Для индустриальных стран характерна тенденция к росту пром. Р. к. и сокращению числа с.-х. рабочих. По мере развития техники и дальнейшего разделения обществ, труда все более усложняется состав «совокупного рабочего» как комбинации рабочих различных специальностей, профессий и отраслей. Рост применения средств механизации и автоматизации требует комбинирования труда рабочих, занятых непосредственно у машин, с трудом инженерпо-технич. персонала (инженеры, техники, проектировщики, лаборанты, чертежники) и работников, выполняющих различные вспомогат. функции (планирование, учет и др.). С повышением органич. состава капитала эта тенденция усиливается, проявляясь особенно резко в произ-ве средств произ-ва и вообще в новых отраслях иром-сти. Разделение обществ, труда ведет далее к превращению в самостоят, отрасли иром-сти отд. функций домашнего х-ва (обществ, питание и бытовое обслуживание) и концентрации в этих отраслях значит, части Р. к. Наконец, с повышением производительности обществ, труда все больше наемных рабочих отвлекается в процесс обращения (конторские и торговые работники). Среди других обстоятельств, определяющих многослойность Р. к., надо указать на неравномерность развития производит, сил и сохранение в каждой стране, наряду с ультрапередовым пронз-вом, также отсталых форм х-ва, где положение рабочих отличается своей спецификой. Р. к. в странах империализма — старейший и наиболее многочисл. отряд мирового пролетариата. Общее количество рабочих и служащих в развитых капитали-стич. странах составляет приблиз. 200 млн. чел., из них ок. половины приходится на страны Зап. Европы. Доля лиц наемного труда в самодеят. населении достигает 70—80% и более, в т. ч. рабочих физич. труда — ок. 50% . Удельный вес активного, т. е. работающего, пролетариата во всем взрослом населении, естественно, меньший. Доля рабочих физич. труда, колеблющаяся па разных этапах капиталистич. развития, обнаруживает за последние десятилетия тенденцию к нек-рому сокращению: в США (к самодеят. населению) — с 56,8% в 1910 до 55,8% в 1954, в ФРГ — с 58,7% в 1882 до 52,2% в 1957. во Франции — с 54,8% в 1876 до 45,4% в 1954, в Швеции — с 55,5% в 1900 до 53% в 1950. Ссылаясь на это, идеологи социал-демократии (А. Кросленд, Ж. Мок, А. Филип, В. Эйхлер и др.) утверждают, что Р. к. не растет или даже сокращается, поэтому его интересы не тождественны интересам большинства общества. Между тем относит, уменьшение числа рабочих физич. труда отражает прежде всего существ, сдвиги в структуре амер. и зап.-европ. пролетариата (отчасти — изменения в методике переписей). Постоянное расширение сферы наемного труда в гл. капиталистич. странах свидетельствует о росте пролетариата, хотя, с другой стороны, далеко не все, кто формально работает
440
РАБОЧИЙ КЛАСС
 по найму, принадлежат к этому классу (см. Служащие).
по найму, принадлежат к этому классу (см. Служащие).
По мере эволюции социальной структуры капита-листич. общества изменяется соотношение осн. источников пополнения Р. к. Если в период своего формирования пролетариат рос гл. обр. за счет деревни (а в США — за счет иммиграции), то ныне, когда Р. к. вполне сложился, его пополнение идет преим. из пролет, среды.
Наиболее многочисленный и концентрированный отряд Р. к. промышленно-развитых стран — фабрично-заводской пролетариат — составляет примерно V4 ca-модеят. населения, пром. пролетариат в целом (включая горняков, строителей и транспортников) —2/5. Преобладающим типом фабрично-заводского, а также горнопром. рабочего стал полуквалифицированный рабочий. Однако уменьшение доли квалифицированных рабочих на протяжении 1-й пол. 20 в. отражает скорее тенденцию к специализации и относит, обесценению квалифицированной рабочей силы, чем к ее деквалификации. Меняется само содержание понятия проф. квалификации. Возрастает значение общей и технич. грамотности рабочего (в США образовав ценз большинства рабочих как квалифицированных, так и неквалифицированных равен 8—9 классам). Механизация и автоматизация произ-ва, снижая общую потребность в рабочей силе, одновременно увеличивает число рабочих высокой квалификации—наладчиков, монтажников, ремонтников и т. д. И хотя автоматизация вызывает деквалификацию части трудящихся, в целом доля неквалифицированного труда постоянно сокращается.
Сел. пролетариат — наиболее распыленная и плохо организованная часть Р. к. — сокращается относительно и абсолютно. Если в сер. 19 в. он едва ли уступал по численности промышленному (кроме Англии), то ныне он составляет незначит, меньшинство. Подавляющее большинство с.-х. рабочих — неквалифицированные. Растущее применение в с.х-ве машин, электричества, агротехники создает условия для сближения сел. и гор. рабочих. Сокращение сел. пролетариата перекрывается быстрым ростом конторско-торг. пролетариата.
При капитализме условия жизни Р. к. зависят от возможностей и условий продажи рабочей силы. Рабочее движение выработало различные формы и методы защиты экономич. интересов наемного труда. В большинстве зап. стран профсоюзы стали влиятельными массовыми орг-циями, Р. к. завоевал право на стачку (хотя оно сплошь и рядом ограничивается бурж. гос-вом), на заключение коллективных договоров, на создание органов рабочего представительства на предприятиях. На основе развития производит, сил и в результате упорной экономич. борьбы трудящихся, эффективность к-рой резко поднялась благодаря влиянию мировой социалистич. системы, возникает возможность повышения реальной заработной платы. Однако оборотная сторона более высокого жизненного уровня — чрезмерная интенсификация труда, рост производств, травматизма, необеспеченность существования рабочих (угроза безработицы, задолженность по потребительскому кредиту и т. д.). Кроме того, если одни группы пролетариата добиваются более или менее сносных условий существования, то другие живут в нищете или на грани нищеты даже в богатейших капиталистич. странах.
Бурж. и реформистская социология (К. Майер, Дж. Бернард, Т. Гейгер, Б. Каутский, Р. Кросмен и др.) изображает повышение жизненного уровня как фактор «депролетаризации» Р. к. и превращения его в «средний класс». Эти утверждения лишены науч. оснований, т. к. при капитализме наемные рабочие остаются в социально-экономич. смысле пролетари
ями. Несостоятельны и попытки бурж. и реформистских социологов истолковать растущее многообразие отраслевого и проф. состава Р. к., а также значительный еще разрыв в уровнях заработной платы как свидетельство «распадения» пролетариата на множество не связанных между собой групп (А. Филип, П. Рим-бер, Ф. Штернберг). «Теория распадения» исходит из констатации поверхностных явлений, игнорируя глубинные процессы, ведущие к выравниванию условий труда и жизни различных групп Р. к. благодаря технич. прогрессу. Эти процессы подрывают экономич. позиции традиционной рабочей аристократии — наиболее квалифицированной и хорошо оплачиваемой верхушки рабочих, к-рая начиная с последней трети 19 в. служила гл. проводником бурж. влияния в Р. к. большинства зап. стран. Правящий класс переносит центр тяжести на более разнообразные и рафинированные методы раскола и подчинения Р. к.— «человеческие отношения», «социальное партнерство», «патернализм» (распространение «народных» акций, введение «участия в прибылях», «совместного управления» и т. п.). Гл. проводником бурж. влияния на Р. к. становится рабочая бюрократия, т. е. руководящий аппарат реформистских профсоюзов, с.-д. партий, кооперативных орг-ций, тесно переплетающийся с аппаратом монополий и бурж. гос-ва.
Формирование классового самосознания рабочих происходит в сложных, противоречивых условиях. Империализм, используя аппарат идеологич. воздействия на массы (школа, церковь, почать, кино, радио, телевидение), стремится привить Р. к. бурж. идеологию. Объективные условия капиталистич. действительности, вынуждая Р. к. к повседневной борьба за свои жизненные интересы, способствуют развитию классового сознания, хотя оно и выступает при этом часто в тред-юнионистской форме. Осн. масса рабочих сознает, что их интересы солидарны, что они принадлежат к одному классу. По данным бурж. исследователей (Р. Сентерс, Дж. Бонхем и др.), в США от 70 до 80% рабочих относят себя к Р. к., в Англии — 64% . Таковы проявления низших форм пролет, сознания. Степень развития высшей формы — политич., революционно-социалистич. сознания — крайне неодинакова; она зависит от исторически сложившихся условий рабочего движения в той или иной стране. В Италии и Франции для большинства Р. к. характерны глубокие революц., демократич., социалистич. традиции, за коммунистами и классовыми проф. центрами идет большинство пром. рабочих. Нек-рые черты сближают с этим отрядом пролетариата Р. к. Японии. В рабочем движении большинства остальных стран Зап. Европы, а также Канады и Австралии преобладающим влиянием пользуются социал-реформистские партии. Значит, идейно-политич. влияние на рабочие массы оказывают бурж.-консервативные, в частности клерикальные, круги. В США Р. к. более всего парализован бурж.-реформистской идеологией, рабочее движение контролирует коррумпированная проф. верхушка, тесно связанная с монополистич. капиталом. Р. к. и его революц. авангард, коммунистич. партии, ведут борьбу против монополий во всех областях жизни. Коммунисты выдвигают программу социально-экономич. и политич. реформ, к-рая служит основой для объединения всех антимонополистич. сил. В совр. условиях все более реальным в ряде развитых капиталистич. стран становится мирный путь социалистич. революции. Главным препятствием на пути к достижению Р. к. своих целей остается раскол рабочего движения. Коммунисты добиваются преодоления этого раскола. Необходимость единства действий как в рамках отд. стран, так и в междунар. масштабе становится особенно настоятельной перед лицом новой стратегии империалистич. буржуазии — политики «интеграции».
РАБОЧИЙ КЛАСС
441
 На междунар. сговор империалистов передовые силы Р. к. отвечают усилением борьбы за сплочение всех отрядов рабочего движения.
На междунар. сговор империалистов передовые силы Р. к. отвечают усилением борьбы за сплочение всех отрядов рабочего движения.
Р. к. экономически слаборазвитых стран начал формироваться во 2-й пол. 19— нач. 20 вв. Ориентировочно численность пролетариата здесь составляет: в несоциалистич. странах Азии (без Японии) — в пределах 80—100 млн. чел., причем ок. половины из них приходится на Индию; в Лат. Америке—прибл. 30—35 млн., в Африке—13—15 млн. Доля рабочих и служащих в самодеят. населении сильно колеблется, отражая неодинаковый уровень капиталистич. развития различных стран (в Лат. Америке — ок !/г> в Сев. Африке — ок. 2/6, в Индии — прибл. 7з> в ДР- странах Азии — ок. х/ъ, в странах Африки, расположенных южнее Сахары,— менее 1/й). Удельный вес пром. Р. к. еще мал, в Лат. Америке он не превышает в среднем 1/ъ самодеят. населения (в Сев. Африке — 1/ш в Индии — V20)- Как правило, в слаборазвитых странах большинство Р. к. образует сел. пролетариат.
Среди других специфич. черт структуры и положения Р. к. экономически слаборазвитых стран надо указать на: 1) Наличие большого слоя плантационных рабочих, к-рые составляют значительную и наиболее концентрированную и организованную часть сел. пролетариата, а порой и пролетариата страны в целом. 2) Преобладание среди пром. пролетариата рабочих легкой пром-сти, а также сравнительно высокий удельный вес горняков, нефтяников, транспортных рабочих, портовиков, что отражает однобокий характер индустриального развития этих стран при империализме. 3) Небольшой удельный вес сложившегося кадрового, иотомств. пролетариата, сохранение многими рабочими, в т. ч. фабрично-заводскими, тесной связи с землей. 4) Сравнительно низкий в целом уровень концентрации пром. Р. к., его распыленность по мелким и средним предприятиям, высокий удельный вес рабочих, занятых в ремесл. матерских, кустарных промыслах или работой на дому (хотя отд. отрасли и предприятия, чаще всего контролируемые иностр. монополиями, отличаются высокой степенью концентрации рабочей силы). 5) Преобладание неквалифицированной или малоквалифицированной рабочей силы, что отражает, в частности, низкий образоват. уровень населения (до 80—90% неграмотных). 6) Высокий удельный вес в составе Р. к. женщин, молодежи и детей, что, при крайней дешевизне их труда, усиливает неустойчивость положения осн. отрядов пролетариата и затрудняет достижение единства действий. 7) Большая доля безработных в составе гор. пролетариата — следствие огромного аграрного перенаселения и ограниченных темпов индустриализации, значительно уступающих темпам урбанизации. 8) Крайне низкий уровень заработной платы, но вместе с тем, в отличие от индустриальных стран, сохранение сильного разрыва между низшими и высшими уровнями заработков, вследствие чего ослабляется цельность пролетариата как класса. 9) Сохранение полуфеодальных и специфически колониальных форм эксплуатации (посредничество, долговая зависимость, контрактация рабочей силы и т. п.), к-рые уживаются с новейшими методами капиталистич. эксплуатации, заимствуемыми у зап. стран. 10) Наличие глубоких нац., этнич. и религ. различий, усугубляемых крупными масштабами междунар. миграции рабочей силы, а также практикой контрактации иностр. рабочих. Эти различия серьезно затрудняют процесс сплочения Р. к., формирования его классового сознания.
От эпохи колониальной и полуколониальной зависимости Р. к. экономически слаборазвитых стран унаследовал нищенский жизненный уровень. Заработ-
ная плата рабочих во много раз меньше, чем в Зап. Европе и Сев. Америке.
Р. к. в этой части мира (наряду с крестьянством) — одна из гл. движущих сил нац.-освободит, движения, но степень его воздействия на ход и конкретные результаты антиимпериалистич. революции неодинакова, как неодинакова и роль различных его отрядов в этой революции. Опыт Кубы опроверг утверждения, будто в слаборазвитых странах пролетариат неспособен возглавить антиимпериалистич. движение (Айя де ла Торре и др.). Он опровергает и тот взгляд, что в этих странах не Р. к., а крестьянство выступает носителем социалистич. идеологии (А. Филип), и одновременно показывает сравнит, легкость, с какой социалистич. идеи усваиваются ныне безземельной и малоземельной крест, беднотой. В этом, в частности, отражение общих условий антиимпериалистич. борьбы в Лат. Америке, где социальные противоречия между трудом и капиталом уже достигли высокой степени зрелости, а Р. к. обладает наибольшими возможностями стать гегемоном революции. Лат.-амер. Р. к. отличается высоким уровнем проф. организованности (около половины лиц наемного труда входит в профсоюзы), во всех странах континента действуют марксистско-ленинские коммуни-стич. и рабочие партии, в т. ч. ряд массовых. Все большие успехи делает политика единства действий, пробивающая дорогу вопреки крайней раздробленности профсоюзного движения, в к-ром, наряду с ро-волюц. орг-циями, существуют анархо-синдикалист-ские, реформистские, корпоративистские, клерикальные центры и группы. Уже имеется ряд единых классовых профсоюзных центров, позиции к-рых все более укрепляются. Подъем рабочего движения способствует образованию широких антиимпериалистич. коалиций, возглавляемых Р. к.
Нац.-освободит, движение в Азии развивалось при активном участии Р. к., однако гегемонию в нем в ряде стран сохранила нац. буржуазия. В ходе антиимпериалистич. борьбы значительно выросли силы и влияние Р. к. Индии, Индонезии, Цейлона и др. стран, но его социально-экономич. положение изменилось лишь в том отношении, что варварские формы колониальной эксплуатации стали вытесняться более нормальным типом капиталистич. или гос.-капиталистич. отношений. Хотя завоевание политич. независимости позволило Р. к. добиться нек-рых уступок у буржуазии (введение более прогрессивного трудового законодательства, улучшение условий труда и социального страхования), материальное положение рабочих остается чрезвычайно тяжелым. Осуществление планов развития нац. экономики и создания крупной пром-сти предвещает дальнейший рост Р. к., изменение его качеств, состава, что открывает более широкие перспективы перед рабочим движением.
Борьба Р. к. несоциалистич. стран Азии развертывается в крайне сложных условиях. Нац. буржуазия широко использует расовые, религ., кастовые и племенные различия для раскола Р. к. Дискредитация капитализма в глазах масс и растущая популярность социалистич. идей побуждают мн. бурж. лидеров заявлять о своей приверженности к социализму, причем социалистич. черты приписываются также различным националистич., религ. и религ.-этич. учениям (панисламизм, гандизм, мархаэнизм). С другой стороны, значит, распространение среди трудящихся получают идеи мелкобурж. социализма, для развития к-рого в этих странах существует широкая почва.
Африканский Р. к., роль к-рого в нац.-освободит. движении также растет, политически еще не отдиф-ференцировался полностью от формирующейся нац. буржуазии. В большинстве африканских стран (юж-
442
РАБОЧИЙ КЛАСС
 нее Сахары) самостоят, рабочие партии отсутствуют, осн. формой организации Р. к. являются профсоюзы (3 млн. членов), большей частью примыкающие к бурж.-националистич. и нац.-демократич. партиям. Осн. задачи, объективно стоящие перед Р. к. в этих районах мира,— достижение и упрочение нац. независимости, преодоление экономич. отсталости путем развития нац. экономики, улучшение своего материального положения, расширение демократич. прав и свобод, обеспечение социального прогресса, борьба за пекапиталистич. путь развития.
нее Сахары) самостоят, рабочие партии отсутствуют, осн. формой организации Р. к. являются профсоюзы (3 млн. членов), большей частью примыкающие к бурж.-националистич. и нац.-демократич. партиям. Осн. задачи, объективно стоящие перед Р. к. в этих районах мира,— достижение и упрочение нац. независимости, преодоление экономич. отсталости путем развития нац. экономики, улучшение своего материального положения, расширение демократич. прав и свобод, обеспечение социального прогресса, борьба за пекапиталистич. путь развития.
Р. к. в странах социализма — наиболее зрелый и организованный отряд междунар. пролетариата; выполняя авангардную роль в мировом рево-люц. процессе, он первым прокладывает путь человечеству к социализму и коммунизму. Р. к. социали-стич. стран является правящим классом, осуществляющим гос. руководство обществом в союзе с крестьянством и народной интеллигенцией. Р. к. стран социализма — оплот мира, демократии и социализма.
Численность Р. к. социалистич. стран быстро растет. В 1950 насчитывалось св. 70 млн. рабочих и служащих, из них в пром-сти было занято 25 млн., к 1960 общая численность рабочих и служащих увеличилась до 140 млн., т. е. в 2 раза, в т. ч. занятых в пром-сти — до 60 млн., т. е. в 2,4 раза.
В ходе социалистич. преобразования общества рост Р. к. сопровождается глубокими качеств, изменениями в его структуре, условиях жизни, сознании, куль-турно-технич. уровне. Так, напр., накануне Октябрьской революции в России насчитывалось ок. 3 млн. пром. рабочих, к концу гражд. войны, вследствие распыления и. деклассирования кадрового пролетариата, число их сократилось более чем вдвое. В годы первых пятилеток начался бурный рост Р. к. Между 1928 и 1940 число рабочих, занятых в гос. пром-сти, увеличилось с 3,1 млн. до 8,3 млн., общее число рабочих — с 6,8 млн. до 20 млн., число всех рабочих и служащих — с 10,8 млн. до 31,2 млн. Одновременно сдвиги происходили в структуре Р. к.: резко возросло число строителей, в ряды к-рых влились миллионы крестьян. В составе пром. Р. к. постоянно возрастала доля рабочих тяжелой пром-сти, в т. ч. новых ее отраслей. Появились десятки новых, квалифицированных профессий. Значительно поднялась доля женщин, занятых в пром-сти, — с 28% в 1929 до 41% в 1940. Огромные сдвиги произошли в территориальном размещении Р. к. — сложились кадры рабочих в ранее отсталых нац. республиках, бурными темпами рос Р. к. в вост. р-нах страны. Сов. Р. к. с честью выполнил трудные и сложные задачи, выпавшие на его долю в период реконструкции нар. х-ва, индустриализации, коллективизации сел. х-ва, а затем — Великой Отечеств, войны и послевоенного восстановления нар. х-ва. В эти и последующие годы продолжалось интенсивное пополнение, обновление и изменение его состава. К 1961 численность промышленно-произ-водств. персонала в СССР достигла 23,5 млн. чел., общая численность рабочих и служащих — 65,9 млн., их доля в населении (вместе с иждивенцами) составила 71,8% (против 14,8% в 1924).
Формирование сов. Р. к. происходило в трудных и сложных условиях. Осн. его контингент сложился уже после революции, гл. обр. в годы индустриализации, когда в Р. к. влились миллионы выходцев из непролет, среды. При этом в жизни сов. общества выступил ряд отрицат. явлений, относительно к-рых предостерегал Ленин, указывая на узость пролет, слоя в стране после революции. Тяжелые ошибки и извращения в условиях культа личности затруднили строительство социализма, но не приостановили прогрессивного развития сов. общества. В результате самоотвержен-
ного труда Р. к. и колхозного крестьянства неуклонно развивалось материальное произ-во. На основе тех-нич. прогресса и развертывания социалистич. соревнования росла производительность труда. Постепенно улучшался качеств, состав Р. к., повышался его жизненный уровень. Реальная заработная плата рабочего в пром-сти и строительстве по сравнению с до-революц. периодом увеличилась в 3,7 раза, рабочий день сократился с 10 до 7 часов. Неизмеримо выросли сознательность и политич. зрелость Р. к., а также его культурно-технич. уровень. В 1939 лишь 8,2% рабочих имело среднее или высшее образование, в 1959— уже 38,6%.
В результате начатой XX съездом последоват. борьбы с культом личности и его последствиями создались благоприятные условия для повышения творч. активности и трудовой инициативы Р. к. Усилилась роль профсоюзов в хоз. и культурном строительстве, в улучшении условий труда и быта трудящихся, возросло участие рабочих и служащих в управлении произ-вом, планировании, обществ, контроле. В Р. к. родилось движение за коммунистический труд. Принятая XXII съездом КПСС Программа коммунистич. строительства открыла перед Р. к. и всеми сов. трудящимися величеств, перспективу создания коммунистич. общества.
Сов. Р. к., вместе со всеми трудящимися первым прокладывающий пути к коммунизму, облегчает и ускоряет движение к коммунизму всей мировой социалистич. системы. Он практически проверяет правильность этих путей, отбирает лучшие формы и методы коммунистич. строительства. В связи с полной и окончат, победой социализма диктатура пролетариата в СССР выполнила свою историч. миссию и перестала быть необходимой с т. зр. задач внутр. развития. Гос-во диктатуры пролетариата превратилось в общенародное государство. «Поскольку рабочий класс — самая передовая, организованная сила советского общества,—он осуществляет свою руководящую роль и в период развернутого коммунистического строительства. Выполнение своей роли руководителя общества рабочий класс завершит с построением коммунизма, когда исчезнут классы» (Программа КПСС, 1961, с. 101).
На путь социализма становятся страны с разным уровнем экономич., социального и культурного развития, поэтому степень зрелости и сознательности различных нац. отрядов Р. к. неодинакова. Если в одних социалистич. странах (СССР; Чехословакия, ГДР, Польша и др.) пром. Р. к. сформировался давно и прошел большую школу классовой борьбы, то в ряде стран, отставших при капитализме в экономич. отношении, процесс формирования кадрового Р. к. только развертывается, в его составе преобладают пока рабочие первого поколения — недавние выходцы из крестьянства, гор. мелкой буржуазии. Так, численность пром. рабочих в КНР за предшествовавшие ее образованию тридцать лет колебалась от 2,5 до 3,4 млн., к 1958 она возросла до 25,6 млн. Общее число рабочих и служащих увеличилось с 8 млн. в 1949 до 45,3 млн. в 1958. (В последующие годы это число сократилось.) Подавляющую массу населения Китая по-прежнему составляет крестьянство. В условиях огромного преобладания крестьянского населения и незрелости Р. к. в руководстве КПК возобладала линия на военно-бюрократические и грубо-уравнительные методы «казарменного коммунизма».
Интересы Р. к. социалистич. стран и всего междунар. рабочего и коммунистич. движения требуют усиления борьбы за сплочение рядов коммунистов на основе марксизма-ленинизма и пролет, интернационализма.
РАВЕНСТВО
443
 Главная задача Р. к., коммунистич. и рабочих партий социалистич. стран состоит в том, чтобы полностью ютользовать преимущества социалистич. системы и ;шутр. экономич. ресурсы для дальнейшего всемерного развития производит, сил, создать материально-гохнич. основы развитого социалистич. и коммунистич. ющества; опираясь на экономич. и оборонную мощь воих стран, обеспечить благоприятные междунар. условия для построения социализма и коммунизма, отпор агрессивным силам империализма и утверждение принципов мирного сосуществования гос-в с различным социальным строем. Борясь за осуществление этих задач, Р. к. социалистич. стран выполняет свой ин-тернац. долг перед междунар. пролетариатом, перед ;;сем мировым революционно-освободит. движением.
Главная задача Р. к., коммунистич. и рабочих партий социалистич. стран состоит в том, чтобы полностью ютользовать преимущества социалистич. системы и ;шутр. экономич. ресурсы для дальнейшего всемерного развития производит, сил, создать материально-гохнич. основы развитого социалистич. и коммунистич. ющества; опираясь на экономич. и оборонную мощь воих стран, обеспечить благоприятные междунар. условия для построения социализма и коммунизма, отпор агрессивным силам империализма и утверждение принципов мирного сосуществования гос-в с различным социальным строем. Борясь за осуществление этих задач, Р. к. социалистич. стран выполняет свой ин-тернац. долг перед междунар. пролетариатом, перед ;;сем мировым революционно-освободит. движением.
Лит.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Манифест Коммуни
стической партии, Соч., 2 изд., т. 4; Маркс К., Капитал,
г. 1—3, там же, т. 23, 24, 25 (ч. 1 и 2); е г о ж е, Теории приба
вочной стоимости, ч. 1—3, там же, т. 26 (ч. 1—3); его же,
Наемный труд и капитал, там же, т. 6; е г о же, Критика
Готской программы, там же, т. 19; Э н г е л ь с Ф., Положение
рабочего класса в Англии, там же, т. 2; е г о же, Принципы
коммунизма, там же, т. 4; е г о ж е, К критике проекта социал-
демократич. программы 1891 года, там же, т. 22; Ленин
В. И., Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?, Соч., 4 изд., т. 1; е г о же, Фридрих
Энгельс, там же, т. 2; е г о ж е, Проект и объяснение про
граммы социал-демократич. партии, там же, т. 2; е г о же,
Развитие капитализма в России, там же, т. 3; его же,
Карл Маркс, там же, т. 21; его же, Империализм, как выс
шая стадия капитализма, там же, т. 22; его же, Государство
и революция, там же, т. 25; е г о ж е, Очередные задачи Со
ветской власти, там же, т. 27; его же, Великий почин, там
же, т. 29; его ж е, О диктатуре пролетариата, там же, т. 30;
его же, Детская болезнь «левизны» в коммунизме, там же,
т. 31; е г о же, Экономика и политика в эпоху диктатуры
пролетариата, там же, т. 30; Программа КПСС (Принята XXII
съездом КПСС), М., 1961; Программные документы борьбы за
мир. демократию и социализм, М., 1961; Программные доку
менты коммунистич. и рабочих партий капиталистич. стран
Европы, М., 1960; Кучинский Ю., История условий тру
да в Великобритании и Британской империи, пер. с англ.,
М., 1948; его же, История условий труда в США с 1789
по 1947 гг., пер. с нем., М., 1948; его же, История условий
труда в Германии, пер. с нем., М., 1949; его же, История
условий труда во Франции с 1700 по 1948 гг., пер. с нем., М.,
i960; его же, Условия труда в капиталистич. странах.
(Теория и методология), пер. с нем., М., 1954; Мукерджи
Р., Р. к. Индии, пер. с англ., М., 1952; Берви-Флеров-
с к и й В. В., Избр. экономич. произв., т. 1— Положение Р. к.
в России, М., 1958; Р а ш и н А. Г., Формирование Р. к. России,
Г2 изд.], М., 1958; Р. к. Японии, под ред. К. Окоти и М. Сумия,
пер. с япон., М., 1959; Виноградов Н. П., Р. к. Китай
ской Народной Республики, «Проблемы востоковедения»,
1960, № 2; Изменения в численности и составе сов. Р. к., пре-
дисл. С. Г. Струмилина, М., 1961; Подъем культурно-технич.
уровня сов. Р. к., [под ред. М. Т. Иовчука и др.], М., 1961;
ДанилевичМ. В., Р. к. в освободит, движении народов
Лат. Америки, М., 1962; Кац А. И., Положение пролета
риата США при империализме, М., 1962; Структура Р. к. ка
питалистич. стран. Материалы обмена мнениями, проводив
шегося в журнале «Проблемы мира и социализма» в 1960—
1961 гг., под ред. А. М. Румянцева, Прага, 1962; Р.к. стран
Азии и Африки. Справочник, М., 1964; Совр. Р. к. капитали
стич. стран (Изменения в структуре), М., 1965; Р. к. и рабо
чее движение в странах Азии и Африки, М., 1965;Строительство
коммунизма и мировой революц. процесс, М., 1966; Р о р i t z
Н. [u. a.], Das Gesellschaftsbild des Arbeiters, Tubingen, 1957;
A n d г i e u x A., L i g n о n J., L'ouvrier d'aujourd'hui,
P.. 1960; Berger В. М., Workingclass suburb. A study of
auto workers in suburbia, Berk.—Los Ang., 1960; G i г о d R.,
L'etude sociologique sur les couches salariees ouvriers et emplo
yes, P., 1961. А. Вебер. Москва.
РАВЕНСТВО социальное — одинаковое отношение к орудиям и средствам произ-ва, к гражд. правам и обязанностям, равное право пользования всеми созданными обществом материальными и духовными ценностями. История человечества выступает как история постепенного и закономерного расширения Р. в обществ, жизни, как история уничтожения различных форм классовых, сословных, нац., расовых и прочих привилегий. Вся полнота обществ. Р. людей утверждается в коммунистич. формации с уничтожением частной собственности на средства произ-ва, с упразднением классового деления общества.
Идеал Р. сложился после падения первобытнообщинного строя, с возникновением различных форм
социального неравенства. Его содержание менялось от эпохи к эпохе и определялось формами экономич., политич. и духовного порабощения нар. масс. В период рабовладельч. общества идеал Р. был связан в первую очередь с требованием упразднения деления людей на свободных и рабов. В этом состоял объективный смысл восстаний рабов. Идея Р. жила также в сознании свободных крестьян, вольноотпущенных рабов, ремесленников в виде смутных желаний установления уравнит. пользования созданными благами. Нек-рые представления о Р. связывались с идеализируемым пройденным этапом историч. развития, выступавшим в сознании масс как «утраченный рай» (см. Ф. Энгельс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 22, с. 482).
Стремление к социальному и нац. Р. получило выражение в раннехристианском движении, в попытках установления в общинах имуществ. Р., равного потребления и распределения благ. Подобная практика нашла выражение в «Новом завете», где сказано, что «...ворующие были вместе и имели все общее; и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деяния апостолов 2, 44—45). В дальнейшем идея Р. приобрела в христианстве мистич. и иррациональное выражение и выступила в провозглашенном Р. всех перед богом и во грехе.
В эпоху феодализма идея Р. жила в среде крестьянских масс, поднявшихся на борьбу против своих господ. Отд. раннехрист. идеи об имуществ. Р. использовались идеологами этих масс для обоснования неправомерности феод, привилегий и эксплуатации (напр., Мюнцер) и выдвижения программы установления Р., носившей в те времена утопия, характер. Идеи социального Р. отстаивались также Т. Мором и Кампанеллой, к-рые осуществление подлинного Р. связывали с уничтожением частной собственности. Однако Мор, Кампанелла и др. мыслители выводили Р. не из объективного хода обществ, развития, а из нравств. велений добра и справедливости. Это придавало утопич. характер их теориям, а также теориям Мелъе, Мабли, Морелли и др. представителей домарксистского социализма и коммунизма. В эпоху феодализма и становления капиталистич. способа произ-ва были выдвинуты эгалитаристские концепции, по к-рым предлагалось наделить всех людей равными долями частной собственности. Это учение получило обоснование у Ж. Ж. Руссо и его последователей. Накануне бурж. революций в Нидерландах, Англии и Франции наиболее типичные представители буржуазии, подвергая критике феод, собственность, отстаивали естественность и законность бурж. частной собственности. Они требовали установления Р. не в сфере имуществ. отношений, а Р. людей перед законом. Направленное против феодально-сословных привилегий юридич. Р. было значит, шагом вперед в развитии прогрессивной для своей эпохи бурж. демократии.
Уже в период франц. бурж. революции конца 18 в. и непосредственно вслед за ней идеологи плебейско-демократич. слоев подвергли критике иллюзорность бурж. Р., его формально-правовой характер. Эти настроения нашли выражение в бабувистском коммунизме (см. Бабёф, Марешалъ). Основоположники марксизма указывали на аскетич. характер и грубую уравнительность бабувистского коммунизма. Мелко-бурж. понимание Р. в эпоху Бабёфа выражало политич. чаяния наиболее радикально настроенных элементов. «Идея равенства мелких производителей,— писал Ленин,— реакционна, как попытка искать позади, а не впереди, решения задач социалистической революции. Пролетариат несет с собой не социализм равенства мелких хозяев, а социализм крупного
444
РАВЕНСТВО
 обобществленного производства. Но та же идея равенства есть самое полное, последовательное и решительное выражение буржуазно-демократических задач» (Соч., т. 12, с. 316).
обобществленного производства. Но та же идея равенства есть самое полное, последовательное и решительное выражение буржуазно-демократических задач» (Соч., т. 12, с. 316).
Идея Р. нашла свое дальнейшее развитие в учениях Сен-Симона, Фурье, Оуэна и их последователей. При существ, различиях в понимании проблемы они не ограничивались юридич. Р. и с разной степенью радикальности обосновывали необходимость утверждения Р. в труде и в потреблении. Сен-Симон, как и Фурье, не дошел до идеи ликвидации классов. В их планах имуществ. неравенство не исчезало, а доводилось до возможного минимума. Требование упразднения частной собственности, а следовательно, и упразднения классового неравенства выдвинул Оуэн.
Развитие капитализма и разорение мелкобурж. слоев вызвало к жизни различные направления мелкобурж. социализма, к-рые апеллировали к идее социального Р. Так, Прудон и его сторонники утверждение фактич. Р. между людьми искали не в упразднении капитализма, а в реформе обращения и кредита, в преодолении порочных сторон бурж. экономия, системы в интересах мелких собственников. Нек-рым направлениям мелкобурж. социализма присуще стремление доводить идею Р. до абсурда, т. е. до утверждения уравниловки в области личных способностей и потребностей.
Формальный характер бурж. Р. с особой отчетливостью обнаружился в эпоху империализма. Разоблачая несостоятельность попыток примирить Р. людей перед законом с их экономич. неравенством, Ленин писал: «Под видом равенства человеческой личности вообще буржуазная демократия провозглашает формальное или юридическое равенство собственника и пролетария, эксплуататора и эксплуатируемого, вводя тем в величайший обман угнетенные классы» (там же, т. 31, с. 122—23). История показала, что буржуазия не осуществляла сколько-нибудь последовательно торжественно провозглашенное ее идеологами Р. между людьми, народами, расами.
Марксистско-ленинская теория Р. исходит из понимания социального неравенства как исторически преходящего явления. Оно возникло на основе низкого уровня развития производит, сил общества, было закреплено господствующими эксплуататорскими классами, меняло свой формы в различных антагони-стич. общественно-экономич. формациях. На определ. этапе обществ, развития возникают объективные предпосылки уничтожения классового деления общества, классового неравенства. Это связано с революц. упразднением капиталистич. отношений и переходом к коммунистич. формации. Марксизм-ленинизм исходит из того, что подлинное Р. связано с упразднением эксплуатируемых и эксплуататорских классов, а затем и классов вообще. Имея в виду антагонистич. обществ, классы, Ленин писал: «... Равенство есть пустая фраза, если под равенством не понимать уничтожение классов» (там же, т. 29, с. 329).
Победа социалистич. строя в СССР и в других странах подтвердила этот единственно науч. взгляд на Р. В социалистич. странах уничтожены частная собственность и эксплуататорские классы. Это значит, что граждане здесь равно свободны от эксплуатации, равно владеют обществ, собственностью, равно обязаны трудиться в меру своих способностей и получают равную плату за равный труд. Социализм принес с собой одинаковые политич. права и обязанности для всех граждан. Он покончил со всеми формами неравенства, связанными в условиях капитализма с социальным и нац. происхождением, имуществ. положением и расовой принадлежностью человека, с различиями пола.
Социальное Р., достигнутое на первой фазе коммунизма, является важнейшей предпосылкой политич. и морального единства членов общества, их взаимопомощи, дружбы и братства, условием социального прогресса. Нарушение принципов социалистич. Р. со стороны отд. людей встречает единодушный отпор со стороны общества, влечет за собой правовое и нравств. осуждение. Р., осуществленное в условиях социализма, является великой историч. вехой на путях утверждения полной социальной справедливости. Но марксистско-ленинский идеал Р. не исчерпывается Р., достигнутым в социалистич. обществе. При социализме нет еще полного Р. в оплате труда, в материальных условиях существования людей. Принцип социализма «каждый по способностям, каждому по труду» с неизбежностью означает, что более квалифицированный работник получает больше, чем работник с меньшей квалификацией; неравное количество членов семьи порождает неравные материальные условия жизни и т. п. Т. о., при социализме в силу недостаточно высокого уровня развития обществ, произ-ва невозможно установление Р. во всей его полноте. Имея в виду первую фазу коммунистич. общества, Ленин писал: «... различия в богатстве останутся и различия несправедливые, но невозможна будет эксплуатация человека человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, землю и проч. в частную собственность» (там же, т. 25, с. 437—38).
В социалистич. обществе еще не устранены различия в экономич. и культурно-бытовых условиях существования рабочих и крестьян. Существенны при социализме также различия между людьми физич. и умственного труда. Эти остатки социального неравенства постепенно преодолеваются по мере развития социалистич. общества и его перехода к коммунизму.
Марксизм-ленинизм отвергает идеи мелкобурж. уравнительности, идеи равного дележа созданных благ и равной оплаты при социализме за неравный труд. Такая уравниловка неминуемо приводит к уничтожению материальных стимулов к труду, к понижению его производительности, что, естественно, тормозит развитие социализма, улучшение условий жизни трудящихся. Разрабатывая конкретные пути осуществления коммунистич. принципа — «от каждого по способностям, каждому по потребностям», Программа КПСС указывает на необходимость строгого соблюдения принципа оплаты труда по его количеству и качеству. Борьба с уравниловкой необходимо связана с борьбой против незаконных привилегий, неоправданно высоких окладов, использования своего служебного положения для получения всевозможных благ за счет общества. Раздувая факты, связанные с нарушением социалистич. принципа пропз-ва и распределения, мн. представители антикоммунизма создают «теории» о возникновении в социалистич. обществе «узаконенной элиты», «нового класса» и т. п. Носители подобных утверждений обходят молчанием ту истину, что КПСС и Сов. гос-во ведут беспощадную борьбу против людей, к-рые злоупотребляют своим положением, присваивают незаработанные ими блага. Каждый, кто нарушает принципы социалистич. Р., привлекается к строгой ответственности в соответствии с моральными и правовыми нормами социалистич. общества. В СССР искореняются все формы нарушения соответствия между мерой труда и мерой его оплаты, все формы присвоения нетрудового дохода, осуществляется большая работа по упорядочению зарплаты.
С первых же дней своего существования Сов. гос-во установило равноправие между мужчиной и женщиной. Но несмотря на это равноправие, продолжают
РАВЕНСТВО
445
 сохраняться остатки фактич. неравенства между полами (см. там же, т. 30, с. 25). Это вызвано тем, что ведение домашнего х-ва, воспитание детей (в семье) в совр. условиях гл. обр. ложатся на плечи женщины. С построением социализма было много сделано для преодоления остатков фактич. неравенства между полами. Тем не менее эта задача до конца еще не решена.
сохраняться остатки фактич. неравенства между полами (см. там же, т. 30, с. 25). Это вызвано тем, что ведение домашнего х-ва, воспитание детей (в семье) в совр. условиях гл. обр. ложатся на плечи женщины. С построением социализма было много сделано для преодоления остатков фактич. неравенства между полами. Тем не менее эта задача до конца еще не решена.
Ждет своего радикального решения и задача полного преодоления различий в культурно-бытовых условиях жизни в различных населенных пунктах. Построение материально-технич. базы коммунизма, переход от социалистич. обществ, отношений к коммунистическим, завершение культурной революции знаменуют новый этап в развитии социального Р. «При коммунизме,— говорится в Программе КПСС,— все люди будут иметь равное положение в обществе, одинаковое отношение к средствам производства, равные условия труда и распределения и активно участвовать в управлении общественными делами» (1961, с. 63).
Высокопроизводительный труд в коммунистическом обществе создаст изобилие материальных и духовных благ, что постепенно сотрет из памяти человека всякое воспоминание об имущественном неравенстве.
Бурж. идеологи утверждают, что развитие капитализма будто бы приводит к Р. без того, чтобы переступать границы этого общества. Бурж. варианты теории стратификации, социальной мобильности пытаются создать ложную иллюзию о притуплении классовых антагонизмов, постепенном исчезновении имуществ. неравенства и обществ, классов. Разрыв между доходами капиталистич. монополий и трудящихся классов, расширяющаяся стачечная борьба пролетариата полностью опровергают прогнозы бурж. теоретиков. Нек-рые из них пытаются выдвинуть па первый план исчезновение неравенства в области культуры и быта. Так, амер. государствоведы М. Ай-ршы и Дж. Протро в кн. «Политика амер. демократии» утверждают, что экономил, и социальные противоречия в США якобы оттесняются общим для всех американцев «культурным единством». Другая группа бурж. теоретиков пытается в извращенном виде представить сущность марксистского Р. и практическое ее воплощение. Они утверждают, что в социалистич. странах происходят классовообразовательные: процессы, рост социальных и имуществ. различий. Другие бурж. идеологи пишут о неизбежности нивелировки, стандартизации людей при коммунизме, уравнении их потребностей, исчезновении ярких индивидуальностей, об уравнении людей «на низшей основе».
Высокое интеллектуальное и моральное развитие граждан социалистич. общества, богатство их духовного мира свидетельствуют, что новое общество не «стандартизирует» личность, а содействует раскрытию ее дарований и талантов. Упразднение социального и имущественного, культурного неравенства не означает «выравнивание» духовных особенностей людей, их личных дарований и потребностей. «... Когда социалисты говорят о равенстве, они понимают под ним всегда общественное равенство, равенство общественного положения, а никоим образом не равенство физических и душевных способностей отдельных личностей» (Ленин В. И., Соч., т. 20, с. 128).
Верно и другое: социализм, а тем более вторая фаза
коммунизма, создавая самые благоприятные условия
материальной жизни, возможности всестороннего ду
ховного и физич. развития людей, приведут к огром
ному количеств, росту людей, полностью реализую
щих свои дарования. х. Момджян. Москва.
Лит.: Маркс К., Критика Готской программы, Маркс
К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 19; е г о ж е, Капитал,
т. 1, там же, т. 23; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там же, т. 20,
отд. 1, гл. 10; Ленин В. И., Сила и слабость русской рево
люции, Соч., 4 изд., т. 12; е г о же, Либеральный профессор
о равенстве, там же, т. 20; Программа КПСС (Принята XXII
съездом КПСС), М., 19С1; Г а с п а р е н А., Р., СПБ, 1871;
Б угле [С], Эгалитаризм (Идея Р.). Социологич. этюд,
пер. с франц., О., 1904; Стивен Д., Свобода, Р. и братство,
пер. с англ., СПБ, 1907; Булдаков В. П., Р. сейчас и
при коммунизм*, Пермь, 1960; Леонтьев Л. А., Проблема
Р. в «Капитале» К. Маркса, М., 1960; Куры лев А. К.
и Ильяшенко Ф. И., К полному социальному Р., М.,
1965; L e i b h о 1 z G., Die Gleichheit vor dem Gesetz. Eine
Studie auf rechtvergleichender und rechtsphilosophischer Grund-
lage..., В., 1925; S m i t h T h. V., The American philosophy of
equality, Chi. (111.), [1927]; Landshut S., Kritik der So-
ziologie. Freihelt und Gleichheit als Ursprungsproblem der
Soziologie..., Munch.—Lpz., 1929; Lichtenberger H.
[u. a.], Ausgleich als Aufgabe und Schicksal, B.— Grunewald,
1929; Tawney R. H., Equality... Halley Stewart lectures,
N. Y., 1929; Bindewald H., Der Gleichheitsgedanke im
Rechtsstaate der Gegenwart..., Greitswald, 1931; Bclin J.,
L'egalite des cltoyens devant les charges publiques, P., 1936;
Aspects of human equality. 15th symposium ot the Conference
on science, philosophy and religion, ed. by L. Bryson [a. o.],
N. Y., 1956; M i с h n a k K., Idea rovnosti v dejinach a za
socialismu, Praha, 1962; Lakof f S.A., Equality In political
philosophy, Camb. (Mass.), 1964. H . Стариков. Москва.
РАВЕНСТВО (в логике и математике) — отношение между выражениями языка логики и математики, верное тогда (и только тогда), когда оба выражения обозначают один и тот же предмет, т. е., когда все, что можно сказать на языке данной теории про объект, обозначаемый одним из них, верно и для объекта, обозначаемого другим. (При этом решение вопроса о том, имеем ли мы дело с «одним и тем же» объектом, зависит от того, как применяется абстракция отождествления. О диалектике, связанной с этой абстракцией, см. A = z A .) Поскольку обозначение предмета бывает связано со способом его построения (напр., предмет, обозначаемый через «(5+7)-2», получается сложением чисел 5 и 7 и умножением полученного результата на 2), отношение Р. позволяет заменить один способ построения объекта др. способом его построения.
К числу свойств Р., позволяющих производить эквивалентные преобразования содержащих это отношение выражений, относится прежде всего вытекающее из его определения правило замены равного равным; из этого же определения следуют [1] рефлексивность (а = а), [2] симметричность (если а = Ъ, то Ъ = а) и [3] транзитивность (если а == Ь и Ъ = с, то а = с) отношения Р. (С др. стороны, можно, следуя П. Лорен-цену, показать, что для одинаковых конструктивных объектов, порождаемых различными рекурсивными определениями, все свойства Р., в т. ч. [1] — [3], доказуемы.)
Строя теорию отношения Р. аксиоматически (см. Метод аксиоматический) либо следуя Б. Расселу, непосредственно формализуют приведенное выше лейб-ницевское понимание Р. па языке расширенного исчисления предикатов (см. Предикатов исчисление, Типов теория) в виде аксиомы (или определения) а =: Ь = = yfF ( F ( a )^ F ( b )) (т. е. положив, что запись «а = Ь»по определению означает, что всякий предикат F , верный для а, верен и для Ъ), либо же, желая избежать трудностей, связанных с употреблением кванторов по предикатам (см. Парадокс), присоединяют к постулатам исчисления предикатов первой ступени аксиому: а=а [1] и схему аксиом: a — b ^( F ( a ) ^ F ( b )), где F—произвольный предикат. С помощью этих аксиом легко доказываются соотношения [1] и [2] для охарактеризованного ими отношения «=». В т. н. прикладных исчислениях предикатов, содержащих к.-л. спец. (постоянные, индивидуальные) предикатные и(лн) функциональные символы, Р. удается ввести с помощью конечного числа аксиом: для каждого из входящих в такое исчисление я-местпого индивид, предиката Р. вводятся п аксиом вида а-=Ь-=>{Р{а1, ..., а(-_х, а, а1 + 1, ..., а„)з
446
РАВЕНСТВО — РАДБРУХ
 •=>Р(ах, ..., а;-_!, Ъ, a, + i, ••■, «„)) (г=1, •••, п)\ аналогично, для каждого «-местного функционального символа / постулируется п равенств вида а=Ь э з/ (аъ ..., а{_!, a , ai + 1, ..., an )= f ( a 1 , ..., а^ъ Ь,
•=>Р(ах, ..., а;-_!, Ъ, a, + i, ••■, «„)) (г=1, •••, п)\ аналогично, для каждого «-местного функционального символа / постулируется п равенств вида а=Ь э з/ (аъ ..., а{_!, a , ai + 1, ..., an )= f ( a 1 , ..., а^ъ Ь,
a ,- + i . ■••, ап) (г=1,■■-,«)•
Записи содержащих предикат Р. формул (также обычно называемые просто равенствами) могут содержать нек-рые переменные, быть может фиксированные в пределах к.-л. контекста (в этом случае их наз. параметрами данного Р.); если такая формула выражает предложение, истинное при всех значениях входящих в нее переменных (параметров), то ее принято наз. тождеством, а если лишь при нек-рых — то уравнением. (Следуя терминологии Нанта, употреблявшейся Э. Шредером, первые часто называли аналитическими равенствами, а вторые — синтетическими; см. Логическая истинность.) В различных (не только дедуктивных) науках большую роль играют отношения «типа Р.», обладающие свойствами [1], [2] и [3] и разбивающие предметную область на попарно не пересекающиеся «классы эквивалентности» (отождествив элементы каждого из к-рых, т. е. игнорируя любые определенные для них «различающие» предикаты, кроме индуцировавшего данное разбиение двуместного предиката «типа Р.», мы определяем для них уже отношение Р. в определенном выше смысле), для к-рых принято также наименование эквивалентность. Примерами могут служить эквиполлентность (равносильность) логич. формул (предложений), эквивалентность (равномощность, равночислегшость) множеств, параллельность, конгруэнтность и подобие в геометрии, сравнимость по модулю (равенство остатков при делении на к.-л. число) целых чисел, изоморфизм и вообще любое отношение, характеризующее в к.-л. смысле «одинаковость» (подобие или даже тождественность) рассматриваемых предметов, причем термин «Р.» (или к.-л. из его аналогов) часто бывает естественнее относить не к именам отождествляемых предметов, а к ним самим.
Это различие становится несущественным для т. п. графического Р. «слов» в к.-л. «алфавитах», играющего большую роль в разл. приложениях теории алгоритмов. (Напр., в обозначениях А. Маркова, запись «Щ1Г 5+7» означает, что ЭТ есть сокращенное (условное) обозначение не числа 12, а «слова», состоящего из трех «букв» 5,+ и 7, к-рое, естественно, совпадает — в самом буквальном смысле — со своей записью.)
Знак Р. (или логич. эквивалентности) часто употребляют и при определении вновь вводимых понятий, но во избежание недоразумений обычно либо снабжают его индексом Dj (=д/, = дг, ~о/), либо пользуются специальным лоренценовским символом ±^. Хотя сам по себе любой из этих символов и не обозначает отношения Р., но порождает таковое — в том смысле, что связанные им выражения можно затем уже (после определения) отождествить и связать обычным знаком =; с др. стороны, знаки «Р. по определению» и вводимые с их помощью новые символы при соответствующих условиях могут быть «устранены» из рассмотрения (по спец. правилам).
Понятие Р., усиленно изучавшееся еще авторами
первых работ по алгебре логики (Дж. Буль, Э. Шредер,
П. С. Порецкий) и лежавшее в основе употреблявше
гося ими логико-математич. аппарата, является (на
ряду с противоположным ему отношением разл и-
ч и я, к-рое, впрочем, можно аксиоматически охарак
теризовать и чисто «положительным» образом) одним
из основных логич. отношений, что и предопределяет
его фундаментальную роль как в самых различных
приложениях математики и логики, так и в их фило
софском ОСМЫСЛСПИИ. \с. Яновская]. Москва.
РАВЕССОН МОЛЬЁН (Ravaisson-Mollien) (наст, фамилия — Л а ш е; Lacher), Жан Гаспар Феликс (23 окт. 1813—18 мая 1900) — франц. философ-спиритуалист, ученик Шеллинга, археолог и художник. Проф. в Ренне, чл. Академии надписей и литературы (с 1849), чл. Академии моральных и политич. наук (с 1880); занимал пост хранителя скульптуры в Лувре (с 1870). В гл. соч. «Обзор франц. философии XIX в.» («La philosophie en France au XIX siecle», P., 1868) развивал идею примата духа как основы реального мира. Материя, согласно Р.-М., является фундаментом естеств. жизни, на к-ром путем непрерывного прогресса, от ступени к ступени все возвращается к единству духа, этому всеобщему первоначалу, создающему материальность. Видимый мир — это внешний аспект духовной реальности. Бог передает Вселенной только часть своего совершенства, предоставляя ей возможность развиваться самостоятельно (см. «La philosophie de Pascal», «Revue des deux Mondes», 1887, v. 80, liv. 2). При этом движение и развитие понимается телеологически: цель — конечная причина. Высшим авторитетом в идеалистич. эстетике Р.-М. является Леонардо да Винчи.
Идеи Р.-М. подорвали влияние господствовавших во Франции позитивизма Конта и эклектизма Кузена, способствовав возрождению спиритуалистич. метафизики.
С о ч.: Essai sur la metaphysique d'Aristotc, t. 1—2, P., 1837—46; La Venus de Milo, P., 1892; Metaphysique et morale, «Revue de metaphysique et de morale», 1893, № 1; De l'habitude, P., 1927; Testament philosophique et fragments, P., [19331.
Лит .: Boutroux E., La philosophie de Felix Ravaisson, «Revue de metaphysique et de morale», 1900, annee 8, p. 699— 716; D о p p J., Felix Ravaisson, Louvain, 1933; В е г g s о n H., La pensee et le mouvant, 35 ed., P., 1960.
Т. Сахарова. Москва.
РАВНОВЕСИЯ ТЕОРИЯ — концепция развития, формулировавшаяся рядом . философов 17—18 вв., а в 19 в.— нек-рыми социологами (гл. обр. позитивистами). Р. т. основывается на принципах механицизма и утверждает, что в механизме процесса развития главным является состояние равновесия между развивающимся объектом и окружающей его средой, что всякое развитие направлено на достижение равновесия. В России нек-рые принципы Р. т. использовали Богданов (для обоснования своей тектологии) и Н. И. Бухарин, т. зр. к-рого была подвергнута резкой критике в парт, документах и лит-ре.
Р. т. следует отличать от широко используемого в естеств. науках, в частности в кибернетике, понятия равновесия, играющего особенно важную роль в кибернетических, биологических и психологических исследованиях; в этих исследованиях равновесие существенно как момент устойчивости динамических систем.
РАВНОЗНАЧНЫЕ ПОНЯТИЯ — понятия, объемы к-рых совпадают; иначе: понятия А ш В наз. равнозначными, если каждый предмет, обладающий свойствами (признаками), составляющими содержание понятия А, обладает свойствами, составляющими содержание В, и наоборот. Символически: ух ((Ах) = =В(х)), где ух обозначает «для всякого ж», А(х) — высказывание о принадлежности предмету х свойств, составляющих содержание понятия А; В{х) — аналогично для В; «=» — знак эквиваленции. Напр., понятия: «равносторонний треугольник» и «равноугольный треугольник» — Р. п. Говорят, что между Р, п. имеет место отношение равнозначно с т и. Отношение равнозначности является частным случаем совместимости понятий.
Е. Войшвилло. Москва.
РАДБРУХ (Radbruch), Густав (21 нояб. 1878—
23 нояб. 1949)— нем. правовед и социолог, проф. Киль-
РАДИЩЕВ 44'/
 ского и Гейдельбергского ун-тов. В 1933 отстранен нацистами от преподавательской деятельности; с 1945—декан юридич. фак-та Гейдельбергского ун-та. Трактовка права, даваемая Р., сводится к аксиологич. конструкции неокантианского типа (Р.— последователь баденской школы), согласно к-рой право может быть понято только исходя из априорной идеи права, определяющей его цели. В свою очередь, эта «идея права» состоит из «сопряжения» трех осн. ценностей: справедливости, целесообразности и правовой стабильности, изучение к-рых и является целью «философии права», в отличие от «теории права», выполняющей практич. задачи по толкованию, систематизации и т. п. действующего права. Метод «философии права», по Р.,— это особый умозрит. оценочный подход; обязат. элемент метода — релятивизм. После 2-й мировой войны Р. пытался связать свою конструкцию с «возрождением» естественного права. Забвение естеств. права и позитивистский подход к закону явились, по мнению Р., чуть ли не важнейшей причиной утверждения фашизма. Учение Р. о праве — характерный пример общей тенденции оппортунизма нач. 20 в. подменить марксизм неокантианством.
ского и Гейдельбергского ун-тов. В 1933 отстранен нацистами от преподавательской деятельности; с 1945—декан юридич. фак-та Гейдельбергского ун-та. Трактовка права, даваемая Р., сводится к аксиологич. конструкции неокантианского типа (Р.— последователь баденской школы), согласно к-рой право может быть понято только исходя из априорной идеи права, определяющей его цели. В свою очередь, эта «идея права» состоит из «сопряжения» трех осн. ценностей: справедливости, целесообразности и правовой стабильности, изучение к-рых и является целью «философии права», в отличие от «теории права», выполняющей практич. задачи по толкованию, систематизации и т. п. действующего права. Метод «философии права», по Р.,— это особый умозрит. оценочный подход; обязат. элемент метода — релятивизм. После 2-й мировой войны Р. пытался связать свою конструкцию с «возрождением» естественного права. Забвение естеств. права и позитивистский подход к закону явились, по мнению Р., чуть ли не важнейшей причиной утверждения фашизма. Учение Р. о праве — характерный пример общей тенденции оппортунизма нач. 20 в. подменить марксизм неокантианством.
Соч.: Rcligionsphilosophie der Kultur, 2 Aufl., В., 1921
(совм. с P. Tillich); Vorschule der Rechtsphilosophie, Hdlb.,
1948; Kulturlehre des Sozialismus, 3 Aufl., В., [1949]; Rechts
philosophie, 6 Aufl., Stuttg., 1963; Der Mensch im Recht, 2
Aufl., Gott., 1961; в рус, пер.— Введение в науку права, М.,
1915. В. Туманов. Москва.
|
|
РАДИЩЕВ, Александр Николаевич (20 августа 1749 —12 сентября 1802) — основоположник революц. традиции в рус. освободит, движении, философ-материалист. Выходец из дворян, в 1762 Р. был определен в Пажеский корпус Екатерины II, в 1766 вместе с группой молодых дворян отправлен в Германию; в Лейпцигском ун-те слушал курс вольфианской метафизики, психологии, математики и др. Неудовлетворенность казенной наукой вызвала у рус. студентов интерес к энциклопедистам (Гельвеций, Мабли, Руссо). Б унт студентов против надзирателя Бокума сплотил их в тесный круг единомышленников, во главе к-рого встал Ф. В. Ушаков. Между членами кружка сохранились на всю жизнь дружеские связи, не исключавшие резких идейных столкновений (полемика Р. с А. М. Кутузовым в 80— !)0-х гг.).
По возвращении в Россию Р. служит протоколистом Сената (1771—73), обер-аудитором (воен. прокурором) штаба Финляндской дивизии (1773—75), членом Коммерцколлегии (1778—80), зам. советника, затем советником таможенных дел петерб. Казенной палаты (1780—90). Первые же годы службы Р. в России показали ему невозможность применить «для пользы отечества» полученные за рубежом знания (см. Полн. собр. соч., т. 1, 1938, с. 173). Резкой радикализации взглядов Р. способствует общая обстановка конца 60— нач. 70-х гг. Отказ Екатерины II от выполнения декларативных обещаний «Наказа» (1766), прекращение работы Комиссии по сочинению проекта Уложения (1767—68), явное нежелание принимать меры для облегчения участи крепостных «рабов» ставят в оппозицию к самодержавию радикальное крыло рус. просветителей («Философические предложения» Козельского, сатирич. журналы Н. Новикова).
К 1773 относится и первое выступление Р. — с переводом «Размышлений о греческой истории и о причинах благоденствия и нещастия греков» Мабли. В то время как офиц. идеология провозглашала само-
державие строем, единственно пригодным для столь обширного гос-ва, как Россия, защитником «естественной вольности» людей (см. «Наказ Екатерины Вторыя...», СПБ, 1770, п. п. 9—19, 57, 80 и др.), Р. в своем «Примечании» к Мабли объявил самодержавие «наипротивнейшим человеческому естеству состоянием» (см. А. Мабли, Размышления о греч. истории..., СПБ, 1773, с. 126, прим.).
Период зрелого творчества Р. падает на 80-е гг. После врем, спада, связанного с событиями Крест. войны 1773—75, когда многие оппозиционно настроенные дворяне ушли в масонскую мистику (см. Масонство), рус. просветит, мысль вновь обретает утерянную было радикальную направленность и живой интерес к антифеод, идеологии Запада; возобновляет писат. деятельность и Р. Преодоление этих кризисных явлений было в известной мере определено событиями Амер. войны за независимость (1775—83). В нач. 80-х гг. Р. знакомится с коллективным трудом энциклопедистов — 3-м изданием «Истории обеих Индий», авторы его (Рейналь, Дидро, Нежон и др.) заявляли о непрочности преобразований, совершаемых «просвещенными» деспотами без участия народов и помимо их воли; на страницах труда утверждалась идея прогрессивности гражд. войн, пропагандировались успехи вооруж. борьбы амер. колоний за независимость. Пример вольной Америки «обнажил», по Р., «мету» (т. е. цель) освободит, движения в России. В то же время банкротство просвещенного абсолютизма Екатерины II в России позволило Р. избавиться от остатков веры в «просвещение» монархоп, свойственных авторам 3-го издания «Истории обеих Индий».
В нач. 80-х гг. Р. создает революц. оду «Вольность», где славит «пример великий» Кромвеля, подвиги армии Вашингтона, приветствует день грядущей, революции в России — «избраннейший всех дней». В 1789, под непосродств. влиянием начавшейся Франц. революции, Р. приступает к политич. пропаганде печатным словом; в домашней типографии он публикует «Житие Ф. В. Ушакова», где использует автобиографич. материал (воспоминания о «бунте» студентов) для важнейших политич. аналогий. Сопоставляя притеснения Бокума с самовластьем Людовика XVI, Р. утверждает, что залог освобождения народа — в «крайности» угнетения; он проклинает тех, кто хочет смягчить гнет, пытаясь совлечь «покров сей с очей власти». В 1782 Р. пишет «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске...» (опубл. в 1790), в к-ром, рассматривая преобразования Петра I, давшего первый толчок «громаде» (России), категорически утверждает, что даже цари-преобразователи не поступаются своей властью в пользу «вольности частной». «... Нот и до скончания мира, примера может быть небудет чтобы Царь уступил добровольно что ли из своея власти, седяй на Престоле» (Полн. собр. соч., т. 1, с. 151).
Всестороннее обоснование на материале рус. жизни революц. идеи Р. получают в «Путешествии из Петербурга в Москву» (посвящено А. М. Кутузову, писалось в сер. 80-х гг., представлено в цензуру в 1789, напечатано с рядом добавлений в домашней типографии в 1790). Для сюжета Р. использовал обычную в лит-ре 18 в. форму путевых заметок. Поехав по петерб. дороге «в след Государя» (в 1787 было совершено обставленное «потемкинскими деревнями» путешествие Екатерины II из Петербурга через Москву на юг России), «путешественник» открывает за наружным блеском «блаженствующего» гос-ва бездну нар. страданий, а за обманчивой «тишиной» — накаленную до предела ненависть рабов, ждущих «часа и случая», чтобы восстать «на погубление господ своих». Положит, персонажи книги разными спосо-
448 РАДИЩЕВ
 бами пытаются помочь «себе подобным». Они апеллируют к разуму «начальников» или «к закону» (главы «Любани», «Чудово»), поступают на службу («Зай-цево»), пытаются открыть глаза «верховной власти» («Спасская Полесть»), пишут проекты к «постепенному освобождению земледельцев в России» и уничтожению придворного «ласкательства» («Хотилов», «Выд-ропуск»). Однако блюстители порядка оказываются бесчеловечными тиранами, просвещение монарха — возможным только во сне, служба в суде завершается полным разочарованием, проекты освобождения крепостных (созвучные предложениям Коробьина, Козельского и др. по крест, вопросу в Комиссии по сочинению проекта Уложения) валяются в грязи на дороге, они брошены «искренним другом» путешественника. Глава «Медное» разъясняет причину его неудач: «Но свобода сельских жителей обидит как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения» (там же, с. 352). С этого момента герои книги прекращают попытки освободить народ в рамках существующих отношений. «Торжок» обосноьывает необходимость революц. просвещения народа. «Тверь» (пересказ оды «Вольность») рисует картину разбуженной вольным словом грядущей революции, отправляющей царя — «преступника» изо всех первейшего — на плаху. «Городня» повторяет призыв к «человеколюбивому мщению»: пусть рабы разобьют своими оковами «главы безчеловечных своих господ» — на место «избитого племени» встанут новые «великие мужи», они будут «...других о себе мыслей и права угнетения лишенны» (там же, с. 368). Выдвигая идею крест, революции, Р., по всей видимости, учитывал опыт франц. революции, нек-рые выводы Марата (ср.—там же, с. 305 и Ж. П. Марат, Избр. произв., т. 2, М., 1956, с. 71). В заключит, главе — «Слово о Ломоносове» — сформулирована концепция революц. просвещения. Заслуги великого соотечественника, проложившего путь ко «храму славы» российской словесности, не заслоняют от Р. узости его поли-тич. позиции. Сопоставляя Ломоносова, к-рый, следуя обычаю «ласкати царям», льстил Елизавете, и Франклина «изторгнувшего гром с нобеси, и скиптр из руки Царей», писатель делает выбор в пользу Франклина. «Мужественные писатели», восстающие на «губитель-ство и всесилие», дадут «первый мах» тому великому творению, к-рое преобразит мир: «Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом» (Полн. собр. соч., т. 1, с. 392).
бами пытаются помочь «себе подобным». Они апеллируют к разуму «начальников» или «к закону» (главы «Любани», «Чудово»), поступают на службу («Зай-цево»), пытаются открыть глаза «верховной власти» («Спасская Полесть»), пишут проекты к «постепенному освобождению земледельцев в России» и уничтожению придворного «ласкательства» («Хотилов», «Выд-ропуск»). Однако блюстители порядка оказываются бесчеловечными тиранами, просвещение монарха — возможным только во сне, служба в суде завершается полным разочарованием, проекты освобождения крепостных (созвучные предложениям Коробьина, Козельского и др. по крест, вопросу в Комиссии по сочинению проекта Уложения) валяются в грязи на дороге, они брошены «искренним другом» путешественника. Глава «Медное» разъясняет причину его неудач: «Но свобода сельских жителей обидит как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения» (там же, с. 352). С этого момента герои книги прекращают попытки освободить народ в рамках существующих отношений. «Торжок» обосноьывает необходимость революц. просвещения народа. «Тверь» (пересказ оды «Вольность») рисует картину разбуженной вольным словом грядущей революции, отправляющей царя — «преступника» изо всех первейшего — на плаху. «Городня» повторяет призыв к «человеколюбивому мщению»: пусть рабы разобьют своими оковами «главы безчеловечных своих господ» — на место «избитого племени» встанут новые «великие мужи», они будут «...других о себе мыслей и права угнетения лишенны» (там же, с. 368). Выдвигая идею крест, революции, Р., по всей видимости, учитывал опыт франц. революции, нек-рые выводы Марата (ср.—там же, с. 305 и Ж. П. Марат, Избр. произв., т. 2, М., 1956, с. 71). В заключит, главе — «Слово о Ломоносове» — сформулирована концепция революц. просвещения. Заслуги великого соотечественника, проложившего путь ко «храму славы» российской словесности, не заслоняют от Р. узости его поли-тич. позиции. Сопоставляя Ломоносова, к-рый, следуя обычаю «ласкати царям», льстил Елизавете, и Франклина «изторгнувшего гром с нобеси, и скиптр из руки Царей», писатель делает выбор в пользу Франклина. «Мужественные писатели», восстающие на «губитель-ство и всесилие», дадут «первый мах» тому великому творению, к-рое преобразит мир: «Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом» (Полн. собр. соч., т. 1, с. 392).
За издание книги, наполненной «самыми вредными умствованиями», попытку «произвесть в народе негодование противу начальников и начальства», «...неистовые изражения противу сана и власти царской» (Екатерина II, см. Д. С. Бабкин, Процесс А. Н. Радищева, 1952, с. 244) Р. был осужден на смертную казнь, замененную ссылкой в Сибирь. В ссылке (1790—97) Р., выполняя свой давний замысел, пишет обширный филос. трактат «О человеке, его смертности и бессмертии» (впервые опубл. в 1809). В 1797 Р. было разрешено вернуться в Центр. Россию (в Немцово, под Малоярославцем). После убийства Павла I Р. переезжает в Петербург, поступает в августе 1801 на службу в Комиссию по составлению законов; год спустя Р. кончает жизнь самоубийством.
Социологические взгляды. Идейная эволюция Радищева. В работах Р. присутствует общепринятое в просветит, лит-ре объяснение перехода от первобытной вольности к политич. деспотизму (см. Общественного договора теория). Учреждая общество, свободные люди кладут «предел» своим желаниям, образуя «общу власть» и «закон». Однако правитель забывает
«клятву», данную народу, попирает мечом «уставы» общества, союз «суеверия политического и священного» — царской власти и веры, закрепляет несправедливый строй. Р. сознает: вековую тяжбу народов с государями решает не формальное право, а сила: «Но на что право, когда действует сила? Может ли оно существовать, когда решение запечатлеется кровию народов?» (там же, с. 263). Реальные средства восстановления попранного монархом нар. суверенитета он ищет в 80-е гг. в истории победоносных нар. революций. Закономерность революций связывается с неспособностью абсолютизма смягчить гнет: Едино-начальство, «простирая повсеместную тяготу», неизбежно доводит народ до «крайности» (см. там же, с. 166—67). Огромное значение в борьбе с узурпаторской властью Р. придает «вольному слову», призванному разрушить пагубный обман, сорвать «личину» с «истукана власти», вернуть «источнику» (т. е. народу) силу для свержения «истукана». В целом в трактовке явлений обществ, жизни Р. остается на позициях идеализма: «перемена Царств» происходит тогда, когда «...в умствованиях, когда в суждениях о вещах нравственных и духовных начинается ферментация...» (там же, с. 261). Вместе с тем в творчестве Р. заметно и стремление к выявлению глубинных движущих сил историч. процесса. Так, опираясь на Руссо, Р. связывает возникновение порабощения с развитием произ-ва и появлением частной собственности: «Как бы то ни было, земледелие произвело раздел земли на области и государства, построило деревни и города, изобрело ремесла рукоделия, торговлю, устройство, законы, правления. Как скоро сказал человек: сия пядень земли моя! он пригвоздил себя к земле и отверз путь зверообразному самовластию, когда человек повелевает человеком. Он стал кланяться воздвигнутому им самим богу, и, облекши его багряницею, поставил на олтаре превыше всех, воскурил ему фимиам; но наскучив своею мечтою и стряхнув оковы свои и плен, попрал обоготворенного и преторг его дыхание. Вот шествие разума человеческого» (там же, т. 2, 1941, с. 64). Сближают Р. с Руссо и определенные представления об антагонистич. характере обществ, прогресса: «Если кто хотя мало вникал в деянии чело-веческия, если кто внимательно читал историю царств, тот ведает убедительно, что где более было просвещение, где оно было общественное, там более было и превратности. Столь добро и зло на земли нераздельно» (там же, т. 3, 1952, с. 29).
Ряд мыслей Р. свидетельствует о том, что он склонялся к теории «круговорота» явлений природы и общества, возвращения всего «на прежнюю ступень». Эти представления накладывали печать и на оптими-стич. веру Р. в грядущее царство «вольности». Уже в 80-е гг. опыт прошлого внушал Р. опасения, сумеет ли народ после победы удержать ее плоды в своих руках. Во главе восстания могут встать «мужи твердые и предприимчивые» не только «на истину», но и на «прельщение», не только «любители человечества», но и «льстецы», снова узурпирующие власть; так, Кромвель, «власть в руке своей имея», сокрушил снова «твердь свободы». Опираясь на этот пример, а также на пример падения Римской республики, Р. в оде «Вольность» сформулировал «закон природы»: «Из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...». Гл. причиной такого круговорота обществ, явлений Р., полностью разделяя «Гель-вециево о сем мнение», считал роковую роль человеч. страстей: необузданного корыстолюбия и ненасытной «алчбы власти» (см. там же, т. 1, с. 361, 161, 12 и др.). Однако в 80-е гг. трактовка этого «закона природы» в его применении к обществу не носила у Р. фаталистич. оттенка: бдительность «счастливых народов» могла сберечь «дар благой природы». Произведения Р. по-
РАДИЩЕВ 449
 следних лет лишены этого оптимизма. Возвращаясь в «Песни исторической» к сюжетам «Размышлений о греческой истории» Мабли и «Рассуждения о причинах величия и падения римлян» Монтескье, Р. подчеркивает роковой исход борьбы народов с деспотич. властью. Вольность, сиявшая в Древней Греции, «потухла безвозвратно» вместе с гибелью спартанских добродетелей — простоты, бескорыстия, патриотизма. «Здание римской свободы», основанное на нар. суверенитете, рухнуло в результате завоеват. политики Рима. Побуждаемый ненасытной жаждой «властолюбия», поставив целью «присвоение вселенной», Рим кончил тем, что сам стал добычей кровавых властолюбцев-диктаторов. Социологич. схема Р., схватывавшая внешнюю повторяемость политич. событий, не вскрыла социальных пружин развертывавшейся на его глазах классовой борьбы; она заставила его истолковать не только воен. диктатуру Кромвеля, но и диктатуру якобинцев как пример вырождения свободы в «самовластье», «наглость». Сравнивая кровавое правление рим. тирана Суллы с террором Робеспьера, Р. приходит к мысли о предпочтительности «мира неволи» бедствиям гражд. войны. К середине 90-х гг. мыслитель отказывается от революц. путей борьбы за «вольность» и сходит с позиции безусловно отрицат. отношения к монархнч. власти. Рисуемые в «Песни исторической» образы рим. тиранов призваны, по Р., специально оттенить заслуги добрых, мудрых, «правдивых» самодержцев вроде Веспасиана, Тита, Траяна и Марка Аврелия.
следних лет лишены этого оптимизма. Возвращаясь в «Песни исторической» к сюжетам «Размышлений о греческой истории» Мабли и «Рассуждения о причинах величия и падения римлян» Монтескье, Р. подчеркивает роковой исход борьбы народов с деспотич. властью. Вольность, сиявшая в Древней Греции, «потухла безвозвратно» вместе с гибелью спартанских добродетелей — простоты, бескорыстия, патриотизма. «Здание римской свободы», основанное на нар. суверенитете, рухнуло в результате завоеват. политики Рима. Побуждаемый ненасытной жаждой «властолюбия», поставив целью «присвоение вселенной», Рим кончил тем, что сам стал добычей кровавых властолюбцев-диктаторов. Социологич. схема Р., схватывавшая внешнюю повторяемость политич. событий, не вскрыла социальных пружин развертывавшейся на его глазах классовой борьбы; она заставила его истолковать не только воен. диктатуру Кромвеля, но и диктатуру якобинцев как пример вырождения свободы в «самовластье», «наглость». Сравнивая кровавое правление рим. тирана Суллы с террором Робеспьера, Р. приходит к мысли о предпочтительности «мира неволи» бедствиям гражд. войны. К середине 90-х гг. мыслитель отказывается от революц. путей борьбы за «вольность» и сходит с позиции безусловно отрицат. отношения к монархнч. власти. Рисуемые в «Песни исторической» образы рим. тиранов призваны, по Р., специально оттенить заслуги добрых, мудрых, «правдивых» самодержцев вроде Веспасиана, Тита, Траяна и Марка Аврелия.
О монархия, иллюзиях говорит и последнее произведение Р.— ода «Осмнадцатое столетие». Ранее призывавший народы к вооруж. восстанию и грозивший плахой царю Р. в российском престоле видит теперь единств, твердую опору человечества среди грозящих захлестнуть его «кровавых струй». В противоположность произведениям 80-х гг. в оде высоко оценивается просветит, деятельность Петра I, Екатерины II; Александр I объявляется хранителем неосуществленных заветов 18 в. («мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона»). «Песнь историческая» свидетельствует о крайней шаткости монархия, иллюзий Р. Тот же «премудрый» Марк Аврелий
«...смертной был. Блаженство Рима вянет с Марк Аврелием».
Р. высказывает опасения, не свойственно ли вырождение, «упадение» всякой самодержавной власти вообще:
«Иль се жребий есть всеобщий
Чтоб возвышенная сила,
Власть, могущество, блеск славы
Упадали, были гнусны».
Кончились провалом и практич. попытки Р. внушить идеалы «века разума» новому рус. самодержцу: идеи поздних закоподат. проектов Р. («О законоположении», «Проект для разделения уложения Российской» и др.) остались нереализованными, ода «Осмнадцатое столетие» — неопубликованной. В произведениях Р. последних лет все яснее слышатся пессими-стич., трагич. ноты, в т. ч. мысль о бренности всех человеческих творений («смертной что зиждет, все то рушится, будет всех прах»; притязать на вечность могут только мысли — «не погибнут они, хотя бы гибла земля»).
В нач. 19 в. круг поисков Р. замкнулся: действительность наполеоновской Франции подорвала веру в «разумность» революций; действительность царствования Александра I покончила с последними надежными на «разум» монархов. Подняться до уровня иных георетич. представлений, указывающих выход из этого гупика, Р., надломленный ссылкой, не смог. Его идей-
ная драма — отражение общеевроп. кризиса бурж. просветит, идеологии, приводит Р. в 1802 к трагич. финалу — самоубийству.
Выход из этого кризиса революц. мысли будет намечен два десятилетия спустя декабристами. Разделяя отрицат. отношения Р. к якобинскому террору и гражд. войне и пытаясь найти средство избежать подобных междоусобий (см. Пестель), декабризм вместе с тем вернулся к идее прогрессивности революции вообще, попытавшись «ограничить» ее рамками воен. дворянского переворота. К идее крест, нар. революции, выдвинутой Р. в 80-х гг., рус. освободит, мысль обратится только на разночинском этапе движения.
Система филос. идей Радищева. Осн. филос. трактат Р. «О человеке, его смертности и бессмертии» построен на принципе сознат. противопоставления двух «противоположностей» — аргументов материализма и идеализма за смертность или бессмертие души (соответственно 1—2-я и 3—4-я книги трактата).
1-я кн. четко формулирует материалистич. решение осн. вопроса: «... бытие вещей независимо от силы познадия о них и существует по себе» (там же, т. 2, с. 59); движение — коренное свойство «вещественности», время и пространство — объективные формы бытия вещей. Напротив, «метафизические» доводы 3-й кн. исходят из первичности духа: «без мыслящего существа не было бы ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего; не было бы ни постепенности, ни продолжения; исчезло бы время, пресеклося бы движение...» (там же, с. 109). В 1-й и 2-й книгах психика человека рассматривается как действие телесных органов, «сложения» человека. Обратное утверждает 3-я книга: организация вещества не может создавать новых качеств в силу «простоты» и «неделимости человеческой мысли», она является св-вом особой нетленной «духовной» субстанции. Примеры «творческой деятельности души» во время сна, у лунатиков, сумасшедших, факты существования произвольных движений и т. д. говорят о «полной власти» души над телом. В 1-й кн. рассмотрение места человека на «лестнице творений» природы показывало, что он подчинен, как и все на земле живущее, «законам» вещественности, сходен с животными не только строением его тела, но и самой «способностью размышлять». В 3-й кн. рассмотрение той же «лестницы» вело к противоположному заключению: человек принципиально отличен от всех земных творений своей «двуестественностью», только он обладает специфической «духовной силой». Та же явственная восходящая «постепенность» всех известных нам существ заставляет предполагать дальнейшую эволюцию человека в загробном мире «духов» (см. там же, с. 112). Наконец, если в 1-й книге утверждался принцип познаваемости мира, к человеку был обращен призыв «дерзать» в познании «сокровеннейших недр природы», то в ряде мест 4-й книги Р., напротив, советовал ему «усмириться» в своих надеждах познать мир: «человеческий разум вещей не познает», «внутреннее существо вещей нам неизвестно».
Отмежевываясь от доводов за смертность души, Р. сопровождал их выпадами против «тигров», «челове-коненавидцев», лишающих людей надежды «будущия жизни». Однако автор предупреждает читателя, что его влечет к идеализму не рассудок, а потребность в самоутешении, сердце, изнемогшее от разлуки с друзьями; читателю предоставляется самому выбирать те доводы, «кои наиболее имеют правдоподобия», руководствуясь только «светильником опыта» и удалив «все предрассудки, все предубеждения». Это ключевое положение подчеркивает объективную неравноценность приводимых Р. материалистич. аргументов, построенных на опытных фактах науки, и иде-алистич. рассуждений, основанных на «нутрозрении»,
450
РАДИЩЕВ
 оторванном от окружающего мира, «гаданиях» и «мечте».
оторванном от окружающего мира, «гаданиях» и «мечте».
Обращение к источникам трактата дополнительно выявляет различную степень оригинальности обеих его частей. Так, «метафизические» доводы 3—4-й книг оказываются зачастую буквальным пересказом идеа-листич. концепций Мендельсона («Федон, или О бессмертии души», 1764, рус. пер.,СПБ,1837)и Ж.Гердера («Идеи к философии истории человечества», 1784—91, сокращ. рус. пер., 1829; «Uber die Seelenwandrung», 1785). В этих разделах Р. принадлежат лишь нек-рые иллюстрации и комментарии, настойчиво подчеркивающие «гадателыгость» излагаемых взглядов; этот скептицизм в 4-й кн. переходит в прямое отрицание доводов идеалистов. В 1 — 2-й книгах Р. дает более самостоят, трактовку естеств.-науч. и филос. вопросов, дополняя в целом ряде моментов взгляды своих учителей — Гельвеция, Дидро, Пристли, Гольбаха и др. Отрицая наличие непроходимой грани между духом и телом, Р. доказывает, что и «разумное вещество» может обладать всеми св-вами «вещественности». Хотя незавершенность концепции и нечеткость терминоло-таа 4&cso а&стгждетэт Р . ва^еаослкь ка. <шысд.едыюсть.» механич. св-ва материи (дискретность, протяженность и т. п.), однако сам он постоянно сознает опасность вульгарно-механистич. трактовки: «...не бойся, я мысленное™ твоей на безмен не положу», жизнь, чувствование, мысль «...суть нечто более, нежели просто движение, притяжение и отражение, хотя спи силы в произведении сих свойств много участвуют, вероятно» (там же, с. 85, 86). Р. подчеркивает разнород-ностьи множественность материальных «стихий», лежащих в основе всего сущего. Одно из гл. средств природы есть «организация», благодаря к-рой и возникают «почти новые вещества», «совсем новые явления», в т. ч. жизнь, свойственная «...не одним животным, но и растениям, а, вероятно, и ископаемым...»; окончательно тайна жизни будет раскрыта, «...когда искусством можно будет производить тела органические» (там же, с. 88).
Разбор физич. теорий Р. завершает рассмотрением понятий о боге. Если до этого в трактате встречаются обращения ко «всесильному», то теперь, опираясь на вывод о неразрывной связи материи и движения, Р. отбрасывает само понятие о «всесильном» (см-там же, с. 81) (правда, в ряде др. произведений Р. имеются деистич. высказывания).
В первых двух книгах Р. выявляет гносеологич. корни идеалистич. представлений о бессмертии души и божеств, первопричине. И на ступени опыта, и на ступени рассуждения все заблуждения исходят не от вещи, а от самого человека. На первой нам могут помешать обманчивые «расположения нашей чувственности», создающие ложные представления о вещах, и ошибки разума, ложно воспринимающего «отношение вещей между собою» (см. там же, с. 60, 61). На второй, где мы познаем «...союз вещей с законами силы познания и законами вещей», т. е. познаем бытие вещей, «...не испытуя от них перемены в силе понятия нашего», заблуждения становятся особенно многочисленными (см. там же, с. 60). Как наши силлогизмы, так и метод сравнения и «сходственностй» (аналогия) могут вести и к «светлейшим и предвечным истинам, и к неисчислимым и смешнейшим заблуждениям». Примерами подобных заблуждений выступают либо «нутрозрительные» доводы идеалистов, не желавших видеть «окрест нас разрушение всеобщее», либо умозрит. аналогии Лейбница и др. идеалистов, распространявших на загробный мир закон постоянного «совершенствования» и наблюдаемые в природе метаморфозы живых существ.
Отбрасывая доводы идеализма, Р. постоянно стремится переосмыслить в материалистич. частях трак-
тата ряд диалектич. идей и естеств.-науч. данных школы Лейбница. Понимая, что «заблуждение стоит вскрай истине», он дает в 1-й кн. материалистич. толкование гердеровской идее восходящей сложности форм природы, принимает его антропологич. характеристику человека, положение о единстве органа и его функции и др. Если у идеалистов диалектич. положение Лейбница — «настоящее чревато будущим» — носило мистич. оттенок (совершенствование — цель человека и на земле и за гробом), то к диаметрально противоположному выводу приходит Р.: «Ведай, что всякое состояние вещества, какого бы то ни было, естественно предопределяется его предшед-шим состоянием... До зачатия своего человек был семя, коего определение было развержение. Состояние жизни приуготовляло расположение и разрушение. Когда же жизнь прейдет, почто мечтать, что она может продлиться?» (там же, с. 95). Диалектич. характер носит и общий замысел трактата — столкновение двух «противоположностей» по вопросу бессмертия души (ср. вторую антиномию Канта).
Предприняв своеобразную попытку подвести итог борьбе, фрадл,. и. английского мала^жадкама. (Д-адоо, Гольбах, Пристли и др.) против немецкого идеализма, Р. не сумел преодолеть метафизич. слабость материализма 18 в. Механистич. ограниченность сказывается в терминологич. нечеткости и гл. обр. в неспособности переосмыслить «чувственные доводы» идеализма — спекуляцию на фактах активности человеч. психики.
В «Путешествии...», «О человеке» Р. высказал ряд интересных мыслей по эстетике. Способность эстетич. восприятия он связывает с развитием органов чувств, считая «соучаствование» важнейшей особенностью человека. В создании поэтич. и др. произведений иск-ва огромную роль, по Р., играет сила воображения, нередко отрывающая людей от почвы реального мира. Особенно ценны высказывания Р. о социальной обусловленности эстетич. вкуса (отличие нар. понятий о красоте от вкусов «боярыньк Московских и Петербургских»), мысли о бессмысленной помпезности егип. пирамид и др. (см. там же, т. 1, с. 302).
Историография. Своеобразная композиция осн. произведений Р. («Путешествие...», «О человеке»), построенных на принципе столкновения взаимоисключающих мнений, при явной шифровке собств. позиции автора, давала повод дореволюц. бурж. историкам изображать Р. в политике реформатором, уповавшим на «доброго царя», в философии — идеалистом, разделявшим взгляды Лейбница, Мендельсона, Гердера на бессмертие души (см. М. И. Сухомлинов, Исследования и статьи..., т. 1, СПБ, 1889, с. 539—671; Е. Бобров, А. Н. Р., как философ, в его кн.; Философия в России. Материалы, исследования и заметки, вып. 3, Каз., 1900; П. Милюков, Очерки по истории рус. культуры, ч. 3, вып. 2, СПБ, 1903; В. А. Мякотин, На заре рус. общественности, Ростов-на-Дону, [1904]; И. И. Лапшин, Философские взгляды А. Н. Р., П., 1922, и др.).
Эти предвзятые трактовки взглядов Р. были подорваны еще в дореволюц. исследоват. лит-ре, выявившей элементы пародии, сатиры на екатерининское законодательство в т. н. либеральных главах «Путешествия» — «Спасской Полести», «Хотилове», и революц.-респ. идеи в главах «Торжок», «Городня», оде «Вольность» и др. (см. С. Г. Сватиков, Общественное движение в России. 1770—1895, Ростов-на-Дону, [1905]; В. И. Семевский, Вопрос о преобразовании гос. строя России в XVIII и первой четверти XIX в., «Былое», 1906, № 1, и др.). Работы авторов революц.-демократии, и марксистского направлений четко определили место Р. как первого рус. революционера (см. Н. А. Добролюбов, Рус. сатира екатерининского вре-
РАДИЩЕВ — РАДЛОВ
451
 мени, Собр. соч., т. 5, М.—Л., 1962; В. И. Ленин, Гонители земства и Аннибалы либерализма, Соч., 4 изд., т. 5; его же, О национальной гордости великороссов, там же, т. 21; Г. В. Плеханов, 14-е декабря 1825 г., [СПБ, 1905]; его же, История рус. обществ, мысли, Соч., т. 22, М.—Л., 1925).
мени, Собр. соч., т. 5, М.—Л., 1962; В. И. Ленин, Гонители земства и Аннибалы либерализма, Соч., 4 изд., т. 5; его же, О национальной гордости великороссов, там же, т. 21; Г. В. Плеханов, 14-е декабря 1825 г., [СПБ, 1905]; его же, История рус. обществ, мысли, Соч., т. 22, М.—Л., 1925).
Относительно филос. трактата Р. еще А. С. Пушкин отмечал, что «Радищев хотя и вооружается противу материализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма» («Александр Радищев», см. Поли, собр. соч., т. 7, 1958, с. 357). Аналогичные признания! делались и в дореволюц. бурж. литературе, в частности П. Н. Милюковыми Н. Н. Павловым-Сильван-ским.
Сов. историография окончательно утвердила взгляд на Р. как зачинателя революц. традиции в России, философа-материалиста — см. В. П. Семенников, Р. Очерки и исследования, М. — П., 1923; Я. Л. Барсков,
A. Н. Р. Жизнь и личность, в кн.: Материалы к изуче
нию «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н- Р-,
[М.—Л.}, 1935; И. К. Лупнол, Трагедия рус. материа
лизма XVIII в. (Филос. взгляды А. Н. Р.), в его кн.:
Историко-филос. этюды, М.—Л., 1935; А. Н- Р.
Материалы И исследования, [М.—Л.], 1936; Г. А. Гу-
ковский, Очерки по истории рус. лит-ры и обществ,
мысли XVIII в., Л., 1938; М. Т. Иовчук, Рус. мате
риализм XVIII в., М., 1946; М. В. Горбунов, Филос.
и общественно-политич. взгляды А. Н. Р., М., 1949;
Радищев. Статьи и материалы, [Л.], 1950; Р. в рус.
критике, М., 1952; С. Ф. Елеонский, Книга А. В. Р.
«Путешествие из Петербурга в Москву», М., 1952;
B. П. Орлов, Р. и рус. лит-ра, [2 изд.], Л., 1952; Д. Д.
Благой, А. Н. Р. Жизнь и творчество, М., 1953;
А. Старцев, Университетские годы Р., М., 1956; его
же, Р. в годы «Путешествия», М., 1960; Д. С. Бабкин,
Процесс А. И- Р., М.—Л., 1952; Г. П. Макогонепко,Р.
и его время, М., 1956; В. В. Пугачев, А. Н. Р. (Эво
люция общественно-политич. взглядов), Горький,
1960; Ю. Ф. Карякин и Е. Г. Плимак, Запретная
мысль обретает свободу (175 дет борьбы вокруг
идейного наследия Радищева), М., 1966.
Вместе с тем в сов. лит-ре остается спорным вопрос о характере революц. концепции Р. 80-х—нач. 90-х гг. Часть сов. авторов (Д. Д. Благой, М. В. Горбунов и др.) считают хотиловский «проект в будущем» собств. идеалом Р., разделявшим т. о. и в 80-е гг. определ. иллюзии «просвещенного абсолютизма». Другие ученые (Г. П. Макогоненко, П. Н. Берков, *Н. И. Громов и др.) категорически отрицают наличие подобных иллюзий в произведениях Р. 80-х гг. Эти спорные проблемы мировоззрения Р. рассматривались в дискуссии на страницах жури. «ВФ» (1955, № 4; 1956, № 3, 4, 5; 1957, № 6; 1958, №5- статьи Ю. Ф. Карякина и Е. Г. Плимака, А. А. Галактионова и П. Ф. Никандрова, Ю. М. Лотмана, С. А. Покровского, Э. С. Виленской, А. В. Западова, И. К. Панти-па, Л. А. Фялиппова, В. И. Шинкарука, М. М. Спекто-ра). Более подробный обзор историографии вопроса— см. 10. Ф. Карякин иЕ.Т. Плимах, указ. соч.
Остается недостаточно исследованной духовная трагедия Р. в конце жизни и ее связь с начавшимся общеевропейским кризисом буржуазной просветит, мысли. Ряд исследователей (Д. С. Бабкин, П. К. Бонташ, С. А. Покровский и др.) считает, что в последние годы жизни Р. оставался верен прежним революц. убеждениям и даже продолжал работу над «Путешествием» (Г. Шторм, Потаенный Радищев, М., 1965), другие (Д. Д. Благой, В. В. Пугачев) говорят о монархич. иллюзиях последнего периода.
В сов. лит-ре пет единой т. зр. и на филос. трактат Р.: нек-рые авторы считают доводы за бессмертие души, изложенные в 3-й и 4-й книгах трактата, выраже-
нием деистич. ограниченности Р., другие видят в трактате сознательное противопоставление взаимоисключающих систем материализма и идеализма применительно к проблеме смертности или бессмертия души.
В совр. бурж. историографии, возрождающей пред
взятые версии рус. дореволюц. лит-ры, гл. упор де
лается на выявление зап. источников «либерализма»
Р. и его «идеализма» [см. К. Bittner, J. G. Herder und
A. N. RadiScev, «Zeitschrift fur Slavische Philologie»,
1956, Bd 25, H. 1; D. M. Lang, The first Russian radi
cal A. N. Radisctiev, L., 1958; A. N. Radischcv,
A journey from St. Petersbourg to Moscow, ed. by
R. P. Thaler, Camb. (Mass.), 1958; Mc Connell A.,
A Russian philosophe: Alexander Radischev (1749—
1802), The Hague, 1964]. E - Плимак. Москва.
РАДЛ (Radl), Эмануэль (21 дек. 1873—12 мая 1942) — чеш. философ, проф. методологии естеств. наук Пражского ун-та; был яеовиталистом, испытал влияние Масарика и Крейчи, в конце жизни занимался богословием. Гл. объект исследований Р. — история естествознания (см., напр.,«Историюразвития теорий в биологии 19 столетия» — издана в 1905 на нем. яз.; в 1909 на чеш. яз.— ««Dejiny vyvojovych theorii v biologii XIX st.», Praha; «Романтическая наука» — «Romanticka veda», Praha, 1918). P. настаивал на противоположности между естеств.-науч. и духовным познанием, призывал повиноваться «абсолютным моральным законам»; он пытался объединить реформистский социализм с христианством и с этих позиций анализировал проблемы национальности и религии, женский вопрос, чеш. историю и др.
Соч.: Modern! veda. Jejt podstata, metody, vysledky, Praha, 1926; Utecha z fllosofie, Praha, 1946.
Лит .: Smetacek Zd., Kozak—Radl—Hromadka, Praha,
1931; Koutnlk В., Emanuel Badl, kfest'ansky filosof, ve-
dec, politik a morallsta, Praha, 1934. Л. Свобода. ЧССР.
РАДЛОВ, Эрнест Леопольдович (1854—1928) —рус. философ-идеалист. Окончил историко-филологич. ф-т Петерб. ун-та, продолжал образование в Берлине и Лейпциге. Был директором Петерб. публичной б-кл, редактором фиаос. отдел.а «Эндижиоиедич. словаря» Брокгауза и Ефрона, занимался преподавательской деятельностью. Перевел ряд работ Аристотеля. Участвовал в идейно-теоретич. борьбе филос. направлений в конце 19 — нач. 20 вв., выступая с критикой материализма [см., напр.: Натуралистич. теория познания (по поводу статей проф. И. М.. Сеченова), «Вопр. философии й психологии», 1894, № 5(25)]; пропагандировал религ.-филос. концепцию (Мистицизм Вл. С. Соловьева, «Вест. Европы», 1905, № И; Мистицизм в совр. философии, в сб.: Новые идеи в философии, сб. 5, СПБ, 1913, и др.).
По своим взглядам Р. был близок к В. Соловьеву, с к-рым его связывала и личная дружба. Философия, по Р., исходит из «интуиции действительности, как единого целого», в то время как наука имеет дело с частными явлениями и пользуется «конструкцией понятий» (см. «Введение в философию», П., 1919, с. 12). Философия, религия й наука (соответственно разум, вера и опыт) дополняют друг друга, ибо каждая выражает специфич. потребности человека. Философия решает также морально-этич. проблему о смысле жизни и поведении индивида. Только безусловное начало, т. е. бог, придает земной жизни смысл и ценность. Книга Р. «Очерк истории рус. философии» (2 изд., П., 1920) искажала подлинную историю рус. филос. мысли, представляя наиболее оригинальными и самобытными рус. философами славянофилов и продолжателей их теоретич. традиций (В. Соловьева, С. и Е. Трубецких, Эрна и др.).
С о ч.: Отношения Вольтера к Руссо, «Вопр. философии я, психологии», 1890, кн. 2, 4; Об этич. отрывках Демокрита, там же, 1892, кн. 12; Очерки из истории скептицизма. Иеро-ним Гирнгайм, там те, 1893, кн. 3 (18); Уч. деятельность проф.
452
РАДУ ЛЬ-ЗАТУЛОВСКИИ —РАЕВСКИЙ
 М. И. Карийского, СПБ, 1895; Очерк истории историографии философии, М., 1899; Очерк истории греч. этики до Аристотеля, в кн.; Этика Аристотеля, СПБ, 1908; Самонаблюдение в психологии, в сб.: Новые идеи в философии, сб. 9, СПБ, 1913; Филос. словарь. Логика, психология, этика, эстетика и история философии, 2 изд., М., 1913; Владимир Соловьев. Жизнь и учение, СПБ, 1913; Этика, П., 1921; Лавров в рус. философии, в сб.: П. Л. Лавров, П., 1922.
М. И. Карийского, СПБ, 1895; Очерк истории историографии философии, М., 1899; Очерк истории греч. этики до Аристотеля, в кн.; Этика Аристотеля, СПБ, 1908; Самонаблюдение в психологии, в сб.: Новые идеи в философии, сб. 9, СПБ, 1913; Филос. словарь. Логика, психология, этика, эстетика и история философии, 2 изд., М., 1913; Владимир Соловьев. Жизнь и учение, СПБ, 1913; Этика, П., 1921; Лавров в рус. философии, в сб.: П. Л. Лавров, П., 1922.
Лит.: К о л о с к о в В. Н., Из истории идеологич. борьбы первых лет Сов. власти, «ВФ», 19_64, № 11. А. Поляков. Москва.
РАДУЛЬ ЗАТУЛОВСКИИ, Яков Борисович [р. 8(21) «ент. 1903] — советский ученый, историк философии Востока, в частности японской; д-р историч. наук, проф. (с 1947); ст. науч. сотрудник Ин-та философии АН СССР. Чл. КПСС с 1927. Положил начало систе-матич. марксистскому исследованию япон. материа-листич. мысли. Р.-З. принадлежат многочисл. работы ло япон. и кит. философии.
Соч.: Материалистич. философия Ито Дзинсай (1627— 1705),«Сов. востоковедение», 1941, [т.] 2; Чарвака — Настика— Локаята — Брихаспатья — Свабхавада, «Раб. хроника Ин-та востоковедения», 1944, № 2; Материалистич. философия Накаэ Тёмин, «Сов. востоковедение», 1945, [т.] 6; Конфуцианство и его распространение в Японии, М.—Л., 1947; «Японизм»— философия япон. империализма, «Филос. записки», 1948, т. 2; Дай-Чжэнь — выдающийся кит. просветитель, «ВФ», 1954, № 4; Великий кит. атеист Фань Чшэнь, «Ежегодник музея истории религии и атеизма», 1957, [т.] 1; Филос. и социологич. мысль в Японии в период домонополистич. капитализма и начала его перерастания в империалистич. стадию, в кн.: История философии, т. 4, М., 1959, гл. 10; Андо Сёэки — философ-материалист XVIII в., М., 1961 и др.
РАДХАКРЙШНАН, Сарвапалли (р. 5 сент. 1888) — глава академич. философии и гос. деятель Индии; проф. и почетный доктор наук ряда инд. и зарубежных ун-тов (в т. ч. Московского). В 1949—52 — посол Индии в СССР; в 1952—62 — вице-президент, а с 1962 — президент Республики Индии.
Исходные позиции философии Р.— объективно-идеалистич. система веданты в интерпретации Шан-кары. Р. утверждает принципиальную невозможность рацион, объяснения ряда проблем без признания абс. духа, представляющего всю тотальность бытия. Стараясь избежать пантеизма, Р. постулирует неогранич. число возможностей абсолюта. Реализация данной возможности — возникновение нашего мира — является выражением свободы абсолюта, деятельность к-рого подобна игре (лила), творчеству художника (см. «The spirit in man», L., 1952, p. 501 — 02). В соответствии с принципами веданты Р. утверждает возможность обнаружения абс. духа, т. е. бога, только интуитивным путем. «Великие истины философии не доказываются, а переживаются» («An idealist view of life», L., 1932, p. 152). Неопровержимым доказательством существования бога выступает для Р. практика религ. мистицизма.
В центре внимания Р.— социально-этич. проблематика. Он выражает неудовлетворенность совр. действительностью — положением человека в обществе, неустроенностью жизни, падением нравов, отсутствием идеалов и т. д. Непосредств. причину всех бед и пороков человека Р. видит в пороках социального устройства. Он обвиняет цивилизацию Запада с присущим ей культом наживы, социальным и нац. неравенством, милитаризмом, военной истерией и т. п. в том, что она калечит дух человека, убивает его лучшие побуждения, лишает его веры в братство и дружбу между людьми (см. «Religion and society»,L. ,1947, p.16). Причем к западной цивилизации Р. относит и социализм, объединяя последний с капитализмом на основе материалистич. природы их идеалов. Относительно социалистич. системы Р. разделяет распространенные на Западе убеждения в недемократичности, тоталитаризме и насилии социализма. Истинное решение всех проблем индивидуальной и обществ, жизни Р. находит только на религиозно-идеалистич. пути. «Для тех, кто потерял опору, для всего нашего века, находящегося в великом брожении, спиритуальный подход является единственной надеждой... Только
когда жизнь духа озарит и преобразует изнутри жизнь человека, сможет он обновить лик земли. Сегодняшнему миру нужна религия духа, которая даст цель всей жизни...» («The spirit in man», p. 478, 483). Но чтобы религия смогла выполнить свою миссию по спасению и возрождению мира, нужно, считает Р., очистить ее от догматич. и обрядовых пут и восстановить ее истинное содержание, к-рое сводится к одному основополагающему принципу — признанию духовной субстанциальности бытия. «Сегодня мы озабочены не столько непогрешимостью папы или достоверностью Библии, и даже не тем, является ли богом Христос или Кришна и существует ли откровение. Все эти вопросы утратили свое значение и подчинились одному единственному вопросу — имеется ли за феноменом природы и драмой истории невидимая духовная сила, есть ли в универсуме смысл или он бессмысленен, является ли он богом или случайностью» (там же, р. 483). Особое значение в обновлении духа приобретает, по мнению Р., опыт народов Востока и прежде всего Индии; «западная материальность» должна быть одушевлена «восточной спириту-альностью», так же как, впрочем, Восток, в свою очередь, должен быть приобщен к технико-экономич. достижениям Запада. Этот синтез, согласно Р., послужит спасению человечества от угрозы новой мировой войны. Р. выступает как активный борец за дело мира и мирного сосуществования.
Соч.: The Hindu view of life, Oxf., 1926; An idealist view of life, L., 1932; Religion and society, L., 1947; An anthology, ed. A. H. Marlow, L., [1952]; Occasional speeches and writings, ser. 1—3, [Delhi], 1957—63; в рус. пер.— Индийская философия, т. 1 — 2, М., 1956—57.
Лит .: J о a d С. Е. М., Counter attack from the East. The
philosophy of Radhakrishnan, L., [1933]; The philosophy of
S. Radhakrishnan, ed. P. A. Schilpp, N. Y., [1952] (имеется
библ.); Аникеев Н. П., Филос. и социологич. взгляды
С. Р., в кн.: Совр. филос. и социологич. мысль стран Востока,
М., 1965, с. 5 — 33. Н. Аникеев. Москва.
|
|
РАЕВСКИЙ, Владимир Федосеевич [28 марта (8 аир.) 1795—8(20)июля 1872] — рус. поэт, декабрист. Окончил Моск. университетский благородный пансион (1811) и воен. школу; офицер артиллерии, участник Отечеств, войны 1812. Был арестован (1822) в Кишиневе за поли-тич. пропаганду в Южной армии, особенно среди солдат, содержался в заключении вплоть до процесса декабристов, в связи с к-рым был сослан в Сибирь, где и умер.
Широко образованный человек, сформировавшийся гл. обр. под влиянием просветительской идеологии 18—нач. 19 вв., Р. был материалистом и религ. вольнодумцем. Иронизируя по поводу философии Фихте, Шеллинга и его рус. последователя Велланского (см. Соч., 1961, вступ. ст. П. С. Бейсова, с. 194—95), он отвергал их системы (см. там же, с. 85). Исходя из деистич. предпосылки, что бог «утвердил» «порядок общий» (см. Стихотворения, вступ. ст. В. Г. Базанова, 1952, с. 68), Р. по существу отрицал бытие «...высшего существа». Религия как «признание и поклонение высшему существу...» есть всего-навсего некая форма признания детерминированности явлений: «бытие создателя основано на логической истине, что нет действия без причины, когда есть мир, то должен быть и создатель мира» (цит. по кн.: Базанов В. Г., В. Ф. Раевский, 1949, с. 103). Религ. вольнодумство Р. проявляется и в понимании им роли религии в жизни народов. Религия, по его мнению,— орудие в руках угнетателей, стремящихся с ее помощью смирить народ
РАЗВИТИЕ
453
 (см. Соч., с. 96 — 97). Противопоставляя свой взгляд религ.-идеалистическому, Р. считал человека произведением природы и по природе — «членом общества», животным, «.. .имеющим ум, дар слова и душу, которые влекли его к совершенствованию языка» (цит. по кн.: Б а з а н о в В. Г., В. Ф. Раевский, с. 103). «Душу» Р. понимал как нечто естественное и отрицал (хотя н не без колебаний) ее бессмертие: жизнь на земле и распадение после смерти — вот удел всего живущего на земле, «вот связь всех сущих здесь и общий ей (природе.— Ред.) закон». Тех же, кто, «оградясь обрядами... и верой», ждет бессмертия, Р. называл «безумцами» (см. Соч., с. 86). Утверждая закономерный характер сущего, Р. воспевал мощь человека, его способность проникнуть в тайны бытия и даже в самое «сокровенье» (см. там же, с. 70—71). Эти положения Р. использовал для обоснования политич. программы — равенство людей, республиканизм, противоестественность крепостничества (к-рое он резко осуждал в «Рассуждении о рабстве крестьян», см. Соч., с. 123—27) и монархизма, правомерность насильств. устранения деспотизма. «Граждане! — восклицал Р., осуждая тиранию „дворянства русского",— тут не слабые меры нужны, но решительность и внезапный удар» (там же, с. 124).
(см. Соч., с. 96 — 97). Противопоставляя свой взгляд религ.-идеалистическому, Р. считал человека произведением природы и по природе — «членом общества», животным, «.. .имеющим ум, дар слова и душу, которые влекли его к совершенствованию языка» (цит. по кн.: Б а з а н о в В. Г., В. Ф. Раевский, с. 103). «Душу» Р. понимал как нечто естественное и отрицал (хотя н не без колебаний) ее бессмертие: жизнь на земле и распадение после смерти — вот удел всего живущего на земле, «вот связь всех сущих здесь и общий ей (природе.— Ред.) закон». Тех же, кто, «оградясь обрядами... и верой», ждет бессмертия, Р. называл «безумцами» (см. Соч., с. 86). Утверждая закономерный характер сущего, Р. воспевал мощь человека, его способность проникнуть в тайны бытия и даже в самое «сокровенье» (см. там же, с. 70—71). Эти положения Р. использовал для обоснования политич. программы — равенство людей, республиканизм, противоестественность крепостничества (к-рое он резко осуждал в «Рассуждении о рабстве крестьян», см. Соч., с. 123—27) и монархизма, правомерность насильств. устранения деспотизма. «Граждане! — восклицал Р., осуждая тиранию „дворянства русского",— тут не слабые меры нужны, но решительность и внезапный удар» (там же, с. 124).
В поэзии Р. примыкал к традиции «гражданственной» поэтики Гнедича, Катенина, Грибоедова (см. об этом в публикации 10. Оксмана Вечер в Кишиневе, в кн.: Лит. наследство, т. 16—18, М., 1934, с. 657— 666), был типичным представителем декабризма нач. 20-х гг. В ссылке Р., не прекращая литературной деятельности, остался верен декабристским традициям. Он не пожелал воспользоваться правом возвращения в Европейскую часть России, полученным по амнистии 1856.
Соч.: Поэзия декабристов, Л., 1950, с. 443—500; Избр. соц.-политич. и филос. произв. декабристов, т. 2, М.—Л., 1951, с. 337—95 (в 1 т. имеется вводная ст. И. Я. Щипанова); Воспоминания, вступ. ст. М. К. Азадовского, в кн.: Лит. наследство, т. 60, кн. 1, М., 1956; Неизвестные письма, вступ. ст. Ю. Г. Оксмана, там же.
Лит.: Щеголе» П. Е., В. Раевский (Первый декаб
рист), в его сб.: Историч. этюды, СПБ, 1913; О к см а н Ю. Г.,
Из писем и записок В.Ф.Р. ГВводная ст. к публикации «Письма
В. Ф. Р.»], «Красный Архив», 1925, т. 6(13); Б е й с о в П. С,
Новое о Р., в сб.: Уч. зап. [Ульян, гос. пед. ин-та]. Пушкин
ский юбилейный сборник, Ульяновск, 1949; е г о ж е, О
«Курсе поэзии» В. Р., «ВФ», 1950, № 3; е г о же, Обществ.-
политич. взгляды В. Ф. Р., «Уч. зап. [Ульян, гос. пед. ин-та]»,
1953, вып.5; О к с м а н Ю. Г., Ранние стихотворения В. Ф. Р.
(1816—1822), в кн.: Лит. наследство, т. 60, кн. 1, М., 1956,
с. 517 — 30; ЦявловскийМ. А., Стихотворения, обращен
ные к декабристу В. Ф. Р., в его сб.: Статьи о Пушкине, М.,
1962. 3. Каменский. Москва.
РАЗВИТИЕ — высший тип движения, изменения материи и сознания; переход от одного качеств, состояния к другому, от старого к новому. Р. характеризуется специфич. объектом, структурой (механизмом), источником, формами и направленностью. В зависимости от качеств, специфики природы и строения форм существования материи различают: Р. неоргаиич. материи (или еще уже — макрокосмоса, физич. и химич. форм существования материи), Р. ор-ганич. материи (ее биологич. форм), Р. общества (социальных форм существования материи), Р. сознания (различных его форм). Вместе с тем, будучи строго определ. типом зависимости в объекте, Р. любых форм характеризуется рядом существ, общих моментов и признаков, касающихся, в первую очередь, специфики самих развивающихся объектов. Процесс изменения захватывает любые объекты, любые их стороны — их внутр. составляющие и внешние, непосредственно воспринимаемые формы, их существ, связи и внешние зависимости и т. п. Р.— не просто изменение, не всякое изменение объекта, но изменение, связанное с преобразованиями во внутр. строении объекта, в его структуре, представляющей собой сово-
купность функционально связанных между собой элементов, связей и зависимостей. Поэтому в материальном и духовном мире, где все без исключения предметы и явления пребывают в состоянии постоянного движения, изменения, о Р. можно говорить лишь применительно к объектам с простым или сложным системным строением (см. Система).
Будучи характеристикой объектов с более или менее сложным строением, процесс Р. сам отличается определ. структурой (механизмом). Рассматриваемый с этой т. зр. он представляет собой прежде всего совокупность ряда составляющих системы, участвующих в процессе. Одни из этих составляющих играют роль образующих процесса, другие — его условий. Образующие процесса, отвечающие на вопрос «что развивается?», представляют собой исходный пункт процесса; образующие, отвечающие на вопрос «во что развивается?»,— результат процесса. И те и другие являются центральными, ведущими составляющими процесса Р. Если механизм Р. уподобить совокупности разновеликих и разнонаправленных сил, то «отрезок прямой», связывающий исходный пункт и результат процесса, будет как раз итогом, суммой всех этих сил, кратчайшим расстоянием, наиболее лаконично выражающим суть происходящих в процессе Р. преобразований в объекте, и одновременно «вектором», указывающим направление этих преобразований. Условия процесса — это те его составляющие, к-рые обеспечивают превращение исходного пункта в результат. Они отличаются от т. н. конкретно-историч. условий протекания Р.; последние связаны или с внешними признаками развивающегося объекта, или с факторами, лежащими за его пределами, относящимися к его взаимодействию с «соседними» системами, и определяют конкретную форму протекания процесса.
Р. представляет собой не всякое изменение в структуре объекта, но только т. н. качественное изменение. «... Развитие заведомо не есть простой, всеобщий и вечный рост, увеличение (respective уменьшение) etc.» (Л е н и н В. И., Соч., т. 38, с. 251). Структура объекта характеризуется тремя моментами: количеством составляющих (в этом смысле различают структуры двучленные, трехчленные, вообще га-членные), порядком их расположения (напр., структуры линейные и кольцевые) и характером зависимости между ними (напр., структуры обратимые, где все элементы «равноправны», и необратимые, где между элементами существуют отношения «господства» и «подчинения»). Качеств, характер изменений в процессе Р. находит свое выражение в том, что-Р. есть переход от структуры одного качества (характеризующейся одним количеством, порядком и характером зависимости составляющих) к структуре др. качества (характеризующейся иным количеством или порядком, или характером зависимости составляющих). Следовательно, процесс Р. не совпадает только с изменениями в числе структурных составляющих объекта (простой рост или уменьшение их числа) и потому не может быть изображен как движение от структуры с п элементами к структуре с ге+1 или с п—1 элементом. В процессе Р. элементы структуры могут не только возникать, но и исчезать, так что в определ. границах общее число их может оставаться постоянным. Кроме того, качеств, изменение структуры, появление в ней новых составляющих может иметь место и без видимого увеличения числа элементов, за счет перераспределения старых элементов, изменения характера отношений между ними и т. д. Главное же, в силу системного характера развивающегося объекта,— возникновение (исчезновение) в его структуре к.-л. составляющего никогда не равно только количеств, .росту (уменьшению), не означает
454 РАЗВИТИЕ — РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
 простого прибавления (вычитания) «одного», но ведет к возникновению множества новых связей и отношений, к преобразованию старых связей и т. п., т. е. сопровождается более или менее серьезным субстанциональным или функц. преобразованием всей массы составляющих внутри системы в целом. Структура объекта в исходном пункте Р. и структура объекта в результате Р. суть определ. состояния развивающегося объекта, ограниченные во времени, т. е. исто-рич. состояния. Т. о., процесс Р., взятый с т. зр. его механизма в целом, есть ряд историч. состояний объекта в их связях, переходах от одного к другому, от предшествующего к последующему.
простого прибавления (вычитания) «одного», но ведет к возникновению множества новых связей и отношений, к преобразованию старых связей и т. п., т. е. сопровождается более или менее серьезным субстанциональным или функц. преобразованием всей массы составляющих внутри системы в целом. Структура объекта в исходном пункте Р. и структура объекта в результате Р. суть определ. состояния развивающегося объекта, ограниченные во времени, т. е. исто-рич. состояния. Т. о., процесс Р., взятый с т. зр. его механизма в целом, есть ряд историч. состояний объекта в их связях, переходах от одного к другому, от предшествующего к последующему.
Важнейшей характеристикой Р. является время. Р. протекает во времени. Вместе с тем понятие «ход времени» не тождественно понятию «процесс Р.». Об этом говорит как то, что в определенных границах течение времени не сопровождается качеств, изменениями в объекте, так и то, что в одни и те же промежутки времени различные объекты способны проходить в своем Р. различные «расстояния» и наоборот: для прохождения аналогичных «расстояний» различным объектам требуется различное время. Иными словами, Р. того или иного объекта является функцией не объективного хода времени как такового, но жизнедеятельности самого объекта. В отличие от явлений движения, изменения, к-рые могут вызываться действием и внешних по отношению к движущемуся объекту сил, Р. представляет собой самодвижение объекта— имманентный процесс, источник к-рого заключен в самом развивающемся объекте. Процесс такого рода описан, напр., Марксом применительно к Р. денег из товара (см. «Капитал», т. 1, 1955, с. 94). Р. возникает в результате противоречий, борьбы нового и старого, борьбы «противоречивых, взаимоисключающих, противоположных тенденций», свойственных объектам «природы (и духа и общества в т о м ч и с л е)», их преодоления, превращения в новые противоречия. «Развитие есть „борьба" противоположностей» (Л е н и н В. И., Соч., т. 38, с. 358).
Процесс Р. характеризуется большим разнообразием конкретных видов и форм. Это обусловлено как общей природой развивающихся объектов (неорганической, биологической, социальной и т. п.), так и большей или меньшей сложностью их строения. В частности, Р. может приобретать форму превращения одного объекта в другой (напр., «средство труда из орудия превращается в машину...» — см. К. Маркс, Капитал, т. 1, с. 377), дифференциации объекта (ср. процесс дивергенции в биологии), подчинения одной системы другой и их преобразования (ср. процесс ассимиляции в социологии культуры) и т. д. и т. п. Различают две формы Р.: эволюционную и революционную (см. Эволюция и Революция). Первая форма Р.— это медленные, постепенные, нередко скрытые от глаз изменения в структуре объекта, их называют количеств, изменениями. Вторая форма Р.— это внезапные, резкие, скачкообразные, т. н. качеств, изменения в структуре объекта, связанные с коренными преобразованиями во всем его строении. Между этими двумя формами Р. существует сложная диалектич. связь. Эволюция подготавливает революцию, ведет к ней и завершается ею. В свою очередь новое качество, приобретаемое объектом, снова ведет к этапу медленных количеств, накоплений. Т. о., каждый процесс представляет собой диалектич. единство прерывного и непрерывного, переход количественных изменений в качественные и наоборот.
Р. далее характеризуется определ. направленностью. Переход от одного состояния объекта к другому не есть бесконечное повторение пройденного, не есть движение по кругу, хотя исторически позднейшие этапы и включают в себя немало моментов, присущих
предшествующим этапам. Р. совпадает с поступат. движением к более развитому и совершенному или с движением в противоположном направлении. В этом смысле говорят о прогрессивном и регрессивном направлениях в Р. объекта, о восходящей и нисходящей линиях его Р. (см. Прогресс, Регресс). Р. материи и сознания, взятое в целом, отличается безусловной прогрессивной направленностью, оно есть бесконечное движение по восходящей спирали, движение противоречивое, включающее в себя отступления, возвращения назад, но в целом идущее от форм простых к формам сложным, от систем низших, примитивных, к системам высшим, высокоорганизованным.
Идея Р. находит свое выражение в принципе историзма и является одной из самых ведущих во всей истории философии, естествознания и обществоведения. В своем первоначальном наивном виде она была сформулирована уже в античной философии Гераклитом: «...все существует и в то же время не существует, так как все течет, все постоянно изменяется, все находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1966, с. 16). Огромный вклад в анализ категории Р. внесли Аристотель, Декарт, Спиноза, Кант, Ломоносов, Руссо, Дидро, Фихте, Гегель, Герцен, Сен-Симон, К. Ф. Вольф, Лаплас, Коперник, Лайель, Майер. Дарвин, Менделеев, Тимирязев, Вейсман и мн. др. философы, естествоиспытатели и социологи прошлого. В истории мышления, как и в совр. науке, существует два принципиально отличных друг от друга взгляда на Р.— метафизический и диалектический (см. В. И. Ленин, Соч., т. 38, с. 358).
Своего наивысшего выражения диалектич. подход к Р. достигает в системе диалектич. материализма, где идея Р., составляя основной методологич. принцип, впервые получает свое всестороннее обоснование, а само Р. впервые анализируется как естеств. процесс, идущий на основе объективных закономерностей (см. там же, т. 21, с. 38). Формулируя осн. законы диалектики, являющиеся законами Р., диалектич. материализм одновременно дает и метод науч. анализа процессов Р., их воспроизведения в мышлении.
Лит.: К у ш н е р П. И., Очерк Р. обществ, форм, 7 изд.,
М., 1929; А с м у с В. Ф., Очерки истории диалектики в новой
философии, [2 изд.], М.—Л., 1930; его же, Диалектика
Канта, 2 изд., М., 1930; его же, Маркс и бурж. историзм,
М.—Л., 1933; Кедров Б. М., О количеств, и качеств, из
менениях в природе, [М.], 1946; его же, Отрицание отри
цания, М., 1957; его ж е, О соотношении форм движения
материи в природе, М., 1958; Проблемы Р. в природе и обществе.
[Сб. ст.], М.—Л., 1958; Рубинштейне. Л., О мышлении
и путях его исследования, М., 1958; Л ем Г., О переходе от
старого качества к новому в обществ. Р., М., 1958; ШаффА.,
Объективный характер законов истории, пер. с польск., М.,
1959; Мелюхин С. Т., О диалектике Р. неорганич. при
роды, М., 1960; Грушин Б. А., Очерни логики историч.
исследования, М., 1961; Богомолов А. С, Идея Р. в
бурж. философии 19—20 вв., М., 1962. См. также лит. при
ст. Диалектика, Единство и борьба противоположностей,
Переход количественных изменений в качественные, Отрица
ния отрицания закон, Прогресс. Б. Трушин. Москва.
РАЗДВОЕНИЕ ЕДИНОГО — процесс образования внутр. противоречия в объекте или выявления этого противоречия в познании объекта.
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. Термин «Р. т.» применяется в социологии, философии, экономич. науках- в неодинаковом значении. Обществ., профессиональное Р. т., или разделение занятий, обозначает дифференциацию в обществе как целом различных социальных функций, выполняемых определ. группами людей, и выделение в связи с этим различных сфер общества (пром-сть, с. х-во, управление, наука, обслуживание, армия и т. д.). Проявлением Р. т. является обмен деятельностью в ее качественно различных исторически обусловленных формах. Т е х-н и ч. Р. т. означает расчленение труда на ряд частичных функций, операций, выполняемых различ-
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА 455
 ными людьми в пределах мастерской (мануфактуры), ф-ки, к.-л. орг-ции. Между проф., обществ. Р. т. и технич. Р. т. существует взаимосвязь, хотя они и различны по происхождению и характеру (см. К. Маркс, в кн.:МарксК.иЭнгельс Ф.,Соч.,2 изд.т.23, с. 371 —72).
ными людьми в пределах мастерской (мануфактуры), ф-ки, к.-л. орг-ции. Между проф., обществ. Р. т. и технич. Р. т. существует взаимосвязь, хотя они и различны по происхождению и характеру (см. К. Маркс, в кн.:МарксК.иЭнгельс Ф.,Соч.,2 изд.т.23, с. 371 —72).
Маркс характеризовал также разделение обществ, произ-ва на его крупные роды (земледелие, пром-сть, транспорт и т. д.) как общее Р. т., распадение этих произ-в на виды и подвиды — как частное Р. т., разделение труда внутри мастерской как единичное Р. т. (см. там же, с. 363). Термин «Р. т.» употребляют для обозначения специализации произ-ва в пределах страны и между различными странами — территориальное и междунар. Р. т. Социология исследует причины и последствия Р. т. в обществе в целом, а также в отдельных его сферах.
История взглядов на Р. т. Аятич. мысль (Исократ, Платон, Ксенофонти др.) высоко оценивает Р. т. с т. зр. его преимуществ для общества в целом, ибо вследствие Р. т. товары изготовляются лучше, а люди получают возможность избрать сферу деятельности по своим склонностям (см. там же, с. 378). Платон видел в Р. т. основу распадения общества на сословия, осн. принцип иерархич. строения гос-ва. В различных религ. системах Р. т. рассматривалось как священное установление.
Острые противоречия развития Р. т. в условиях капитализма находят отражение в бурж. идеологии. Критика цивилизации у Руссо была одним из выражений его протеста против превращения человека в одностороннее существо. Р. т. изучают экономисты У. Петти, А. Фергюсон, к-рый отмечает его уродующее влияние на человека. А. Смит (ему принадлежит сам термин «Р. т.») начинает кн. «Исследование о природе и причинах богатства народов» апофеозом Р. т., приводящему к «величайшему прогрессу» в развитии производит, силы труда и «искусству, умению и сообразительности» работника. Однако он признает, что Р. т. превращает работника в огранич. существо. Причину Р. т. Смит видел во врожденной склонности человека к торговле, к обмену. Яркое выражение противоречия бурж. Р. т. получили у Шиллера, взгляды к-рого соединяют протест против феод.-сословных рамок, препятствующих развитию личности, и критику утверждавшегося капиталистич. Р. т. При этом образцом и. меркой, прикладываемой к современности, у Шиллера выступает «цельный и гармоничный человек» антич. Греции (см. «Письма об эсте-тич. воспитании человека», в кн.: Собр. соч., т. 6, М., 1957, с. 264—65). Шиллер положил начало романтич. критике капиталистич. Р. т. Он исходил из противопоставления отд. абстрактной личности столь же абстрактному обществу, целому. Подлинное значение его критики состояло в выражении трагич. мироощущения мыслителей переходной эпохи, понимавших неизбежность наступавшей ступени развития общества (см. там же, с. 268—69), зафиксировавших противоречия Р. т., но не видевших реальных путей их разрешения. Характеристика подобных взглядов содержится в «Немецкой идеологии» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 3, с. 69).
Социалисты-утописты не отрицали необходимости и пользы Р. т. и вместе с тем искали способа ликвидации его вредных влияний на развитие личности. Сен-Симон отмечал, что развитие Р. т. в духовной и материальной области ставит задачу организации хорошо координированной системы, к-рая требует «...тесной связи частей и зависимости их от целого» (Избр. соч., т. 2, М., 1958, с. 16—17). Поскольку каждая отрасль труда, науки, политика, управление требуют спец. способностей и знаний, необходима обществ, иерархия, основанная на иерархии способностей. Фурье также утверждал, что Р. т. должно
быть доведено до макс, размеров, чтобы для каждого члена ассоциации нашлись занятия по его склонностям и способностям. Для сохранения интереса к ТРУДУ он предложил идею перемены труда (см. Коммунистический труд, Утопический социализм). В ряду утопич. взглядов на Р. т. стоит и система Прудопа, подвергнутая резкой критике Марксом за абстрактность понимания Р. т., вне связи с его историч. развитием (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 4, с. 147—60; т. 27, с. 404—06).
С сер. 19 в. для бурж. идеологии характерно преобладание апологии Р. т., в к-ром видят основу обществ, связи, развития разнообразных способностей людей, а к отрицат. последствиям Р. т. подходят как к необходимым издержкам прогресса. Конт рассматривал Р. т. как основу обществ, структуры, различия социальных функций классов и связывал с ним успехи каждой отрасли науки. Он констатировал невозможность универсальности, а избавление от опасностей неизбежной специализации видел в создании спец. науки, изучающей общие науч. положения и устанавливающей их связь с отд. областями знания. В обществе в целом регулирующую роль должно играть пр-во. Спенсер считал Р. т. гл. фактором развития общества, обусловливающим усложнение его структуры и обособление социальных функций, а само Р. т. в обществе относил к действию всеобщего закона дифференциации материи от простого к сложному. Дюркгейм(«0 разделении обществ, труда», 1893; рус. пер., О., 1900) подверг критике психологич. теории Р. т., выводящие его из природы человека; рассматривал как иллюзию и высмеял идею цельности личности до возникновения Р. т., претензии на универсальность, возможную лишь как поверхностный дилетантизм. Р. т., по Дюркгейму,— «закон природы», а разделение обществ, труда — его частная форма. Развивающееся Р. т. создает систему взаимосвязанных социальных функций и порождает органич. солидарность взамен механич. солидарности архаич. общества. Благодаря Р. т. индивид обретает сферу социальной деятельности, т. е. становится личностью. Функция Р. т., таким образом, состоит в том, что оно заменяет коллективное сознание в его роли источника обществ, солидарности и основания морального порядка. Общей причиной Р. т. Дюркгейм считал величину и плотность населения, рост к-рых порождает борьбу за существование. Возникновение новой социальной функции умеряет эту борьбу и разрешает противоречия между новыми условиями жизни и старыми формами организации общества. Дюркгейм рассматривает и проблему низведения личности до уровня машины, к-рое, по его мнению, является результатом не Р. т., самого по себе, а искажающих его извне влияний. К болезненным явлениям он относил существующее неравенство условий для отд. личностей, принадлежащих к различным классам. Классы и касты, будучи порождением Р. т., закрепляют за принадлежащими к ним членами определ. социальные функции и в дальнейшем оказываются несоответствующими естеств. распределению талантов. Для закрепления существующей структуры высшие классы прибегают к принудит. Р. т. Фиксируя, т. о., антагонизмы бурж. общества, Дюркгейм предлагал наивно-утопич. рецепт создания полной обществ, гармонии и солидарности.
Наряду с позитивистскими концепциями во 2-й пол. 19—нач. 20 вв. в бурж. идеологии продолжается резкая критика развивающейся специализации. Бурж. философы констатируют неустранимую трагедию специализации, утверждая, что она является необходимой сущностью культуры (Г. Зиммель, Понятие и трагедия культуры, «Логос», 1911—12, кн. 2, 3), возникает реакц. романтич. критика и отрицание бурж. культуры
456 РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
 (Ницше, О пользе и вреде истории для жизни, Поли, еобр. соч., т. 2, М., 1909, с. 85—178; О. Шпенглер, Закат Европы, т. 1, М., 1923), выход из противоречий специализации видят в обращении к религии как единств, способу сохранения целостного переживания мира (Бердяев, Степун).
(Ницше, О пользе и вреде истории для жизни, Поли, еобр. соч., т. 2, М., 1909, с. 85—178; О. Шпенглер, Закат Европы, т. 1, М., 1923), выход из противоречий специализации видят в обращении к религии как единств, способу сохранения целостного переживания мира (Бердяев, Степун).
В совр. бурж. социологии изучаются различные аспекты Р. т.: в пром-сти, бюрократич. орг-циях, науке, влияние Р. т. на социальную стратификацию и социальную мобильность общества и т. д. Осн. целью бурж. социологов являются поиски наиболее рациональной организации труда и повышения эффективности управления, достижения и сохранения стабильности отд. орг-ций и всего общества. Существует антинауч. тенденция трактовать Р. т. как независимое от социальной системы и связанное с развитием совр. индустриального общества, в к-ром проф. Р. т. сменяет классовое разделение занятий, свойственное раннему капитализму (У. Ростоу, Р. Арон, Ж. Фридман). В ряде теорий утверждается, что растущее Р. т. и специализация демонстрируют мощь совр. капиталистич. пром. и науч. системы, к-рая в ходе своего естеств. развития создает потребность в творческих и образованных людях во всех сферах деятельности, порождая вместе с тем проблему обобщения и объединения знаний (см., напр., L. Silk, The research revolution, N. Y. [a. o.] 1960). Вместе с тем ряд либеральных бурж. социологов отмечает от-рицат. влияние Р. т., превращающее человека бурж. общества в функциональный элемент совр. организованного общества, объект манипуляции п принуждения крупных бюрократич. орг-ций и гос-ва, безличный экземпляр массового общества (Рисмен, Фромм, Миллс, Уайт) (см. Отчуждение). Либеральным и мелкобурж. критикам совр. капитализма свойственна идеализация прошлых ступеней историч. развития.
Историч. материализм о Р. т. В работах Маркса и Энгельса можно выделить два существ, значения понимания Р. т.: во-первых, Р. т. как определение опосредованного обществ, характера труда в условиях существования частной собственности и обмена (см. Соч., 2 изд., т. 3, с. 31). Труд в условиях антагонистич. общества характеризуется как противоположный самодеятельности, а Р. т. как один из источников и выражение отчуждения. Революц. ликвидация капитализма, писал Маркс, приведет к утверждению нового строя, где общественный характер произ-ва выступит уже непосредственно. «Вместо разделения труда, которое неизбежно порождается в обмене меновыми стоимостями, здесь имела бы место организация труда...» (Архив Маркса и Энгельса,т. 4, 1953, с. 117, см. также «Капитал», т. 1, 1955, с. 358—67). Во втором значении Маркс характеризует Р. т. как «разделение занятий» во всем обществе, «сосуществующий труд» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч.,2изд., т.26,ч.З, с. 278—83). Детально проф. и технич. Р.т. в материальном произ-ве исследуется в «Капитале». Основоположники марксизма проанализировали историч. развитие и современные им формы Р. т.и установили, что в каждую историч. эпоху оно приобретает качественно иной характер, определяемый господствующими производств, отношениями. Развитие Р. т. связано с ростом и изменением производит, сил, ростом населения, с возникновением в обществе новых потребностей и общих функций, вызывающих усложнение его структуры. Р. т. является необходимым процессом, создающим связи и зависимость людей и порождающим обмен деятельностью между ними. Первоначально Р. т. складывается как естественно выросший механизм и связано как с естеств. различием людей (половое и возрастное Р. т.), так и с различием природных предпосылок жизни различных общин. На определ.
историч. этапе Р. т. в совокупности с действием др. факторов (имуществ. дифференциации, роста производительности труда, наследственностью функций) приводит к возникновению социальных групп и антагонистич. классов, закрепляющих за собой различные сферы деятельности. В результате роста производит, сил в условиях складывающегося классового деления общества происходит три крупных обществ. Р. т.— отделение земледелия от скотоводства, ремесла от земледелия, выделение торговли в самостоят, сферу. Выражением Р. т. является также возникновение гос-ва, противоположность между городом и деревней, противоположность между умственным и физическим трудом. Историч. ступенями Р. т. были планомерное и авторитарное Р. т. в общине, кастовый строй, цеховой строй, обусловившие Р. т. в обществе, но исключавшие Р. т. в мастерской. Последнее, мануфактурное Р. т. является порождением капитала, объединяющего под своей властью рабочих одного предприятия. Р. т. в мануфактуре расчленяет трудовой процесс на отд. частичные функции, что превращает выполняющих их людей в «частичных рабочих». Мануфактурное Р. т. уничтожает застойное ремесленное Р. т. В свою очередь, оно создает предпосылки для замены мануфактуры машинным произ-вом. Машина технически опрокидывает мануфактурное Р. т., однако оно воспроизводится капиталом, превращающим рабочего в одаренный сознанием придаток частичной машины. Развитие этого, по словам Маркса, «абсолютного противоречия» приводит к тому, что становится необходимым уничтожение «старого», т. е. мануфактурного, Р. т. (см. там же, т. 23, с. 498—99). Индустрия, пишет Маркс, постоянно революционизирует Р. т. внутри общества, ее природа обусловливает движение функций и всестороннюю подвижность рабочего, несовместимые с «закостеневшей специальностью». Как настоят, обществ, потребность уже в условиях капитализма выступает задача сделать рабочего пригодным «... для изменяющихся потребностей в труде» (там же). Т. о., Маркс различал капиталистич. форму и саму природу пром. способа произ-ва, а следовательно, специфически капиталистич. Р. т. и проф. и технич. Р. т. вообще (см. там же, т. 26, ч. 3, с. 282—83).
Р. т. в условиях антагонистических формаций и особенно капитализма свойствен классовый характер, когда принадлежность к определ. классу, социальной группе предопределяет сферу труда индивида, к к-рому он, как правило, привязан пожизненно. Кроме того, в условиях капитализма Р. т. носит стихийный характер, ибо движение и развитие индивидов в пределах класса подчинено власти случая и противостоящим им в качестве самостоятельных и неконтролируемых обществ, связям (см. там же, т. 3, с. 75 — 76).
Именно анализ тенденций развития крупной промышленности позволил Марксу и Энгельсу определить контуры будущего общества, в к-ром преодолевается стихийный характер Р. т., уничтожается порабощающее человека подчинение его Р. т. (см. там же, т. 19, с. 20).
В современном развитом обществе характерной тенденцией является обособление необходимых для его функционирования и развития все новых сфер, рост числа подразделений в них и соответственно проф. Р. т. В то же время в каждой отд. сфере Р. т. имеет своеобразный и противоречивый характер.
В современном материальном произ-ве представлены различные ступени развития (ручной труд, механизация, автоматизация) и связанные с ними ступени и формы Р. т. Автоматизация ведет к преодолению раздробленного труда, вытеснению узкой профессионализации. Возникают широкие специальности
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА —РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ 457
 (наладчики, инженеры, конструкторы), органически включающие перемену деятельности. Этот слой специализированного «научно-образованного персонала», к-рый во времена Маркса был незначительным, растет, что существенно меняет структуру «совокупного рабочего».
(наладчики, инженеры, конструкторы), органически включающие перемену деятельности. Этот слой специализированного «научно-образованного персонала», к-рый во времена Маркса был незначительным, растет, что существенно меняет структуру «совокупного рабочего».
В сфере науки в результате дифференциации и интеграции происходит расширение фронта исследований и увеличение числа науч. специальностей, удваивающегося каждые 8—10 лет. Изменившаяся структура науки (большие и.-и. ин-ты, информац. центры, значит, число отраслей) породила необходимость ее организации, создания органов управления и координации, растущее технич. Р. т., при к-ром творч. и технич. функции достаются различным группам специалистов. Узкая специализация, являясь необходимой, в то же время таит опасность для дальнейшего прогресса науки, порождает разрыв гуманитарных и естеств. наук. Этому противостоят коллективные формы работы, объединяющие различных специалистов. Различные уровни организации науки требуют и соответствующей подготовки ученых (более широкого профиля, узких специалистов и т. ц.).
Изменение обществ, структуры приводит к значит. росту становящейся особой специальностью и охватывающей разные обществ, уровни сферы управления, планирования. Являясь выражением существования обществ, функций разного уровня, организация уп-равления в свою очередь связана с развитием в нем Р. т. Обособляются и растут также и др. сферы общества (образование, здравоохранение, услуги, иск-во) со своими специфич. формами Р. т. Таким образом, Р. т. может анализироваться в двух качественно различных планах. Во-первых, с т. зр. целостного подхода к обществу (различные сферы как элементы целого, их соотношение, разделение обществ, функций, обязанностей и ответственности). При этом можно выделить горизонтальное и вертикальное Р. т., связанное с положением и ролью различных социальных и проф. групп. Во-вторых, возникает необходимость исследования Р. т. в каждой отд. сфере, ее взаимоотношения с другими сферами (город и деревня, наука и образование, наука п управление и т. д.). Особенно сложные процессы Р. т. связаны с переходными эпохами обществ, развития (переход от феодализма к капитализму, от капитализма к социализму). В этих условиях исчезают или преобразуются социальные группы и классы, учреждения, связанные с пройденным уровнем развития, и возникают новые. При этом взаимодействие проф. и социальных групп зависит от характера утверждающегося общества.
Развитие указанных процессов при капитализме привело к усложнению его структуры в последней четверти 19 — 1-й пол. 20 вв., изменениям в составе классов капиталистич. общества (см: Классы, Буржуазия, Мелкая буржуазия, Рабочий класс). В условиях гос.-монополистич. капитализма бюрократизация иерархически организованного общества, повышение значения образования и квалификации, а также сосуществование сфер и отраслей, находящихся на различных ступенях развития, ведут к возникновению, в дополнение к старым, новых форм закрепления положения различных классов и социальных групп, кастовости элиты, что усиливает противоречия капиталистич. общества.
В социалистич. обществе уничтожается старое классовое разделение занятий, постепенно преодолеваются противоположность между умств. и физич. трудом, между городом и деревней. Индустриализация и кооперирование с. х-ва приводят к изменению состава и численности рабочего класса и крестьянства, росту интеллигенции. В материальном произ-ве в связи с изменением характера труда постепенно пре-
одолевается старое Р. т. Развивающееся в социалистич. обществе Р. т., особенно в связи с механизацией и автоматизацией произ-ва, развертывающейся научно-технич. революцией, бурным ростом различных сфер общества приводит к большой мобильности населения, возникновению многочисленных проф. групп. Предпринимаются сознат. усилия для преодоления еще существующего неравенства между крупными промышленными и культурными центрами и периферией, между городом и деревней, между различными социальными группами с тем, чтобы доступ к той или иной сфере деятельности определялся способностями и склонностями каждого человека. Идеал всестороннего развития личности не статичен и определяется уровнем развития общества и его потребностями. При этом развитие личности на каждой ступени обществ, развития обусловлено не только Р. т. и специализацией, но и совокупностью всех обществ, условий: социальными отношениями, производительностью обществ, труда, продолжительностью рабочего и свободного времени, уровнем культуры общества, положением различных социальных и проф. групп (см. Личность). В марксистской филос, экономич. и педагогич. лит-ре существуют различные т. зр. по проблеме Р. т., и дискуссия по этой проблеме показала необходимость дальнейшего изучения реальных процессов Р. т. в различных ее аспектах (см., напр., «ВФ», 1962, № 10; 1963, № 3, 4, 9, И, 12; 1964, № 1, 6; О. Шик, Экономика. Интересы. Политика, пер. с чеш., М., 1964, в особенности гл. 2, 3; Е. Л. Маневич, Проблемы обществ, труда в СССР, М., 1966, гл. 1, 2, 5).
Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф.,Из ранних произв.,
М., 1956, с. 610—15; их же, Соч., 2 изд., т. 3, гл. 1; т. 4,
гл. 2, § 2; т. 23, отд. 4, гл. 11 — 13; т. 18, с. 273; т. 19, с. 212,
225—26; т. 20 (см. предмет, указат.); т. 21, гл. 5—9; т. 27,
с. 404—06; т. 37, с. 416—20; Архив Маркса и Энгельса, т. IV,
М., 1935 (см. предмет, указат.); Ленин В. И., Соч., 4 изд.,
т. 1, с. 83; т. 3, с. 546; т. 31, с. 32; Асмус В. Ф., Проти
воречия специализации в бурж. сознании, «ПЗМ», 1926,
№ 9—10; Д а в ы д о в Ю. Н., Труд и свобода, М., 1962; Б а-
тищев Г. С, Противоречие как категория диалектич. ло
гики, М., 1963, гл. 2; Корниенко В. П., Обществ. Р. т.
в период перехода к коммунизму, М., 1963; Судеревски й
И., Проблемы Р. т. (Коммунистич. способ произ-ва), М., 1963;
К о н И. С, Позитивизм в социологии, Л., 1964; Наумова
Н. Ф., Бурж. социология о Р. т., «ВФ», 1965, JN1. 2; Социология
сегодня. Проблемы и перспективы. Амер. бурж. социология
сер. XX в., пер. с англ., М., 1965, гл. 2, 4; Немченко В.,
Обществ. Р. т., «Коммунист», 1966, № 16; Schmoller
G., La division de travail etudiee au point de vue historique,
«Revue d'economie politique», 1890; Tilglier A., Work,
what it has meant to men through the ages, N. Y., 1930; North
С. С. a n d H a t t P. K., Jobs and occupations. A popular
evaluation, «Public Opinion News», 1947, № 9; F r i e d m a n n
G., Ou va le travail humain?, [P., 1950]; его we, Le travail
en miettes. Specialisation et loisirs, [P., 1956]; H att P. K.,
Occupation and social stratification, «American Journal of Socio
logy», 1955, № 55; D u b i n R., The world of work, N. Y., 1958;
FriedmannG. et Naville P., Traite de sociologie
du travail, v. 1—2, P., 1961—62; Ben-David I., Profession
in the class system of present-day societies, Oxf., 1964.
См. также лит. при ст. Отчуждение. Н. Лапда. Москва.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ, д и з ъ ю н к-
тивиое суждение (от лат. disjungo — разобщаю),— сложное суждение, к-рое либо (а) образовано из двух (или большего числа) др. суждений (членов Р. с.) с помощью логич. союза «или» (или союзов «либо», «или..., или», «либо..., либо», подобных союзу «или» с логич. т. зр.), либо (б) может быть без изменения логич. смысла представлено в виде (а). В зависимости от смысла логич. союза «или» — строго-разделительного (исключающего, исключающе-раздолитель-ного), к-рому при двух членах Р. с. соответствует сильная дизъюнкция, или же нестрого-разделительного (соединительно-разделительного), которому соответствует слабая дизъюнкция,— различают: 1) строго-, чисто-Р. с. (предложения, высказывания) и 2) нестрого-разделительные (соединительно-разделительные) суждения.
458
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ — РАЗИ
 Логич. форма Р. с. (обоих видов) может быть передана записью (*) «Аг или А2, или..., или Ап» (где Л,- обозначает к.-л. суждение, г — 1, 2, ..., п; число п обычно невелико, т. к. в содержат, мышлении и ес-теств. языке неупотребительны громоздкие конструкции); в случае Р. с. вида (1) иногда применяется запись «Или Аг, или А2, или ..., или Ап» или «Либо Аи либо Аг, либо..., либо Ап».
Логич. форма Р. с. (обоих видов) может быть передана записью (*) «Аг или А2, или..., или Ап» (где Л,- обозначает к.-л. суждение, г — 1, 2, ..., п; число п обычно невелико, т. к. в содержат, мышлении и ес-теств. языке неупотребительны громоздкие конструкции); в случае Р. с. вида (1) иногда применяется запись «Или Аг, или А2, или ..., или Ап» или «Либо Аи либо Аг, либо..., либо Ап».
В Р. с. вида (1) союз «или» выражает попарную несовместимость его членов, а смысл всего суждения состоит в утверждении истинности одного и только одного из членов Р. с. В таких Р. с. логич. союз «или» можно рассматривать соответствующим операции строгой дизъюнкции лишь в случае двухчленного Р. с, т. к."формулы логики вида ф^\/ф2У... Уфт [где ф[— к.-л. формулы (высказывания) логики высказываний или предикатов, г = 1, 2, ..., та, а знак V означает строгую дизъюнкцию], в отличие от Р. с. вида (1), обладают тем свойством, что получают значение «истина» тогда и только тогда, когда нечетное число дизъюнктивных членов истинно, в силу чего, напр., формула вида фхУф2Уфя оказывается истинной, когда все три высказывания ф^фпфа истинны.
В Р. с. вида (2) союз «или» не предполагает несовместимости членов Р. с; смысл Р. с. здесь состоит в утверждении того, что по крайней мере один из членов Р. с. истинен (а может быть, и все они истинны). Союзу «или» в таких Р. с. соответствует операция (слабой) дизъюнкции, и Р. с. вида (2) выразимы формулами логики вида (* *): фхУф2У ...Уф т, где V — знак (слабой) дизъюнкции. Р. с. вида (1) выразимы теми же формулами (**), но с конъюнктивным добавлением выражения вида -\{ф1&ф2)&-1(ф1&ф3)&...&1(фт_1&фт), говорящего о попарной несовместимости членов Р. с. (здесь «&» означает конъюнкцию, a ~i — операцию отрицания).
В содержат, мышлении члены Р. с. всегда фактически связаны друг с другом по смыслу, причем эта связь часто осуществляется за счет того, что в нек-рых (или даже во всех) членах Р. с. повторяются (или подразумевается, что повторяются) определ. понятия. В таких случаях естеств. язык часто прибегает к сокращенным конструкциям, в к-рых эти повторения не получают явного выражения; объединяемые логич. союзом «или» члены Р. с. могут быть тогда выделены в результате логич. анализа соответствующего предложения. Простейшие случаи такого рода нашли отражение в традиц. логике, к-рая рассматривает Р. с. обычно в след. формах (a) « S есть или Ри или Р2, или..., или Рп» и (6) « Si или S 2 , или..., или Sm есть Р» ( S , Slt ..., S т — субъекты, Р, Ръ ..., Р„— предикаты в смысле традиц. логики); эти формы легко представимы записью вида (*), если учесть, что, напр., форма (а) по смыслу равнозначна форме «S есть Р±, или S есть Р2, или..., или S есть Рп». Иногда термин «Р. с.» применяют именно к указ. формам традиц. логики, обозначая общее понятие Р. с, как оно описано выше, термином «дизъюнкция суждений».
Родственными Р. с. и преобразуемыми в них (правда, с нек-рым изменением смысла) являются суждения, выражающие деление объема понятия; в немате-матич. формальной логике их называют разделяющими суждениям и. Напр., «Животные бывают позвоночные и (или) беспозвоночные» — разделяющее суждение, а «Данное животное или позвоночное, или беспозвоночное» — Р. с. Различию видов (1) и (2) Р. с. соответствует различие между разделяющими суждениями, выражающими деление объема понятия при исключающих и при не исключающих друг друга членах деления.
Лит.: Челпанов Г. И., Учебник логики, ГМ.]. 1946, с. 42—43; Асмус В. Ф., Логика, [М.], 1947. с. 83—87;
С трог о вич М. С, Логика, [М.], 1949, с. 167 — 69; Та-
ванец П. В., Суждение и его виды, М., 1953, с. 105 —10;
его же, Вопросы теории суждения, М., 1955, с. 113—21;
Дроздов А. В., Вопросы классификации суждений, [Л.],
1956, с. 43—60; Бирюков Б. В., Исключающее «или»
естеств. языка и строгая дизъюнкция в математич. логике (до
полнение редактора), в кн.: ГетмановаА. Д., Выражение
дедуктивных умозаключений традиционной логики в симво-
лич. логике, Мурманск, 1962. Б. Бирюков. Москва.
РАЗДЕЛЯЮЩЕЕ СУЖДЕНИЕ — см. Разделительное суждение. г
РАЗДРАЖИМОСТЬ — способность живых тел реагировать на воздействие среды посредством реакции, по своей физико-химич. природе отличной от раздражителя. Подробнее о Р. см. в ст. Жизнь, а также в статьях Диалектический материализм и Зоопсихология.
РАЗИ, а р-Р а з и, латинизир. Разес (Rhazes), Абу Бакр Мухаммед бен Закария (865—925 или 934) —ученый-энциклопедист, врач и философ Ближнего Востока, рационалист и вольнодумец. Родился в г. Рее (близ совр. Тегерана). Руководил клиникой в Рее, затем в Багдаде. Последние годы жизни Р., подобно Ибн Сине, скитался, жил при дворах мелких феод, правителей. Умер в Рее.
Р. был знаком с антич. наукой, считал себя последователем Платона. Произв. Р. были переведены на латынь уже в 10—13 вв. Особенно известны переводы медицинских сочинений: «Liber continens», «Liber (иногда Nonus) Almansoris» и «Liber regius» (см. библиографию всех известных произв. Р. и их переводов: Bibliographie de Rhazes... preparee par M. Nadjambadi, Tehran, 1960). Творчество Р., помимо его самостоят, ценности,— одно из важных звеньев, связывавших культуры Востока и Запада, античность и Ренессанс.
Р. оставил труды по философии, этике, теологии, логике, астрономии, физике, химии (алхимии) и медицине. В 11 в. Бируни составил библиографию трудов Р. (см. лит.), содержащую 184 названия (нек-рые авторы называют цифры 167 и 238). До нас дошли 61 произв. и многочисл. фрагменты, включенные в труды др. авторов.
Для стиля науч. исследования Р. характерны свобода от догматизма и преклонения перед авторитетами, борьба с предрассудками и мистич. истолкованием явлений природы, широкое использование экспериментов, стремление к практич. пользе.
Основу онтологич. взглядов Р. составляет вера в пять вечных начал: «творец», «душа», «материя», «время» и «пространство». Сотворение мира имеет у Р. форму гностич. мифа. «Душа» (слепая жизненная сила) пожелала соединиться с «материей», «пропитать мир», дабы испытывать в нем наслаждение. Однако «материя» уклоняется от воссоединения. Тогда демиург в своем милосердии творит материальный мир, чтобы «душа» наслаждалась в нем и сотворила человека. Так «душа» становится пленницей «материи». Демиург посылает к «душе» разум, чтобы поведать ей: материальный мир — не ее родина. Узнав об этом, «душа» начинает тосковать и стремится освободиться от пут «материи». Единств, путь к такому освобождению, по мнению Р.,— изучение философии. Когда все «души» освободятся, мир растворится и «материя», лишившись форм, вернется к первонач. состоянию.
В области натурфилософских воззрений Р. выступает как противник аристотеликов и мутакаллимов и опирается на Платона. Его атомизм, резко отличный от атомизма мутакаллимов, близок (единств, прецедент в ср. века) атомизму Демокрита. Р. верил в абс. пространство и абс. время и, очевидно, признавал множественность миров.
Несмотря на пессимистич. выводы, вытекающие из его космогонии, в области этики Р. восставал против чрезмерного аскетизма и рассматривал активную об-
РАЗЛИЧЕНИЕ —РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 4$«
 ществ. жизнь Сократа как достойный образец для подражания. Радость, наслаждения Р. считал не самоцелью, а лишь переходом к нормальному состоянию, из к-рого ранее нас вывела боль. Он создал специальный (дошедший до нас) трактат об образцовой жизни философа и полагал, что философ, по выражению Платона, «должен походить на творца», быть справедливым к людям и снисходительным к их ошибкам.
ществ. жизнь Сократа как достойный образец для подражания. Радость, наслаждения Р. считал не самоцелью, а лишь переходом к нормальному состоянию, из к-рого ранее нас вывела боль. Он создал специальный (дошедший до нас) трактат об образцовой жизни философа и полагал, что философ, по выражению Платона, «должен походить на творца», быть справедливым к людям и снисходительным к их ошибкам.
Веря в прогресс науки, Р. полагал, что, хотя сам он мудрее Платона и приближается по мудрости к Сократу, вслед за ним придут др. ученые, к-рые своими творениями превзойдут все достигнутое им подобно тому, как сам он превзошел достижения других. Р. считал, что не следует говорить о заблуждениях и лжи в трудах ученых-предшественников: каждый философ ошибался, делая усилия на пути к истине, и в меру этих усилий приблизился к ней.
Р. критиковал все существовавшие в его время формы религии и издевался над мутазилитами, пытавшимися ввести в теологию достижения науки и аристотелевскую силлогистику. Р. создал неск. трактатов на эту тему, в т. ч. резкий антиклерикальный трактат «Машарик аль-анбийа», популярный впоследствии у карматов. Именно этот трактат, по-видимому, лег в основу ср.-век. антиклорик. трактата «Do tribus impostoribus» («О пророках»). Р. утверждал, что все люди равны от природы и, следовательно, пророки не имеют права претендовать на духовное превосходство. «Чудеса», сотворенные пророками, суть обман либо благочестивые басни, созданные верующими. Истина едина, религий множество, следовательно — все религии ложны. Религия существует за счет традиций и привычек, основана на обмане и приносит вред, т. к. является причиной войн, ведущих к бессмысленной гибели тысяч • людей. Все «священные писания» — совершенно бесполезные книги; гораздо нужнее людям книги Платона, Аристотеля, Эвклида, Гиппократа. Полемика Р. с религией — самая острая за всю историю ср. веков. Она, очевидно, имеет источник в нек-рых манихейских ересях (см. Манихейство). Антиклерик. высказывания Р. вызвали яростные нападки на него со стороны исмаилитов, Насира Хосроеа (11 в.) и Абу Хатима ар-Рази (10 в.). Против эгалитаризма Р. выступали также аль-Фараби и, очевидно, Маймонид, к-рый возражал и против вытекающей из онтологии Р. мысли о том, что в мире больше зла, нежели добра, и что человеч. жизнь является злом и наказанием. С оч.: Epitre de Berunicontenant le repertoire des ouvrages de Muhammad b. Zakariya ar-RazI, publ. par P. Kraus, P., 1936; Abi Bakr Muhammadi fillii Zachariae Raghensis (Razis). Opera philosopluca fragmentague supersunt, collegit et edidit P. Kraus, pt. 1, Gahirae, 1939; см. также книгу: У. И. Каримов, Неизвестные соч. ар-Рази, «Книга тайны тайн». [Исследов., пер. и коммент. ], Таш., 1957; Al-Sirat al-falsafiya, by Muhammad ibn Zakariya al-Razi, ed. by P. Kraus, Tehran, 1964.
Лит .: И б и аби Усейбаа, Табакат ал-апиба, Каир, 1882; Ташкёпри-заде, Мавзуат ал-улум, Стамбул, 1895—96; Pines S., Beitrage zur islamischen Atomenlehre, В., 1936, S. 34—93; К r a u_s P., Pines S., Al-RazT, Abu Bakr Muhammad b. Zakariya, в кн.: Encyclopedic de l'lslam, Livraison 54, Leyde— P., 1936; Pines S., Razi critique de Galien, в кн.: Actes du Septieme Congres International d'histoire de Sciences, Jerusalem, 1953, p. 480—87; Nasir-e Kho-s r a w, Le livre reunissant les deux sagesses..., ed. par H. Cor-bin et M. Mo'In, P., 1953 (Etude preliminaire, p. 128—44); PinesS,, What was original in Arabic science?, в кн.: Scienti-fique change, N. Y., 1963, p. 193 — 97. А. Бертелъс. Москва.
РАЗЛИЧЕНИЕ (в т р а д и ц. логике) — прием, заменяющий определение понятий и заключающийся в указании на различие между соответств. известным понятием и другим, т. о. (т. е. посредством Р.) определяемым понятием. Р. производится с помощью диспаратных суждений (см. Диспаратный).
РАЗЛИЧИЕ — сравнительная характеристика объектов на основании того, что признаки, присутст-
вующие у одних объектов, отсутствуют у других. Р. связано с тождеством, а вместе они входят в более широкую категорию сходства. Познание связано с выявлением тождества и Р. объектов. Когда отображаемый объект жестко фиксирован в определ. границах средствами формальной логики, связь Р. и тождества имеет внешний характер: по одним признакам те же объекты тождественны, по другим — различны. В матери'алистич. диалектике в противоположность метафизич. подходу к Р. и тождеству эти категории носят конкретный и относит, характер: должны быть выделены определ. признаки, по отношению к к-рым устанавливается Р.; фиксируются объективные условия существования признаков и соответствующих свойств и отношений, а также интервал (или область), в пределах к-рого существует (имеет смысл) данное Р. или тождество; фиксирован конкретный способ (операция) установления Р. и тождества.
При познании Р. количеств, методами существ, значение приобретает степень точности измерений или вычислений, изменение к-рой может привести к переходу Р. в тождество и обратно (напр., Р. в длине двух тел). Соотносительность Р. и тождества ведет к тому, что Р. следует рассматривать в соответствии с видами и модификациями тождества (квазитождество, эквивалентность, равномощность и т. д.— в математике; тождество элементарных частиц — в физике; тождество слов в математич. логике и структурной лингвистике и т. д.). Наиболее тесная связь, внутр. взаимопроникновение Р. и тождества имеет место при отображении движения и развития объектов, когда Р. существует внутри тождества, а тождество— внутри Р. Объективной основой этого единства является единство устойчивости и изменчивости вещей. При этом устойчивость проявляется как тождество изменяющегося объекта с самим собою, а изменчивость — как нарушение этого тождества, как Р. внутри тождества.
Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20,
с. 54, 123—25, 516, 529—31, 580; Гегель Г. В., Соч.,
т. 1, М.—Л., 1929, с. 195—207, т. 5, М., 1937, с. 478—525;
Л е й б ни ц Г. В., Новые опыты о человеч. разуме, М.—
Л., 1936, с. 201 —16; Л о к к Д ж., Избр. филос. произв.,
т. 1, М., 1960; Кант И., Соч., т. 3, М., 1964, с. 316—17;
Г о б б с Т., Избр. произв., т. 1, М., 1964, с. 160—65; Мали
ков М., Основы метрологии, ч. 1, Учение об измерении,М.,
1949; Э гд б и У. Р., Введение в кибернетику, пер. с англ.,
М., 1959, с. 171—274. К. Морозов, В. Тюхтин. Москва.
«РАЗОБЛАЧЁННОЕ ХРИСТИАНСТВО» (1761) — одно из ранних соч. Гольбаха, направленное против религии.
РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ — один из наиболее важных видов массовых проблем. Р. п. данного множества А конструктивных объектов (относительно нек-рого объемлющего множества V конструктивных объектов) наз. проблему построения алгоритма, распознающего по всякому объекту из множества V , принадлежит ли он множеству А или нет. Р. п. (более подробно — Р. п. для доказуемости) формальной системы (или исчисления) наз. Р. п. множества всех доказуемых формул этой системы относительно множества всех ее формул. Семантич. Р. п. (или Р. п. для истинности) интерпретированной формальной системы (формализованного языка) наз. Р. п. множества всех истинных формул системы относительно множества всех ее формул. (Для обозначения понятия «проблема разрешения» долгое время применялся термин «проблема разрешимости», однако этим термином правильнее обозначать проблему: «имеет ли решение данная Р. п.».)
Р. п. множеств совпадают по существу и с проблемами распознавания свойств. Проблемой распознавания заданного св-ва (для объектов из заданной совокупности конструктивных объектов) наз. проблему построения алгоритма, распознающего
460
РАЗРЕШИМОЕ И ПЕРЕЧИСЛИМОЕ МНОЖЕСТВА — РАЗУМ
 по всякому объекту из заданной совокупности, обладает он заданным св-вом или нет. Всякая проблема распознавания св-ва есть в то же время Р. п. множества всех тех объектов, к-рые обладают этим св-вом. В свою очередь Р. п. множества есть проблема распознавания св-ва принадлежности к этому множеству. В частности, Р. п. для доказуемости является проблемой распознавания доказуемости, а Р. п. для истинности есть проблема распознавания истинности.
по всякому объекту из заданной совокупности, обладает он заданным св-вом или нет. Всякая проблема распознавания св-ва есть в то же время Р. п. множества всех тех объектов, к-рые обладают этим св-вом. В свою очередь Р. п. множества есть проблема распознавания св-ва принадлежности к этому множеству. В частности, Р. п. для доказуемости является проблемой распознавания доказуемости, а Р. п. для истинности есть проблема распознавания истинности.
См. также ст. Алгоритм, Массовая проблема, Мета
теория И ЛИТ. при НИХ. В. Успенский. Москва.
РАЗРЕШИМОЕ И ПЕРЕЧИСЛЙМОЕ МНОЖЕСТ ВА — оси. понятия теории алгоритмов и теории рекурсивных функций (и предикатов). (Определение этих понятий на основе понятия алгоритма см. в ст. Алгоритм, раздел Основные понятия теории А.)
Простейшим примером разрешимого множества может служить множество всех формул к.-л. исчисления (относительно множества всех конечных последовательностей символов алфавита этого исчисления), а примером перечислимого множества — множество теорем (доказуемых формул) исчисления. (В случае разрешимости этого второго множества говорят, что имеет место разрешимость самого исчисления.)
Независимо от понятия алгоритма понятия Р. и п. м. (натуральных чисел) можно также определить в терминах вычислимых (или «рекурсивных») функций: (1) Множество натуральных чисел наз. разрешимым, или, как чаще говорят, (обще-)рекурсивным, если существует обще-рекурсивная функция, принимающая к.-л. фиксиров. значение (напр., 1) на элементах этого множества и к.-л. другое фиксиров. значение (напр., 0) на натуральных числах, не принадлежащих этому множеству (разрешающая функция). (2) Множество натуральных чисел наз. (рекурсивно-)перечислимым, если существует обще-рекурсивная функция, множеством значений к-рой является это множество (перечисляющая функция). Понятия Р. и п. м. связаны и с понятием обще-рекурсивного предиката, причем их определения допускают соответствующие естеств. переформулировки. Напр., для обще-рекурсивного множества С предикат х£С обще-рекурсивен (и, конечно, обратно). Понятия Р. и п. м. могут быть выбраны и в качестве исходных уточнений интуитивных представлений об «эффективной разрешимости» и «эффективной определимости» св-в (предикатов) конструктивных объектов, на основе к-рых затем уже можно определить понятия алгоритма и вычислимой (обще-рекурсивной) функции, не впадая в порочный круг. Проблема нахождения разрешающего алгоритма для данного множества конструктивных объектов (напр., формул определенного вида из к.-л. исчисления) наз. его разрешения проблемой.
См. также Рекурсивные функции и предикаты, Массовая проблема.
РАЗУМ — мышление в той форме, к-рая адекватно и в чистом виде осуществляет и обнаруживает его всеобщую диалектич. природу, имманентный ему творч. характер. Понять мыслит, способность субъекта как разумную — значит преодолеть дуалистич. противопоставление законов мышления и универс.-всеобщих определений объективной действительности и охарактеризовать мышление не с т. зр. его проявления в актах сознания, но с т. зр. тождественности законов мышления реальным категориальным формам предметного мира, деятельно осваиваемого человеком. Р. есть достояние обществ, человека как субъекта всей культуры. Р. обладает высшей, сравнительно с рассудком, определенностью, логич. организованностью и строгостью. Его строгость выступает как строгость содержат, понимания, как всецело предметная,
т. е. как превращающаяся в активную способность субъекта лишь потому, что она адекватна объекту; она не утрачивается за пределами формально упорядоченного знания, т. е. не фрагментарна, а всеобща; она, далее, осуществляется не через подчинение понятий извне диктуемой формальной строгости изложения, а напротив, подчиняет понятиям формальную, языково-терминологич. строгость, делая ее необходимым вспомогат. средством. Р. диалектически снимает противоположность между «готовым знанием» и интуитивной формой творч. акта. На место рассудочной дискурсивное™, в к-рой истина-процесс превращается в противостоящий творч. движению застывший результат, Р. ставит свою собств., разумную дискурсивность. Последняя есть лишь явное изображение истины как движения по логике самого предмета, как развертывания системы его понятийных определений, Р. рассеивает порождаемую рассудком видимость, будто конкретное и абстрактное суть спе-цифич. атрибуты познающего субъекта, принадлежащие соответственно чувственности и мышлению, и выявляет в каждом понятии конкретное единство многообразия. В то время как рассудок убивает особенное, придавая самостоятельность абстрактно-всеобщему, Р. есть постижение особенного. Р. столь же мало противопоставляет антиномию результату ее разрешения, как и наоборот — он открывает и разрешает противоречие предмета, тем самым делая его объективнейшим «двигателем» развития теории. Для Р. эмпирич. мышление — то же теоретич. мышление лишь в его описат. применении. В философии Р. требует монизма. Не признавая никаких «запретных» для него сфер, Р. самостоятельно осуществляет целе-полагание, не терпит диктата внешней, чуждой целесообразности и не передоверяет никаких проблем слепым иррац. силам. Р.— воплощение суверенности науч. мышления: он есть «...та универсальная независимость мысли, которая относится ко всякой вещи так, как того требует сущность самой вещи» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 1, с. 7).
Антич. философы-досократики уже догадывались, что истоки силы Р.— не в сознании, не в «мнениях», а в объективной всеобщности, следовать к-рой и значит быть разумным (Гераклит, В. 2, 41, Diels9). Платон, ухвативший надындивидуальную мощь обществ. Р. в ее отчужденности от человека, изобразил ее как абс. мощь «царства Идей», основанного на сверхразумном «Едином». В познании Платон не только отличал мышление от мнения (Soga), т. е. от уподобления и верования, свойственного обыденному рассудку, но и в мышлении различал рассуждение (64a:voia) — «способность геометров и подобных им» — и знание ( imaxf ^ x ]); здесь намечается различение рассудка и Р. (см. R.P., 6, 511D; 7, 534 А—Е). Аристотель детально классифицировал «способности души», из к-рых черты обыденного практич. рассудка схватывает cppovnoig, рассудка — oiivoia, отчасти — Xoyiajxog, voOg, в той мере, в какой он лишен движущего начала, целеполагания, «страдателен» («О душе», 432 в, 433 а, 430 а; «Никомахова этика», кн. 6 и 10). По Николаю Кузанскому и Дж. Бруно, рассудок занимает место между чувственностью и Р. Сила Р. в том, что он—«образ первообраза всех вещей», т. е. бога (Ник. К у з а н с к и й, Об уме, см. Избр. филос. соч., М., 1937, с. 176). Декарт ссылался именно на несоответствие универсальности Р. как «орудия» конечному характеру человеч. тела-«машины», как на основание для дуалистич. противопоставления Р. и субстанции-протяженности. Спиноза критиковал рассудочность ratio (познание 2-го рода) и entia rationis (формальные абстракции и т. п.). Он попытался монистически обосновать могущество Р. его универсальностью (мышле-
РАЗУМ
461
 ние — атрибут субстанции). Однако дуализм, изолирующий друг от друга идеальные феномены деятельности Р. и те объективные универс. определения, к-рыми они только и объяснимы, все же сохранял свое влияние (напр., у Малъбранша о «raison» и «entendement»—см. «Разыскания истины», т. 1, кн. 3, СПБ, 1903, гл. 1, 2, 4; т. 2, кн. 6, СПБ, 1906, гл. 2). Психологизм вообще подменяет Р. «способностью души», заковывает его в изначальную специфику сознания. Напр., Локк пытался удержать различие между reason и understanding, выделял в Р. «первую и высшую» ступень — эвристич. «проницательность» и в противовес рассудочной схоластике считал силлогизм не «великим орудием» Р., а подобием очков для ума, однако Р. у него неизбежно «близорук», т. к. «не может простираться» за пределы, ставимые психологизмом (см. Избр. произв., т. 1, М., 1960, с. 660, а также с. 647—61). С т. зр. психологизма «...рассудок оказывается не чем иным, как... инстинктом наших душ...», а Р.— «совершенно инертен» (Юм Д., Соч., т. 1, М., 1965, с. 287—88, 605). Это обрекло англ. филос. традицию на утрату подлинного понятия Р. С рационалистич. т. зр. Лейбница, в Р. высшая способность — не рассудительность, а процесс открытия (см. «Новые опыты...», М.—Л., 1936, с. 128, 153, 324, 419—29). Ставя интуицию выше Р., он все же обратился к тому, что «мышление есть... существенная деятельность...» (там же, с. 143) и к «непрерывному» Р. Но универс. всеобщность и необходимость Р. берется им в крайней отчужденной форме — как «высший Разум», как бог — гарант «предустановленной гармонии» (см. там же, с. 176; ср. его же, «Монадология», § 29, 30, 78, 82, 83, в кн.: Избр. филос. соч., М., 1908, с. 339—64).
ние — атрибут субстанции). Однако дуализм, изолирующий друг от друга идеальные феномены деятельности Р. и те объективные универс. определения, к-рыми они только и объяснимы, все же сохранял свое влияние (напр., у Малъбранша о «raison» и «entendement»—см. «Разыскания истины», т. 1, кн. 3, СПБ, 1903, гл. 1, 2, 4; т. 2, кн. 6, СПБ, 1906, гл. 2). Психологизм вообще подменяет Р. «способностью души», заковывает его в изначальную специфику сознания. Напр., Локк пытался удержать различие между reason и understanding, выделял в Р. «первую и высшую» ступень — эвристич. «проницательность» и в противовес рассудочной схоластике считал силлогизм не «великим орудием» Р., а подобием очков для ума, однако Р. у него неизбежно «близорук», т. к. «не может простираться» за пределы, ставимые психологизмом (см. Избр. произв., т. 1, М., 1960, с. 660, а также с. 647—61). С т. зр. психологизма «...рассудок оказывается не чем иным, как... инстинктом наших душ...», а Р.— «совершенно инертен» (Юм Д., Соч., т. 1, М., 1965, с. 287—88, 605). Это обрекло англ. филос. традицию на утрату подлинного понятия Р. С рационалистич. т. зр. Лейбница, в Р. высшая способность — не рассудительность, а процесс открытия (см. «Новые опыты...», М.—Л., 1936, с. 128, 153, 324, 419—29). Ставя интуицию выше Р., он все же обратился к тому, что «мышление есть... существенная деятельность...» (там же, с. 143) и к «непрерывному» Р. Но универс. всеобщность и необходимость Р. берется им в крайней отчужденной форме — как «высший Разум», как бог — гарант «предустановленной гармонии» (см. там же, с. 176; ср. его же, «Монадология», § 29, 30, 78, 82, 83, в кн.: Избр. филос. соч., М., 1908, с. 339—64).
Кант построил первую развернутую концепцию рассудка и Р., понимая под ними в сфере познания способности, дающие соответственно правила и принципы. Рассудок — это «способность составлять суждения», мыслить, «способность к знаниям» (см. Соч., т. 3, М., 1964, с. 340, 167, 175, 195), к-рая изначально субъективна; неэмпирич. «Я», «трансцендентальное единство апперцепции» — высший принцип всей философии (см. там же, с. 196). Это единство апперцепции необходимо именно потому, что человек — «конечное», «зависимое» существо, чье мышление не может быть творч. причиной своего объекта (см. там же, с. 152—53, 196, 200). Поэтому же в основе рассудочного категориального синтеза — его спонтанная функция, «продуктивная способность воображения» (см. там же, с. 173, 224), из к-рой проистекает также «способность суждения». Синтез этот— лишь в границах «конечного опыта», условный, фрагментарный. Но рассудок нуждается в ориентировке на целостность, на безусловное, на тотальность, на абс. принципы — нуждается в идеях Р. (см. там же, с. 346, 355). Необходим «самостоятельный», «творческий» Р., способный порождать предметы, воплощая в них свою активность (см. там же, с. 572). Однако «конечность» человека лишает его такого Р. и обрекает его действовать лишь «как если бы» имелся такой Р.-прообраз. Способность Р. к опредмечиванию Кант рассматривает в качестве недоступного для человеч. познания «законодательного» Р.— «intellectus ar-chetypus» (см. там же, с. 587). В его познават. «спекулятивном» применении Р. имеет не «конститутивное», а лишь «регулятивное значение». Сущность Р. выносится за пределы познания — в область нравств. воли, «практич.» Р., причем последний наделяется «приматом» над Р. спекулятивным. Однако и там Р. пе обретает целостности, конкретной тотальности, последняя оказывается лишь долженствованием, уходящим в дурную, т. е. рассудочнудо бесконечность. Т. о., Кант оставил Р. в границах рассудка.
В дальнейшем трактовка Р. в классич. нем. философии шла по пути освобождения от «конечности» индивида, но одновременно — превращения Р. в сверхчеловеческий. Фихте толковал рассудок как «.. .покоящуюся, бездеятельную способность духа...», нетворч. «способность сохранения», «...закрепленную разумом силу воображения...», к-рая посредствует между последней и Р.; Р. же — как «полагающую способность» абс. «Я» (см. Избр. соч., т. 1, [М.], 1916, с. 209, 208). Шеллинг эстетизировал Р., противопоставляя понятию идею произведения искусства, репродуктивному рассудку — такой Р., к-рый подменен «силой воображения», «созидающим созерцанием» (см. «Система трансцендентального идеализма», Л., 1936, с. 130, 298). Гл. заслуга Гегеля в проблеме соотношения Р. и рассудка — постановка задачи: пе противопоставлять их друг другу извне, а диалектически снять эту противоположность. Гегель подверг глубокой критике абстрактную всеобщность, абстрактное тождество, дурную бесконечность, субъективизацию категории противоречия, дуализм должного и сущего и др. черты рассудка, расчищая место для Р. Он окончательно перенес проблему Р. в сферу объективной логики развития культуры человечества и именно поэтому верно ухватил всеобщую диалектич. природу Р. (см., напр., Соч., т. 3, М., 1956, с. 229; т. 4, М., 1959, с. 185). Но Гегель взял Р. лишь в его отчужденности от предметной деятельности, от человеч. личности, как Р. вне и над людьми стоящей Истории: перед «хитростью» Р. индивид — ничтожная пешка. Отсюда — гегелевский «некритический позитивизм» и мнимая критичность Р., к-рый «...находится у самого себя в неразумии...» (см. К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Из ранних произв., 1956, с. 634). Гегель не сумел также осуществить снятие рассудка как противоположности Р. и увековечил его, приписав ему одному способность обеспечивать «устойчивость» понятий и т. п.
Романтич. и иррационалистич. традиция, третируя рассудок, противопоставляла ему Р. не как освобожденный от омертвленности и узости, а как подмененный иррац. интуицией, верой и т. п. Иррациона-листы используют реальные слабости рассудочной науки для нападения на научность вообще.
Для совр. бурж. философии характерны в проблеме Р. две тенденции. Во-первых, иррационализм, к-рый разумному мышлению противопоставляет его собств. творч. моменты, но выступающие превращение (как интуиция и т. п.), и отвергает заодно с рассудком также и Р., оставаясь в негативной зависимости от рассудка. Получило распространение пошлое представление, выдающее рассудок за Р. (см. А. Шопенгауэр, Мир как воля..., СПБ, 1881, с. 62— 63). Во-вторых, мнимый рационализм, апеллирующий к модной научности, но ограничивающийся сферой технич. проблем (средствами рационализации овеществленных форм), отказывающийся от проблем целе-полагания, оценки и т. п. и возводящий в норму как раз рассудочность, знаковый фетишизм и т. п. (неопозитивизм). Крайним выражением кризиса бурж. культуры является культ алогизма и инстинкта.
В марксизме проблема Р. и рассудка решается с т. зр. предметной деятельности и на почве анализа социальной природы познания. Могущество Р. есть лишь идеальное выражение творч. могущества реальной предметно-преобразоват. человеч. деятельности. Дело не в том, чтобы апеллировать от рассудка к Р., оставаясь внутри их противоположности и на той почве, к-рая ее порождает, а в том, чтобы практически преодолеть социальные основы этой противоположности и полностью освободить Р. Борьбу за торжество Р. марксизм понимает не просветительски, а как практически-тсоретич. борьбу за торжество
462 РАЗУМНОГО ЭГОИЗМА ТЕОРИЯ — РАЙНИС
 «прозрачно разумных отношений людей друг к другу и к природе» (Marx К., Das Kapital, Bd 1, 1960, S. 85), т. е. за коммунизм.
«прозрачно разумных отношений людей друг к другу и к природе» (Marx К., Das Kapital, Bd 1, 1960, S. 85), т. е. за коммунизм.
Лит.: Энгельс Ф., Диалектика природы, Маркс К.
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 528, 537—38; Ленин
В. И., Соч., 4 изд., т. 38, с. 160, 162; Бердяев Н., Смысл
творчества, М., 1916; Бергсон А., Длительность и одно
временность ..., пер. с франц., П., 1923; Лукач Г., Ма
териализм и пролетарское сознание, «Вестн. социалистич.
академии», 1923, кн. 4—6; Асмус В. Ф., Диалектика
Канта, 2 изд., М., 1930; его же, Проблема интуиции
в философии и математике, М., 1963; Л о с с к и й Н., Чув
ственная, интеллектуальная и мистич. интуиция, Париж,
1938; Библер В. С, О системе категорий диалектич. ло
гики, [Душанбе], 1958; Ильенков Э. В., Идеальное,
Филос. энциклопедия, т. 2, М., 1962; Б а т и щ е в Г. С,
Противоречие как категория диалектич. логики, М., 1963, гл.
2; К о и н и н П. В., Рассудок и Р. и их функции в познании,
«ВФ», 1963, № 4; Никитин В. В., Категории рассудок и Р.,
Ростов-н/Д., 1967 (автореф. канд. дисс); Santayana G.,
The life of reason, v. 1—5, N. Y., 1905—06; W hitehea d A.N.,
The function ol reason, Princeton, 1929; Jaspers K., Ver-
nunft und Existenz, Munch., 1960; его же, Vernunft und
Widervernunft in unscrer Zeit, Munch., 1950; Lulus G ., Die
Zerstorung der Vernunft, В., 1954; Heidegger M., Wahrheit
und Wissenschaft, Basel, 1960; S a r t r e J. P., Critique de la
raison dialeetique, P., [I960]; Kosik K., Dialektika kon-
kretniho, Praha, 1963, v. 2, s. 2. Г. Батищев. Москва.
РАЗУМНОГО ЭГОИЗМА ТЕОРИЯ — см. Эгоизм.
РАИ — религ.-мифологич. представление о священном месте в пространстве или состоянии во времени, свободном от несовершенств и противоречий земного существования. В различных история, типах мифологии это преодоление земных противоречий приписывается загробному миру или первичному состоянию человека; в новейшем религ. сознании оно иногда отождествляется с особым состоянием духа.
В древнейших мифологиях загробное существование представляется идеализированным продолжением земных отношений; различные формы этого существования определяются классом, кастой, профессией человека, но не его деятельностью — идея индивидуальной ответственности практически отсутствует. Библейская концепция, противопоставляющая райское блаженство душ праведников адским мучениям грешников (см. А д), закрепилась лишь в 4—3 вв. до н. э. и получила дальнейшее развитие в христианстве (прежде всего в качестве универсальной этич. санкции). В христианстве можно выделить две линии в истолковании Р.: наивно-реалистическое, «чувственное» представление о Р. и грядущем воскресении (напр., у Иринея, 2 в. н. э.) и развитое патристич. философией (см. Патристика) представление о Р. как о духовном воссоединении с божеством (в поэзии— у Данте). Развивая идею потерянного Р., т. е. утраты состояния первозданной невинности, близости человека к природе и богу, христианство представляет историю человечества как историю утраты райского состояния и воссоздания его (в загробном мире, в душе верующего, в «тысячелетнем» царстве — см. Эсхатология). Введение истории в рамки трехчленной схемы: Р. — грехопадение — искупление, характерно и для ряда течений социально-утопич. мысли (напр., Мабли, естественно-правовых концепций — Руссо и др.), где желаемое будущее представляется восстановлением утраченного идеала. Отвергнутые Гегелем («рай есть парк, в котором могут оставаться только звери, а не люди... Грехопадение есть вечный миф человека, именно благодаря ему он становится человеком» — Соч., т. 8, М.—Л., 1935, с. 304), эти воззрения свойственны романтич. критике действительности; истолкование в подобном духе марксистской концепции историч. процесса использовалось для ее отождествления с христ. взглядами (напр., у Тиллиха). Тема «потерянного» и «возвращенного» Р. является одним из осн. мотивов мировой филос. поэзии (Мильтон, Байрон и др.), будучи формой непосредственно-эмоционального и эстетич. отношения к противоречиям социального развития.
Лит.: Л а м о н т К., Иллюзия бессмертия, пер. с англ.;
М., 1961; Токарев С. А., Религия в истории народов
мира, М., 1964; Myth. A symposium, ed. by Th. Sebeok, Bloo-
mington, 1958. Ю . Левада . Москва.
РАИЛ (Ryle), Гилберт (р. 19 авг. 1900) — англ. фплософ-неопозитивпет, проф. Оксфордского ун-та, гл. ред. журн. «Mind». В начале своей филос. деятельности находился под влиянием феноменологии Гуссерля, но уже в 30-х гг. примкнул к школе «лингвистического анализа» (см. Философия анализа). В русле идей позднего Витгенштейна Р. утверждает, что функция философии состоит в анализе обыденного языка, в определении и проверке точного употребления понятий. Философия должна показать, какие понятия и в каких границах имеют смысл и какие лишены его. Методом филос. исследования является reductio ad absurdum (доведение до нелепости), с помощью к-рого устанавливается несовместимость того или иного высказывания со следствиями, вытекающими из него. В своей гл. работе «Понятие духа» («The concept of mind», L.—N. Y., 1949) P. конкретизирует свое понимание функций философии на примере анализа понятия духа или сознания. Он считает, что вопрос о природе сознания возникает из неправильного употребления этого понятия. С т. зр. Р., философы начиная с Декарта в рассмотрении сознания совершали «категориальную ошибку», употребляя данное понятие в смысле субстанции или скрытой сущности. Но так как субстанциональность духа доказать не могли, то он оказывался у них «призраком в машине» (в человеч. теле).
В целом Р. развивает концепцию сознания, близкую к бихевиоризму; подчеркивает практич. характер нашего знания, видя его сущность в способе дей-ствования.
Соч.: Dilemmas, Camb., 1954; Logic and language, Oxf., 1955 (соавтор).
Лит .: Бегиашвили А. Ф., Метод анализа в совр.
бурж. философии, Тб., 1960; его же, Совр. англ. лингви-
стич. философия, Тб., 1965; Богомолов А. С., Англо-
амер. бурж. философия эпохи империализма, М., 1964; X и л л
Т. И., Совр. теории познания, пер. с англ., М., 1965; Р a s-
s m о г е J., A hundred years of philosophy, L., [1957]; С h a r-
les worth M. J., Philosophy and linguistic analysis, Lou-
vain, 1959. Д. Лупанов. Горький.
РАЙНИС (наст, фамилия — Плиекшан), Ян (11 сент. 1865—12 сент. 1929) — латыш, революц. поэт и мыслитель, один из пионеров социалистич. мысли в Латвии. Род. в семье зажиточного крестьянина. Учился на юридич. ф-те Петербургского ун-та, где познакомился с революц. народниками. В начале 90-х гг. Р. становится одним из идейных руководителей движения латыш, прогресс, интеллигенции, т. н. нового течения. В 1891—95 Р. редактировал орган этого движения газ. «Dienas lapa» («Ежедневный листок»).
В 1897 за революц. деятельность Р. был арестован и сослан. Вернувшись из ссылки, активно участвовал в революции 1905. В дек. 1905 Р. эмигрировал в Швейцарию. Возвратившись на родину в 1920, Р. с трибуны сейма и в своих революц. стихах разоблачал реакц. политику латыш, буржуазии.
Филос. материалистич. взгляды Р. выражены в ли-тературно-критич. статьях, пьесах («Золотой конь» — «Zelta zirgs», 1909; «Индулис и Ария» — «Indulis un Arija», 1911; «Иосиф и его братья» — «Jazepsun vina brali», 1914) и стихах (сб-ки «Тихая книга» — «Klusa gramata», 1909; «Конец и начало» — «Dais un sakums», 1912; поэма «Ave sol!», 1910). Поэзия и драматургия Р. полны революц. пафоса; отд. эпиграммы и драматич. диалоги звучат как лаконичные афоризмы марксистской мысли.
Уже в 90-е гг. Р. изучал труды Маркса, Энгельса и Плеханова. В статьях, опубл. в газ. «Ежедневный листок», Р. излагал осн. тезисы историч. и диалектич. материализма. Много внимания уделял Р. проблеме
РАЛЯ — РАМЕ
463
 отношения личности к обществу, роли нар. масс как движущей силы истории.
отношения личности к обществу, роли нар. масс как движущей силы истории.
Пролет, интернационализм и гуманизм — основа жизнепонимания Р. В годы 1-й мировой войны Р. резко осуждал милитаристские позиции нем. социал-демократов; провозгласив лозунг «свободная Латвия в свободной России», он подразумевал под этим со-циалистич. Латвию и социалистам. Россию.
С оч.: Избр. соч., М.— Л., 1935; Собр. соч., т. 1 — 3, Рига, 1954; Соч., т. 1 — 2, М., 1955.
Лит.: Д а у г е П., Я. Райнис — певец борьбы, солнца и
любви, М., 1920; Самсон В., Общественно-филос. взгляды
Я. Райниса, «Коммунист Сов. Латвии», 1955, № 9; Очерки по
истории филос. и общественно-политич. мысли народов СССР,
М., 1956, т. 2, гл. 32; С о к о л Э., Жизнь и творчество Я. Рай
ниса, Рига, 1957; Краулинь К., Я. Райнис, М.,
1957. К. Краулинь. Рига.
РАЛЯ (Ralea), Михаил (30 апр. 1896—17 авг. 1964) — рум. психолог, социолог и обществ.-политич-деятель. Проф. психологии в Бухарестском ун-те, акад. (с 1948), директор Ин-та психологии АН РНР (с 1956), чл. Гос. совета РНР. В условиях народно-демократич. строя Р. становится на позиции диалек-тич. материализма; выступает с критикой идеалистич. концепций в совр. бурж. психологии, анализирует филос. взгляды В. Конты, И. Павлова, Эмерсона и др., освещает проблему личности в бурж. и сов. психологии. Книга Р. «История психологии» («Istoria psihologiei», Buc, 1958, соавтор) отражает развитие этой дисциплины с древних времен до наст, времени.
Соч.: Studii de psihologie §i lilosofie, Buc, 1955; Scrieri din trecut. In filozofie, Buc, 1957; Sociologie succesulul, Buc, 1962 (совм. с Т. Hariton); в рус. пер.— Два облика Франции, М., 1962.
Лит .: Omagiu lui M. Ralea, «Viata romineasca», 1965, № 2.
РАМАКРЙНША (монашеское имя; в миру -Га-дадхар Чаттерджи) (20 февр. 1834—16 авг. 1886) — представитель неоиндуизма, проповедник гу-манистич. идей и обществ, деятель Индии. Его мировоззрение формировалось под влиянием крупнейших мировых религий, представленных в Индии; а также в процессе длит, занятий практикой мистицизма по принципам йоги. Р. считал себя последователем абс. идеализма веданты, однако признавал реальность материального мира, пытаясь тем самым как-то объединить абс. монизм (адвайта) Шанкары и огранич. монизм (вишиштадвайта) Рамануджи. Р. значителен своим практич. учением, к-рое он излагал в форме устных проповедей и притч.
Р. утверждал, что для возрождения Индии и всего человечества необходимо прежде всего распространение религ. духа, к-рый является единств, фундаментом социальной жизни. Высшей целью земной жизни человека Р. считал постижение бога через безграничную к нему любовь и преданность (бхакти), осуществляющееся не путем аскетич. отречения от мира, а через выполнение каждым человеком своих земных обязанностей. В условиях тогдашней Индии это истолковывалось как необходимость участия в обществ, переустройстве, в нац.-освободит, движении. Служение богу, согласно Р., совпадает со служением своему ближнему, ибо бог — в каждом человеке, и все равны перед богом. Т. о., Р. выступал против кастового и нац. неравноправия. Гуманизм Р. получил дальнейшее развитие в его проповеди единения религий: все они имеют одну и ту же сущность, ведут к одной и той же цели, а боги каждой религии являются лишь различными именами одного и того же абс. духа, одной и той же духовной субстанции. Призыв к религ. солидарности содействовал ослаблению характерного для Индии религ.-общинного фанатизма. Идеи Р. способствовали пробуждению нац. самосознания инд. народа, объединению различных социальных и религ. слоев инд. общества. Благодаря проповедям Р. идеология инд. национализма с самого своего зарождения приобрела религ. характер.
Среди мн. учеников и последователей Р. самым выдающимся является Вивекананда. Основанное им об-во «Миссия Рамакришны» (1897) остается и поныне одним из гл. центров религ. активности в Индии.
Лит.: Ольденбург С. Ф., Совр. индийский святой,
«Журн. Мин-ва нар. просвещения», 1900, ч. 329, июнь; М ю л-
л е р М., Шри Рамакришна Парамагамза. Его жизнь и учение,
пер. с англ., М., 1913; Рамакришна Б. Щ., Правозвестие
Р., СПБ, 1914; Р о л л а и Р., Жизнь Р., Соч., т. 19, М., 1936;
NlrvedanandaS., Sri Ramakrishna and spiritual renais
sance, Calcutta, 1940; Gambhirananda S. (publ.),
Life of Sri Ramakrishna, Calcutta, 1955; его же, History of
the Ramakrishna math and mission, Calcutta, 1957; Ramak
rishna 1836—1886. Memoirs of Ramakrishna. Сотр. by S.
Abhedananda, 2 ed., Calcutta, 1957; D a s A. C, A modern
incarnation of God. A commentary on the life and teaching of
Sri Ramakrishna, Calcutta, 1958; Lemaitre S., Ramakri
shna et la vitalite de 1'indouisme, P., 1959; Nehru J., Sri
Ramakrishna and Swami Vivekanadda, 3 ed., Calcutta, 1960;
Us ha B. A., A Ramakrishna vcdanta wordbook, Hollywood,
1962. H . Аникеев. Москва.
РАМАНУДЖА (ок. 11 — 12 вв.) — инд. мыслитель, основатель теистич. направления (т. н. огранич. монизма — вишиштадвайта) школы веданта. Р. принадлежат комментарии к Бхагавадгите и нек-рым У панишадам; осн. его работы — комментарии к «Брахмасутре» («Шрибхашья»), «Ведантасаре», «Ве-дартхасанграхе», «Ведантадине».
Конечной и высшей истиной Р. считает абс. дух, брахман. Однако, в отличие от Шанкары, Р. признает реальность и материальных объектов. Брахман, по Р., представляет собой единство трех начал: эмпирич. субъекта (бхоктри), объективного мира (бхогья) и действующей силы (преритри). В трактовке физич. мира Р. заимствует идею санкхъи о пракрити (материи), считая, однако, что ее развитие направляется волей бога. Познание истины, бога ведет у Р. не к растворению души в абсолюте, как у Шанкары, а к ее вечному блаженству на небесах. Теизм Рамануджи послужил теорстич. основой мн. течений бхакти (учение о постижении бога).
Соч.: Vedarthasangraha, ed. by J. A. B. van Buitenen, Poona, 1956.
Лит .: Srinivasa Aiyengar C. R., The life and tea
chings of sri Ramanujacharya, Madras, 1908; Three great acha-
ryas: Sankara, Ramanuja, Madhwa. Critical sketches of their
life and times, Madras.^ 1923; Raghavach a_r S. S^, Intro
duction to the Vedarthasangraha of sree Ramanujacharya,
Mangalore, [1957]; E s n о u 1 A. M., Ramanuja et la mystique
vishouite, P., 1964. H . Аникеев. Москва.
РАМЕ (Ramee), Пьер де ла (латиниз. Рамус — Ramus) (1515—26 авг. 1572) — франц. философ-гуманист. Выходец из бедной семьи, Р. сумел закончить Парижский ун-т. В магистерской диссертации (1536) Р. защищал тезис: «Все, что сказано Аристотелем, ложно». Преподавал во мн. учебных заведениях; за борьбу против схоластики был отстранен от преподавания, но в 1551 был назначен профессором Коллеж де Франс; его лекции пользовались огромным успехом. Переход в кальвинистский протестантизм (1561) навлек на Р. новые преследования, из-за к-рых он неск. раз был вынужден покидать Париж. Во время Варфоломеевской ночи Р. был зверски убит.
Как протестантский мыслитель, Р. требовал возвращения к «чистой» теологии Священного писания.
Роль Р. в философии определяется борьбой против схоластики, схоластизированного Аристотеля и выдвижением проблемы создания нового науч. метода. Выступая против авторитетов, Р. заявлял, что «пет никакого авторитета выше разума» («Scholae mathe-maticae», 1569, I, III, p. 78), что «человек имеет в себе естественную способность познать все вещи» («Dia-lectique», 1555, p. 69). Согласно Р., наблюдение и опыт — начальный этап познания; важнейшее значение в ускорении и облегчении познания имеет истинный метод, правила к-рого должны быть почерпнуты из изучения различных проявлений человеч. духа, гл. обр. из изучения антич. писателей и поэтов. Большой интерес проявлял Р. к математике,
464
РАММОХАН РАЙ — РАНК
 ценя ее за возможность практич. применения. Целью знания он считал установление господства человека над природой; логика призвана указать кратчайший путь к искусству изобретения. Сильный в критике схоластич. аристотелевской логики, Р. в позитивной части своей логики («Установления диалектики» — «Institutiones dialecticae», P., 1543) в основном примыкал к Цицерону и Квинтилиану. Новым, в частности, является у него деление логики на две части: 1) понятие и определение, 2) суждение, умозаключение,
ценя ее за возможность практич. применения. Целью знания он считал установление господства человека над природой; логика призвана указать кратчайший путь к искусству изобретения. Сильный в критике схоластич. аристотелевской логики, Р. в позитивной части своей логики («Установления диалектики» — «Institutiones dialecticae», P., 1543) в основном примыкал к Цицерону и Квинтилиану. Новым, в частности, является у него деление логики на две части: 1) понятие и определение, 2) суждение, умозаключение,
метод. В. Кузнецов. Москва.
Р. критиковал систему категорий Аристотеля на
том основании, что она, по его мнению, не дает воз
можности классифицировать на ее базе логич. мето
ды. Вместе с Валлой он порицал разрыв логики с
риторикой. Через посредство Томазия Р. оказал
нек-рое влияние на Лейбница как основоположника
символич. логики (в частности, но вопросу об исполь
зовании нек-рых фигур силлогизмов для доказатель
ства определ. правил т. н. обращения предложений).
Много внимания Р. уделял проблеме т. н. «логиче
ских мест» (loci communes), т. е. обоснования или по
зиции, с к-рых ведется доказательство: он различал
в этой связи 5 первичных и 9 производных «мест изо
бретения». По Р., вопрос об универсалиях — псевдо
проблема, а содержание ср.-век. логич. трактатов
«о свойствах терминов» (de terminorum proproetati-
bus) нуждается в максимальном упрощении. Настаи
вая на изучении в логике «естественного хода...
мышления» (см. «Aristotelicae animadvorbiones», P.,
1543, Lib. 1, p. 7), он выступил предшественником
логич. психологизма. Делая акцент на введении в ло
гику раздела о ее методологич. основаниях, Р. ока
зал сильное влияние на структуру позднейших руко
водств по формальной логике и, в частности, на
Пор-Рояля логику. Н. Стяжкин. Москва.
Логика Р. и его взгляды в целом («рамизм») быстро распространились не только в протестантских, но и в католич. странах (Италия и Испания). Сближение логики с риторикой (а не с опытом), характерное для Р., не было прямым путем ни к методу Бэкона, ни к методу Декарта. Оно оказало положит, влияние лишь косвенно (как критика схоластич. метода).
С о ч.: Prooemium mathematicum, P., 1567; Collectaneae, P., 1577; Scholae in tres primas Hberales artes, p. 1—3, P., 1581—94; Scholarum physicarum, Francofurti, 1583; Commen-tariorum de religione Christiana libri quatuor, Francofurti, 1583; Scholae metaphysicae, Francofurti, 1610.
Лит .: Герцен А. И., Поли. собр. соч. и писем, т. 4, П.,
1915, с. 120; История философии, т. 2, [М.], 1941, с. 37 — 38;
История философии, т. 1, М., 1957, с. 312; 3 у б о в В. П., Ари
стотель, М., 1963, с. 288; D a r J e s J. G., Via ad vertatem com-
moda..., 2 ed., Jenae, 1764, p. 275—88; WaddingtonCh.,
De P. Rami vita, scriptis, philosophia, P., 1848; его же, Ra
mus (Pierre de la Eamee). Sa vie, ses ecrits et ses opinions, P.,
1855; D e s m a z e С h., P. Ramus. Sa vie, ses ecrits, sa
mort, P., 1864; Cantor M., P. Ramus, ein wissenschaftlicher
Martyrer des sechzehnten Jahrhunderts, «Protestantische Monats-
biatter» von Gelzer, Gotha, 1867, Bd 30, S. 129—42; L о to
st cin P., Petrus Ramus als Theologe..., Stras., 1878; Gra
ves F. P., Peter Ramus and the educational reformation of the
sixteenth century, N. Y., 1912; N e 1 s о n N. E., P. Ramus and
the confusion of logic, rhetoric, and poetry, [Ann Arbor, 1947];
Hooykaas R., Humanisme, science et reforme. Pierre de-
laRamee, Leyde, 1958; О n g W. J., Ramus. Method and the de
cay of dialogue, Camb. (Mass.), 1958. В . Кузнецов . Москва
РАММОХАН РАЙ, РамМоханРой (Rammohan Roy) (22 мая 1772 —1833),— инд. религ. и социальный реформатор, идеолог неоиндуизма, основоположник светского образования и бенг. нац. лит-ры. Религ.-фи-лос. взгляды Р. сформулированы в трактатах «Дар монотеистам», «В защиту индусского теизма», комментариях к «Краткому изложению Веданты», предисловии и комментариях «Упанишад» и других др.-инд. текстах. Р. выступил как критик индусской ортодоксии (хотя и признавал непогрешимость Вед) с ее политеизмом, идолопоклонством и религ. неравноправием. Р. развил идею рациональной, последовательно моно-
теистич. религии, в к-рой синтезировались элементы индуизма, ислама и нек-рых этич. принципов ован-гелич. христианства. В основе этой религ. системы — представление о едином неперсонифицированном божестве, управляющем универсумом и являющемся его единств, первопричиной. Но филос. позиции Р. не были последовательны: вступая в противоречие с развиваемой им объективно-идеалистич. концепцией, Р. утверждал несотворимость материального мира; он заявлял, что нематериальное божество не «могло быть материальной причиной» атомов (ану), из к-рых состоит материя. Р. выражает уверенность в существовании природных закономерностей и причинных связей, к-рые познаваемы.
Философия и религия, согласно Р., должны служить социальному идеалу — преобразованию действительности на основе разума и справедливости. Он выражал сочувств. отношение к зап.-европ. революц. движениям и был глубоко убежден в том, что «народные движения» в конечном счете одержат победу над «врагами свободы, приверженцами самодержавия». Борьба Р. против индусской реакции, проповедь единобожия и религ. универсализма, выступление против кастового неравноправия и разделения людей, против дикости ср.-век. традиций способствовали пробуждению нац. самосознания инд. народа.
Соч.: The English work, Allahabad, 1906.
Лит .: Комаров Э. Н., Рам Мохан Рай— просветитель и провозвестник нац. движения Индии, в сб.: Общественно-по-литич. и филос. мысль Индии, М., 1962, с. 5—65; S i n g h J., Rammohum Roy, v. 1, Bombay, 1958; Collet S. D., The life and letters of raja Rammohum Roy, Calcutta, 1962.
С. Кедрова. Москва. РАМОН-И-КАХАЛЬ (Ramon у Cajal), Сантьяго (1852—1934) — исп. естествоиспытатель, развивавший (хотя и с нек-рыми уступками позитивизму и агностицизму) материалистич. традиции испанской философии; выступая против неовитализма, выдвинул т. н. нейронную теорию, близкую павловскому принципу «приурочения нервных процессов к конструкции нервной ткани». Оценивая значение и историч. перспективы философии, он считал, что в будущем она явится простым синтезом науч. теорий.
С о ч.: Obras literarias completas, [2 ed.], Md, 1950.
Лит.: История философии, т. 5, М., 1961, с. 683 — 84.
РАМОС (Ramos), Самуэль (1897 — 1959) — мекс. философ, последователь Ортеги-и-Гасета. Изучал философию в ун-тах Мехико, Рима и Парижа, где познакомился с философией Гуссерля, Шелера, Н. Гарт-мана и Хейдеггера. Преподавал философию в Нац. авт. ун-те Мехико. Р. рассматривал вопросы истории и специфики нац. культуры с позиций, близких к экзистенциализму; за исходный методологич. принцип он берет осн. тезис ортегианской философии: «... я есть я и вое, что вокруг меня, и если я не спасу все меня окружающее, то не спасусь и я сам» («His-toria de la filosofia en Mexico», Мех., 1943, p. 153). Причем под «окружающим» Р. понимает комплекс идей и теорий, т. е. культуру в целом. Поскольку судьба культуры связана с индивидуальной волей, Р. делает вывод о необходимости активного участия отд. личности в развитии («спасении») нац. духовной жизни.
С оч.: Hipotesis, Мех., 1928; El perfil del hombre у la culture en Mexico, Мех., 1934; Hacia un nuevo humanismo..., Мех., [1940]; Historia de la filosofia en Mexico, Мех., 1943; El pro-blema del «a priori» у la experiencia, Мех., 1955.
Лит .: Roman ell P., La formacion de la mentalidad
mexicana, Мех., [1954]; Z e a L., La filosofia en Mexico, t. 1 — 2,
Мех., 1955; V i 1 1 e g a s A., La filosofia de lo mexicano, Мех.,
1963., А . Дерюгина . Москва.
РАМУС, П.—см. Раме, П.
РАНК (Rank), Отто (1880—24 окт. 1939) — австр. психолог и психотерапевт, предшественник неофрейдизма; один из основателей журн. «Imago» (1912). С конца 20-х гг. жил в США, выступал с лекциями в ун-тах. В ранних работах, написанных под влия-
РАПОПОРТ —РАСА 46 S
 нием Фрейда, Р. стремится с позиций психоанализа истолковать процесс художеств, творчества («Der Kunstler», W., 1907, 4 Aufl., Lpz., 1925), мифологию и т. п. В своем осн. соч. «Травма рождения» («Das Trauma der Geburt unci seine Bedeutung fur die Psychoanalyse», Lpz., 1924) P. выдвинул собств. психологич. концепцию, в к-рой решающим фактором развития выступает страх, вызванный травмой рождения. Человеч. психика, по Р., изначально травмирована мучительным актом рождения, разрывом с природой, образующим корень психического. Поведение человека определяется в конечном итоге стремлением вернуться в потерянный рай внутриутробного состояния, к-рое с развитием культуры приобретает все более сублимированные формы. Однако это стремление блокируется воспоминанием об «ужасе рождения». Для нормального развития личности требуется преодоление травмы, что и является целью разработанной Р. системы психотерапии. В работах 30-х гг. Р. отходит от подобной (биологизаторской) трактовки психики и обращается к проблеме формирования индивидуальности. Оно, согласно Р., начинается с разрыва биология, связей в акте рождения и продолжается уже на психологич. уровне. Однако каждый шаг порождает при этом чувство покинутости, одиночества, активизируя травму рождения. Опыт свободы травматичен, если не ведет к установлению новой связи с миром на более высоком уровне. В противном случае платой за свободу становится невроз (положение, буквально заимствованное и развитое Фроммом). В связи с этим Р. пытается осмыслить проблему воли, к-рая трактуется им как автономная творческая сила, состоящая на службе у индивидуации, а также — решить задачу «терапии воли» (will therapy). В целом учение Р. оказалось соединительным звеном между психоанализом Фрейда с его позитивистскими установками и совр. течениями глубинной психологии, в частности — неофрейдизмом.
нием Фрейда, Р. стремится с позиций психоанализа истолковать процесс художеств, творчества («Der Kunstler», W., 1907, 4 Aufl., Lpz., 1925), мифологию и т. п. В своем осн. соч. «Травма рождения» («Das Trauma der Geburt unci seine Bedeutung fur die Psychoanalyse», Lpz., 1924) P. выдвинул собств. психологич. концепцию, в к-рой решающим фактором развития выступает страх, вызванный травмой рождения. Человеч. психика, по Р., изначально травмирована мучительным актом рождения, разрывом с природой, образующим корень психического. Поведение человека определяется в конечном итоге стремлением вернуться в потерянный рай внутриутробного состояния, к-рое с развитием культуры приобретает все более сублимированные формы. Однако это стремление блокируется воспоминанием об «ужасе рождения». Для нормального развития личности требуется преодоление травмы, что и является целью разработанной Р. системы психотерапии. В работах 30-х гг. Р. отходит от подобной (биологизаторской) трактовки психики и обращается к проблеме формирования индивидуальности. Оно, согласно Р., начинается с разрыва биология, связей в акте рождения и продолжается уже на психологич. уровне. Однако каждый шаг порождает при этом чувство покинутости, одиночества, активизируя травму рождения. Опыт свободы травматичен, если не ведет к установлению новой связи с миром на более высоком уровне. В противном случае платой за свободу становится невроз (положение, буквально заимствованное и развитое Фроммом). В связи с этим Р. пытается осмыслить проблему воли, к-рая трактуется им как автономная творческая сила, состоящая на службе у индивидуации, а также — решить задачу «терапии воли» (will therapy). В целом учение Р. оказалось соединительным звеном между психоанализом Фрейда с его позитивистскими установками и совр. течениями глубинной психологии, в частности — неофрейдизмом.
Соч.: Значение психоанализа в науках о духе, пер. с нем., СПБ, 1914 (совм. с Г. Заксом); Der Mythus von der Geburt des Helden, W., 1909, 2 Aufl., Lpz., 1922; Der Doppelganger, Lpz., 1925; Grundziigc einer genetischen Psychologie auf Grand der Psychoanalyse der Ichstruktur, Bd 1—2, W., 1927—28; Sexualitat und SchuldgefUhl, Lpz., 1926; Eine Neurosenanalyse in Traumen, W., 1924; Wahrheit und Wirklichkeit. Entwurf elner Philosophie des Seelischen, W., 1929; Rite and creation, N. Y., 1932. ■ Лит .: M u 1 1 a h у Р., Oedipus. Mith and complex, N. Y., 1948' Bailey P., An introduction to Rankian psychology,-«Psychoanalytic Review», 1935, v. 22, p. 182—211; К а г р f P., The psychology and psychotherapy of Otto Rank, N. Y., 1953; Wyss D., Die tiefenpsyehologischen Schulen, von den Anfan-gen bis zur Gegenwart, Gott., 1961, S. 255—63.
Д. Ляликов. Москва. РАПОПОРТ (Rapoport), Анатоль (р. 22 мая 1911) — амер. философ, психолог, специалист в области мате-матич. биологии. Окончил Чикагский ун-т (1941). С 1955 — проф. математич. биологии Ии-та психиатрии Мичиганского ун-та. Президент Междунар. об-ва общей семантики (1953—55), один из ведущих редакторов журналов «ETC», «Behavioral Science» и ежегодника «General Systems». В философии Р. — один из виднейших представителей операционализма, к-рый гл. обр. благодаря его трудам («Operational philosophy», N. Y., 1953) получил собственно филос. интерпретацию. Гл. предмет филос. исследований Р. — анализ взаимоотношений между мышлением и действием. Специально-науч. интересы Р. лежат в области науки о поведении: именно с этой т. зр. он рассматривает общую семантику, к-рая, по его мнению, должна указать направление построения науки о человеке. В своих экспериментально-психологич. работах Р. анализирует формы поведения человека в конфликтных ситуациях; он один из первых применил теорию игр для психологич. анализа (см. «Prisoner's dilemma», Ann Arbor, 1965, совместно с А. М. Chammah). Большое внимание Р. уделяет разработке и пропаганде
идей «общей теории систем». В области социологии Р., солидаризируясь с Ч. Р. Миллсом, выступает за необходимость построения «макроскопических» (общих) социальных теорий.
С о ч.: Science and the goals of man, N. Y., [1950]; Fights,
games and debates, [Ann Arbor], 1960; Experimental games:
a review, «Behavioral science», 1962, v. 7, № 1; Mathematical
aspects of general systems theory, «General Systems», 1966,
v. 11; A taxonomy of 2x2 games, там же; совм. с М. Guyer);
Экспериментальное исследование параметров самоорганизации
в группах из трех испытуемых, в сб.: Принципы самооргани
зации, пер. с англ., М., 1966. В. Садовский. Москва.
РАСА (санскр. rasa, буквально — вкус) — одно из осн. понятий др.-инд. эстетики; означает настроение, характеризующее восприятие произв. иск-ва. Начиная с древнейшего эстетич. трактата Натъяша-стра, инд. теории иск-ва различают восемь видов Р.: любви, веселья, горя, гнева, героизма, страха, отвращения, удивления. Каждый из этих видов Р. соответствует определ. чувству (bhava), но не совпадает с ним; проблема ях соотношения послужила предметом дискуссии между комментаторами «Натьяша-стры», из к-рых одни (как Шанкука) признавали Р. имитацией чувства, другие же устанавливали более сложные связи между чувством и Р. Согласно концепции, впервые изложенной в «Натьяшастре», Р. возникает благодаря сочетанию трех факторов: возбудителей (vibhava), симптомов (anubhava) и второстепенных чувств (vyabhicaribhava). Возбудителями считаются условия, способствующие пробуждению чувств; в свою очередь, они делятся на главные (напр., герои) и второстепенные (напр., обстоятельства времени и места, различные предметы, явления природы, цвета и т. п.). Симптомами считаются проявления чувств, также подробно классифицируемые. Второстепенных чувств насчитывается тридцать три (к ним, напр., относятся радость, стыд, отчаянье, смерть и т. д.); они не могут быть главными ни в одном произв.
Характер психологич. процесса, посредством к-рого образуется Р. при восприятии произв. иск-ва, по-разному интерпретировался представителями разных филос. школ. Шанкука, являвшийся последователем школы нъяя, исследовал в свете учения Дхармакирти соотношение между логич. выводом и эстетич. восприятием, при к-ром не проводится различия между истинным и ложным. Бхатта Лоллата, представитель школы миманса, развивал мысль о естеств. происхождении Р., объясняемом тремя осн. факторами. Бхатта Найака (10 в.), принадлежавший к школе сан-кхъя, считал, что Р. связана с саттва — источником добра и блаженства; Р. достигается благодаря наличию у поэтич. слова наряду с осн. функцией — выражения, второй функции — осуществления, заключающейся в устранении умств. инертности и затемненное™. Различные концепции Р. были подвергнуты критич. рассмотрению в трактате последователя философии веданта Абхинавагупты (10—11 вв.) «Аб-хинавабхаратш), где Р. связывается с состоянием всеобщности, благодаря к-рому уничтожаются характеристики времени, места и т. п., сопутствующие обычным чувствам, и слушатель (или читатель) испытывает наслаждение, связанное с отсутствием заинтересованности. Суть Р. заключается в универсализации объекта и субъекта, к-рый обращается к самопознанию. Возникновение Р. объясняется пробуждением безначальных скрытых впечатлений, истоки к-рых лежат в цепи перерождений. Концепции Р. и дхвани оказываются у Абхинавагупты слитыми воедино, и дхвани, скрытый смысл слова, рассматривается как гл. источник Р.—в противоположность Маммате (И в.), к-рый связывает дхвани не только с Р., но и с поэтич. фигурами и содержанием. Вишванатха (14 в.), сторонник философии веданта, видел в Р. сходство с состоянием созерцания божества; обращая особое
466
РАСИЗМ —РАСПРЕДЕЛЕННОСТЬ ТЕРМИНОВ В СУЖДЕНИИ
 внимание, как и др. теоретики Индии, на языковое воплощение Р., он определял поэзию как «речь, душа которой — раса». Учение о Р. как истинной сущности поэзии, намеченное уже в соч. Анандавардханы (9 в.) «Дхваньялока» и развитое Абхинавагуптой и Вишва-натхой, было развернуто в трактате Джаганнатхи (17 в.) «Расагангадхара».
внимание, как и др. теоретики Индии, на языковое воплощение Р., он определял поэзию как «речь, душа которой — раса». Учение о Р. как истинной сущности поэзии, намеченное уже в соч. Анандавардханы (9 в.) «Дхваньялока» и развитое Абхинавагуптой и Вишва-натхой, было развернуто в трактате Джаганнатхи (17 в.) «Расагангадхара».
Инд. концепции Р. как преодоления ограниченности обычных чувств обнаруживают значит, сходство с концепцией иск-ва как катарсиса у Аристотеля, продолжаемой и в новейших эстетич. учениях (см., напр., Л. С. Выготский, Психология искусства, М., 1965). Теория возбудителей чувств может быть сопоставлена с концепцией прописи, преподносимой в произв. иск-ва, в работах по психологии выразительности С. М. Эйзенштейна. Теория двух функций слова находит аналог в совр. теории поэтич. слова (Р. О. Якобсон и др.), в частности устранение инертности в поэтич. слове можно сравнить с теорией «ост-ранения» в рус. формальной школе (или «эффектом отчуждения» у Б. Брехта).
Лит.: История эстетики. Памятники мировой эстетич.
мысли, т. 1, М., 1962, с. 387—423; ЩербатскойФ. И.,
Теория поэзии в Индии, в сб.: Избр. труды рус. индологов-
филологов, М., 1962; Эр м а н В. Г., Теория драмы в древнеинд.
классич. лит-ре, в сб.: Драматургия и театр Индии, М., 1961;
Г р и н ц е р П. А., Теория эстетич. восприятия («Р.») в др.-
инд. поэтике, «Вопр. лит-ры», 1966, № 2; LindcnauM., Bei-
trage zur altindischen Rasalehre, Lpz., 1913; Mukarji S. C,
Le Rasa, essai sur l'esthetlque intlienne, P., 1928; Santa-
ran A., Some aspects of literary criticism in Sanskrit or the
Theories of Rasa and Dhvani, Madras, 1929; G n о 1 i R., The
aesthetic experience according to Abhinavagupta, Roma, 1956;
Krishnamoorthy K., «Rasa» as a canon of literary
criticism, «Aryan path», 1959, v. 30, № 11; Edgerton F.,
Indirect suggestion In poetry: a Hindu theory of literary aesthe-
ticss «Proceedings of the American Philosophical Society»,
1936.» v. 76, Ms 5. В. Иванов. Москва.
РАСИЗМ — совокупность антинауч. реакц. теорий, согласно к-рым все явления в жизни и развитии общества обусловлены биологическими (расовыми) особенностями людей. В основу развития общества идеологи Р. кладут вымышленную борьбу рас. Р. сознательно смешивает естественноисторич. и социальные различия людей. Тем самым такая биоло-гич. категория, как раса, наделяется несвойственными ей социальными чертами, а такие социальные категории, как класс, нация, язык и культура, био-логизируются. Р. утверждает, будто человеч. расы биологически и психически неравноценны, что существуют т. н. «высшие» расы, способные к достижению вершин культуры и цивилизации, и «низшие» расы, неспособные к культурному прогрессу.
Р. возник в рабовладельч. обществе (хотя тогда не существовало еще термина «раса»). Господа и рабы рассматривались как принципиально различные «породы» людей. В эпоху первонач. накопления и начала колониальной экспансии (16—17 вв.) сложилась «теория» неравноценности человеч. рас, служившая обоснованием колониализма. С выделением антропологии в самостоят, науку (сер. 19 в.) и разработкой детальной классификации человеч. рас идеологи Р. пытаются, вопреки науч. данным, связать расы с языками и, в частности, найти расу, являющуюся «носителем» индоевроп. языков (франц. социолог Гобино и др.). В основе совр. Р. лея-сит т. н. социальный дарвинизм, извращающий учение Дарвина путем перенесения установленных им биологич. законов (естеств. отбор и борьба за существование) на человеч. общество. Эта теория, названная расистами «ант-ропосоциологией» (Л. Вольтман, Аммон, Лапуж, X. Чемберлен и др.), служит обоснованием колониализма и эксплуатации.
В эпоху империализма наиболее острые формы приобретают герм, и англо-амер. Р. В конце 19 — нач. 20 вв. герм, расисты заимствовали теорию Гобино о превосходстве «германской» расы над всеми на-
родами мира. Герм, фашизм возвел Р. в офиц. идеологию, служившую обоснованием чудовищных злодеяний. В США и Англии Р. возник во 2-й пол. 19 в. Совр. поборники Р. в этих странах, также базирующиеся на социальном дарвинизме, мальтузианстве и евгенике, выдвигают идею превосходства англо-амер. расы над всеми народами мира (У. Фогт, Хантингтон, Хутон). Расовые предрассудки в США используют в своих целях реакц. политич. деятели. В последние десятилетия в США и др. империалистич. странах получила широкое распространение реакц. теория т. н. психологич. Р. (психорасизма), идеологи к-рого стремятся доказать психологич. неравноценность народов и рас. Теоретики психорасизма (Карди-нер, Р. Бенедикт и др.) утверждают, что каждый народ имеет свою «структуру характера», и «среднюю психику», к-рые передаются от поколения к поколению путем воспитания и определяют его культурный облик. Согласно этим концепциям, народ с «плохой» психикой может изменить ее лишь при условии «помощи» со стороны народа, обладающего «хорошей» психикой.
Культурная отсталость нек-рых народов внеевроп. стран объясняется не их биологич. (расовыми) особенностями, как утверждают идеологи Р., а гл. обр. гнетом колонизаторов, задержавших прогрессивное развитие порабощенных народов. Реакц. идеология Р. опровергается не только теоретически, но и практикой социалистам, стран, где ранее отсталые народы достигли невиданного расцвета своей культуры, а также успехами народов, освободившихся от колониального гнета.
Лит.: Д е м и д е и к о А. И., Расизм на службе,империализма, М., 1954; Нестурх М. Ф., Человеческие расы, 2 изд., М., 1958; Р о г и и с к и й Я. Я. и Л е в и н М.Г., Антропология, [2 изд.], М., 1963; Против расизма. [Сб. ст.], М., 1966.
М. Урысои. Москва.
|
|
РАСПРЕДЕЛЕННОСТЬ ТЕРМИНОВ В СУЖДЕНИИ — технич. выражение, используемое традиц. логикой в теории суждения и умозаключения. Говорят, что термин распределен, если он мыслится во всем объеме. Во всех остальных случаях термин наз. нераспределенным. Напр., в суждении «все квадраты — прямоугольники» термин «квадрат» — распределен, поскольку в данном суждении речь идет о всем объеме понятия «квадрат», т. е. о всех квадратах. Приняты след. правила Р. т. в с: субъект суждения распределен во всех общих суждениях и не распределен в частных суждениях, предикат суждения распределен во всех отрицат. суждениях и не распределен в утвердит, суждениях. Обычно эти правила иллюстрируются с помощью кругов Эйлера, представляющих объемы понятий (классы). Напр., Р. т. в с. вида «все S суть Р», в к-ром класс S целиком включается в класс Р, изображается след. образом: Для наглядности класс S ограничен сплошной линией, т. к. имеются; в виду все S , а класс Р — пунктирной линией, т. к. неизвестно, каковы границы класса Р: в зависимости от конкретного значения Р он может или совпадать с S («все квадраты — прямоугольники с равными сторонами»), или быть больше S по объему («все квадраты — параллелограммы»), но S всегда совпадает по крайней мере с частью Р.
Устанавливая правила Р. т. в с, иногда принимают во внимание деление суждений на выделяющие и невыделяющие. В связи с этим правила Р. т. в с. общеутвердительных и четноутвердительных формулируются несколько иначе. Однако следует учитывать, что проблема Р. т. в с. этого типа носит особый характер, поскольку предполагает привлечение дополнит, сведений об отношении классов S и Р, и что,
РАССЕЛ
467
 следовательно, ее нельзя смешивать с проблемой Р. т. в с, взятом безотносительно к упомянутым дополнит, сведениям.
следовательно, ее нельзя смешивать с проблемой Р. т. в с, взятом безотносительно к упомянутым дополнит, сведениям.
Лит.: Введенский А. И., Логика как часть теории познания, М.— П., 1917, с. 172—74; Челпанов Г. И., Учебник логики, [М.], 1946, с. 45—49; Асмус В. Ф., Логика, [М.], 1947, с. 97—108; Строг ович М. С, Логика, [M.J, 1949, с. 177—79; Г о р с к и й Д. П., Логика, М., 1958.
А. Ветров. Москва.
|
|
РАССЕЛ (Russell), Бертран (р. 18 мая 1872) — англ. философ, логик, математик, социолог, общественный деятель. Р. прошел сложную эволюцию взглядов, которую сам он определил как переход от платоновской интерпретации пифагореизма к юмизму. После кратковрем. увлечения гегельянством в его англ. версии (1897) Р. перешел к платоновскому варианту абс. идеализма (см. его «A critical exposition of the philosophy of Leibniz», Camb., 1900), а затем иод влиянием Мура, Мейнонга, Уайтхеда к неореализму (см. его «The problems of philosophy», N. Y., 1911). Дальнейшая эволюция взглядов Р. состояла во все большем ограничении областей реальности, к-рым приписывается онтологически самостоятельное существование: если вначале Р. учил об особом бытии (subsisting) как бы «априорных» логич. отношений, то в 20—30-х гг., сближаясь с неопозитивизмом, Р., после ряда колебаний, признал реальность лишь за чувств, данными (sense-data, particulars), входящими в состав т. н. «нейтральных» фактов (events).
Сложившаяся в его книгах «The analysis of mind» (N. Y.—L., 1924), «The analysis of matter» (N. Y.— L., 1927), «An outline of philosophy» (L., 1927) концепция «нейтрального монизма» усматривала в понятиях «дух» и «материя» лишь логич. конструкции из чувств, данных и была близка к прагматизму Джемса и махизму. Она отличалась от последнего гл. обр. своеобразной терминологией: «Я верю,— писал Р.,— что материя менее материальна, а дух — менее духовен, чем полагают...» («The analysis of matter», L., [1954], p. 7). В 40—50-х гг. Р. обращается к идеям Юма. В «An inquiry into meaning and truth» (L., 1940) он допускает существование «фактов», к-рые, в отличие от «опыта», объективны, но объективность их основана лишь на «вере» в бытие внешнего мира. В работе «Человеческое познание. Его сфера и границы» (L., 1948, рус. пер., М., 1957) Р. формулирует пять постулатов науч. метода познания «физического мира», к-рые, по его мнению, образуют предварит, условия правдоподобности индуктивных обобщений, в форме которых это познание осуществляется (см. указанное сочинение, с. 453—540). Философская эволюция Р. соответствовала изменениям в содержании настойчиво проводившейся им широкой программы приложения средств математической логики к теоретико-познават. исследованиям. На иеореалистском и позитивистском этапах его эволюции эта программа вела к растворению теории познания в логич. анализе (наравне с Муром, Р. был основоположником логического анализа философии). Частью указанной программы явился его логицизм, а также известное (близкое номинализму) решение «проблемы существования» на основе разработанного им учения о дескриптивных определениях (см. Описания операторы). При этом Р. попытался снять противопоставление объективного и субъективного существования в понятии «существование вообще»: «Существует только один „реальный" мир, воображение Шекспира — его часть; аналогично
реальны мысли, которые он имел, когда писал „Гамлета". Точно также реальны мысли, которые мы имеем, читая эту трагедию» («Introduction to mathematical philosophy», L.— N. Y., 1924, ch. XVI, p. 169). В 10—20-е гг.Р. сформулировал концепцию логического атомизма, но не принял конвенционализма и физика-лизма, в их крайней, ведущей к солипсизму форме. В целом Р. сыграл значит, роль в формировании британской разновидности неопозитивизма (логического позитивизма)^ одной стороны, позитивистски истолковывая результаты своих логико-матем. исследований, с др. стороны, исправляя своей критикой «чересчур» субъективистские выводы Венского кружка. В частности, он выступил против огульной характеристики проблем традиц. философии, как псевдопроблем. Философия, по его мнению, занимает «ничейную» область между наукой и теологией, пытаясь дать соответствующие требованиям научности ответы на вопросы, в к-рых бессильна теология. И хотя философия не является наукой, она все же представляет определ. духовную силу, оказывающую значит, влияние на жизнь общества и его историю. Р. признает взаимную связь философии с политическими и социальными условиями развития общества. История философии, по Расселу, это история оригинальных концепций выдающихся творческих личностей, оказывающих своими системами существенное воздействие на обществ, жизнь. Наиболее плодотворными традициями в истории философии Р. считает антиклерикализм и стремление поставить теоретико-познавательные исследования на почву логики. В своей кп. «История западной философии» (N. Y., 1945, рус. пер., М., 1959) Р. уделяет наибольшее внимание тем философам, к-рых в той или иной мере ститает предшественниками философии логического анализа. В социологии он близок к психологизму и т. н. «теории факторов». В этике и политике Р. придерживается позиции бурж. либерализма, выступая против теорий, проповедующих, подобно фашизму, полное поглощение личности обществом и гос-вом. Он отрицательно относится к христианству и в особенности к ханжеству религ. морали, противопоставляя ей мораль «науки свободного разума». Особенностью этич. и общест-венно-политич. позиции Р. последних лет является ее антиимпериалисгич. направленность, непримиримость к войне, к насильственным, агрессивным методам в междунар. политике. Р. выступает на стороне прогрессивных обществ, сил, за запрещение ядерного оружия, за мирное сосуществование (см. его кн.: «Common sense and nuclear warfare», L., 1959; «Has man a future?», L., 1961; «War crimes in Vietnam», L., 1967).
О взглядах Р. в области философии математики и логики подробно см. в ст. Логицизм, Логический атомизм, Математическая бесконечность, Парадокс, Типов теория и лит. при этих статьях.
Соч.; An essay on the foundations of geometry, Camb., 1897; Meinong's theory of complexes and assumptions, «Mind», 1904, v. 13, № 50—52; On denoting, там же, 1905, v. 14, № 56; Philosophical essays, L., 1910; Our knowledge of the external world as a field for scientific method in philosophy..., Chi.—L., 1915; Principles of social reconstruction, L., 1916; War the offspring of fear, L., [19161; Roads to freedom. Socialism, anarchism and syndicalism, L., [1918]; Philosophy of logical atomism, «Monist», 1918—19, № 28—29; Icarus or the future of science..., L., 1924; What I believe, N. Y., 1925; Education, especially in early childhood, L., 1926; Sceptical essays, N. Y., [1928]; Marriage and morals, N. Y., 1929; The conquest of happiness, L., 1930; Education and the social order, L., 1932; Freedom versus organisation. 1814—1914, N. Y., 1934; In praise of idleness..., L., 1935; The limits of empiricism, «Proc. of the Aristotelian Society», 1935—36, v. 36; Which way to peace?, [L.], 1936; Power: A new social analysis..., N. Y., [1938j; Scientific method in philosophy, Oxf., 1914; War, the offspring of fear, L., 1915; Political ideals, N. Y., 1917; The prospect of industrial civilisation, L., 1923; What I believe, N. Y., 1925; Religion and science, N. Y., 1935; Philosophy and politics, L., 1947; Authority and the in-
468
РАССУДОК — РАСЫ
 dividual, Ь ., 1949; Unpopular essays, L., 1950; New hopes for a changing world, L., 1951;Human society in ethics and politics, N. Y., 1955; Portraits from memory and other says, L., 1956; Logic and knowledge, L., 1956; Mysticism and logic, N. Y., 1957; My philosophical development, N. Y., 1959; в рус. пер.— Германская социал-демократия, СПБ, 1906; Проблемы философии, СПБ, 1914; Воздействие науки на общество, М., 1952; Почему я не христианин, М., 1958.
dividual, Ь ., 1949; Unpopular essays, L., 1950; New hopes for a changing world, L., 1951;Human society in ethics and politics, N. Y., 1955; Portraits from memory and other says, L., 1956; Logic and knowledge, L., 1956; Mysticism and logic, N. Y., 1957; My philosophical development, N. Y., 1959; в рус. пер.— Германская социал-демократия, СПБ, 1906; Проблемы философии, СПБ, 1914; Воздействие науки на общество, М., 1952; Почему я не христианин, М., 1958.
Лит.: ХодалевичД. А., Критика «нейтрального мо
низма» Б. Рассела, в сб.: Критика совр. буржуазной фило
софии и ревизионизма, М., 1959; История философии, т. 5,
М., 1961, гл.. 13; Н а р с к и й И. С, Философия Б. Рассела,
М., 1962. И. Нарский. Москва.
РАССУДОК — форма мышления, в к-рой его всеобщая диалектич. природа осуществляется и проявляется превращенно — как специфически субъективная способность логически обрабатывать материал познания, придавая ему определенность, организованность и строгость, а также как дискурсивное движение в нем. Р., в противоположность интуиции, представляется лишенным творч. функций, хотя на деле они лишь не находят в Р. явного выражения. Следует отличать Р. как филос. категорию от обыденного Р. (см. Здравый смысл).
В пределах Р. абстракции наделяются самостоят., самодовлеющим значением. Поэтому мышление, становясь рассудочным, выступает как якобы лишь абстрактное в противовес чувственности, к-рая представляется монополизирующей конкретность. Отсюда — характернейшие черты Р.: ориентация на абстрактное тождество, абстрактную всеобщность и т. п. Поскольку Р. выносит характеристики мышления как творч. процесса вне себя, он фиксирует лишь результаты разрешения всякого диалектич. противоречия, безотносительно к самому противоречию. Такие результаты неизбежно получают форму разрозненных фрагментов, замкнутых в себе «систем готового знания», не поддающихся никакому рацион. синтезу друг с другом средствами Р.
Р. разрывает эмпирич. и собственно теоретич. способы применения мышления и превращает их в самостоят, «типы», из к-рых второй якобы не глубже проникает в предмет, а воспаряет над ним в абстракции. Для Р. характерны рядоположность, внешняя рефлексия. В особенности Р. свойственно гипертрофирование категории различия: с его т. зр. дистинкция есть высший символ научности. Языковое выражение, к-рое никогда не может быть единств, способом опредмечивания мыслит, деятельности, фетишизируется (знаковый фетишизм). Поэтому специфич. законам языковых операций процесса рассуждения придается значение законов будто бы самого познающего мышления. Отсюда иллюзия, будто логикой мышления должна быть не содержательная, а формальная логика. Р. гасит в знании, взятом как внешний результат, его собств. характер генетич. процесса, подменяя строгость понимания строгостью изложения. Тем самым Р. придает понятию форму, «лишенную понятия» (см. К. Marx, Das Kapital, Bd 1, В., 1960, S. 106; Bd 3, В., 1960, S. 197, 225, 382, 387, 428, 435, 869). P. свойственна иллюзия, будто возможна алгоритмизация мышления, его машинизация. На деле к движению по алгоритму не сводимо также и рассудочное мышление, ибо и здесь оно остается содержательным и подчиняется содержательной логике, хотя и в превращенной форме. Именно Р. выступает как «огрубляющее» мышление, ставящее созданную субъективной рефлексией связь на место явно предметной связи.
Марксизм объясняет Р. как превращенную форму на пути анализа его с т. зр. социальной природы познания. Р. как самостоят, форма, не снятая разумом, а противостоящая ему, есть не вечная, а исторически преходящая форма, порожденная разделением деятельности, ее отчуждением. Особенность Р. и его предмета всецело определяется этими особенностями
деятельности. Р. есть способ мышления, позволяющий использовать в формально-присвоенной, но творчески не освоенной форме гораздо большую теоретич. культуру, чем та, к-рая стала достоянием способностей использующего ее индивида. Однако посредством Р. все же совершается положит, работа мысли. Поэтому науч. критика Р. должна обнаруживать в нем превращенные формы познающего мышления, в противовес нигилистич. отрицанию Р. иррационализмом, алогизмом.
Р. не способен отстоять науку от субъективистско-идеологич. элемента, напротив, он мирно уживается с ним, даже придавая ему респектабельный, наукообразный вид. Так, вульгарная политич. экономия, оставаясь в плену «отчужденных но отношению к внутренней связи форм проявления», «лишь вносит известный рассудочный порядок» в воспроизводящие их представления (см. там же, Bd 3, S. 829, 885). Вульгарная т. зр. принимает формальную организованность фрагментарного знания за рациональность познания, а его универс. целостность и творч. характер— за нечто «иррациональное». Уже Гегель понял, что эта мнимая рациональность «... принадлежит на деле области рассудка», а это мнимое «иррациональное» есть «начало и след разумности» (Соч., т. 1, М.—Л., 1929, с. 336). Подчеркнув правоту этой мысли Гегеля (см. К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 25, ч. 2, с. 340—41), Маркс показал, что превращенные формы, фрагментарные и «лишенные понятия», суть объективно существующие иррациональные формы (см. там же, с. 389). «Рассудок нисколько не спотыкается о них» именно потому, что сам он — столь же превращенная, полная иррациональности форма познания (см. К. Marx, Das Kapital , Bd 3, S. 829). Поэтому анализ Р.— ключ к критике иррационализма, как такой реакции на Р., к-рая, находясь в негативной зависимости от него, еще не способна его преодолеть.
Р. есть несуверенное мышление, заведомо подчиненное внешней целесообразности. Р.— носитель стандартности, слепой нормативности. С подлинно филос. проблематикой Р. не справляется и сдает ее враждебным разуму силам.
В сов. филос. лит-ре развивается и иная т. зр. на Р. (П. В. Копнин), согласно к-рой Р. есть низшая, нетворч. форма всякого теоретич. мышления, общая человеку с нек-рыми животными и информац. машинами. Историко-филос. очерк и лит. см. при ст. Разум.
Г. Батищев. Москва.
«РАССУЖДЕНИЕ О МЕТОДЕ...» (1637) — соч. Декарта, в к-ром сжато изложено его филос. учение.,
РАСЫ человеческие (от итал. razza) — исторически сложившиеся группы людей, характеризующиеся общностью наследственно закрепленных морфология, (телесных) особенностей и имеющие общее происхождение. Совр. человечество принято разделять на 3 большие Р. (или «Р. первого порядка»): негроидную, монголоидную и европеоидную. В основу подобного разделения кладутся след. признаки: цвет кожи, форма волос, степень развития волосяного покрова на теле, особенности формы и строения мягких частей лица (нос, губы). Негроидная Р.— темная кожа, курчавые (спирально закрученные) волосы, среднее развитие волосяного покрова на теле, прогнатизм (выступание верхней челюсти), умеренное вы-ступание скул, широкий нос, толстые губы. Монголоидная Р.— желтоватая кожа, прямые волосы, слабый волосяной покров на теле, сильное выступание скул, умеренно толстые губы, наличие т. н. «монгольской складки» верхнего века (эпикантуса). Европеоидная Р.— светлая кожа, волнистые волосы, сильный волосяной покров на теле, ортогнатизм
РАТЦЕЛЬ — РАЦИОНАЛИЗМ
469
 (отсутствие выступания верхней челюсти), слабое выступание скул, узкий нос, тонкие губы.
(отсутствие выступания верхней челюсти), слабое выступание скул, узкий нос, тонкие губы.
Внутри больших Р. обычно выделяют более дробные расовые группы («Р. второго порядка»), различающиеся между собой по форме головы (головной указатель), росту, пигментации волос и глаз и др. второстепенным особенностям. Напр., в пределах европеоидной Р. выделяют северную, альпийскую, средиземноморскую, балтийскую и др. Р., негроидной — негрскую, негрилльскую, меланезийскую, бушменскую и др., монголоидной — центральноазиат-скую, байкальскую, южносибирскую и т. д.
Поскольку Р. представляют собой группы, входящие в состав вида совр. человека (Homo sapiens), в бурж. антропологии широко распространено представление, согласно к-рому Р. человека аналогичны подвидам животных. Сов. антропологи убедительно доказали несостоятельность этого мнения. Принципиальное отличие Р. человека от подвидов животных заключается в том, что расовые признаки человека в наст, время не имеют приспособительного (адапти-тивного) значения и не подвергаются действию естеств. отбора. Хотя первоначально Р. возникли в процессе приспособления к определ. географич. среде, все совр. Р. живут в самых разнообразных природных условиях. В то время как подвиды животных в процессе приспособит, дифференциации могут превращаться в новые виды, Р. человека не могут дать начало новым видам (вследствие того, что естеств. отбор полностью прекратил свое действие в человеч. обществе). Обществ, развитие обусловливает все более интенсивное смешение Р., что приводит постепенно к стиранию расовых различий. Все Р. совр. человека находятся на одном и том же уровне эволюц. развития. Расовые различия касаются лишь внешних признаков человека и не затрагивают жизненно важных морфо-логич., физиологич. и психич. его особенностей. Утверждения о наличии психич. различий между человеч. Р. (см. Расизм) противоречат данным совр. науки. Уровень развития культуры различных народов обусловлен не биологическими (расовыми), а соци-алыю-историч. факторами.
Лит. см. при ст. Расизм. М. Урысон. Москва.
РАТЦЕЛЬ (Ratzel), Фридрих (30 авг. 1844—9 авг. 1904) — нем. натуралист, географ, социолог, один из создателей антропогеографии и политич. географии, к-рые в трактовке Р. положили начало герм. геополитике. В 1886—1904 — проф. географии Лейп-цигского ун-та.
Развивая идеи географич. детерминизма в духе Риттера и Спенсера, Р. переносил в социальную область частные закономерности развития животного и растит, мира, напр. миграционную теорию М. Вагнера. Под влиянием Фехнера утверждал, что «продолжением всякого знания должна явиться вера». Для методологии Р. характерно постулирование не-посредств. отношений между человеком, вырванным из его обществ, связей, и географич. средой, гос-вом и «землей», при к-ром исчезают экономич. и социальная сферы. Политич. жизнь, по Р., обусловлена непосредств. воздействием физико-географич. среды, а гос-во — надклассовый орган, неизбежно присущий всякому обществу («оно также старо, как семья и общество»), «единство народа с известным почвенным пространством» и особый биологич. организм, подверженный «тем же влияниям, каким подвержено все живое». Р. изобрел семь законов «пространств, роста гос-в», утверждая, что «растущий народ нуждается в новых землях для увеличения своей численности», и видел «высшее призвание народа в том, чтобы улучшить свое географическое положение». Взгляды Р. развивали Челлен, Хаусхофер и др. нем.
геополитики; в фашистской Германии Р. был объявлен «дедушкой» герм, геополитики.
Соч.: Anthropogeographie, Bd 1—2, Stuttg., 1882—91; Politisohe Geographie, Munch.—Lpz., 1897; Raum und Zeit in Geographie und Geologie. Naturphilosophlsche Betrachtungen, hrsg. von P. Barth, Lpz., 1907; в рус. пер.— Земля и жизнь, т. 1—2, СПБ, 1903—06.
Лит .: Гейден Г., Критика нем. геополитики, пер. с
нем., М., 1960; Steinmetzler J., Die Anthropogeogra
phie Friedrich Ratzels und ihre ideengeschichtlichen Wurzeln,
Bonn, 1956. А. Зававъе. Москва.
РАТЦЕНХОФЕР (Ratzenhofer), Густав (4 июля 1842—10 окт. 1904) — австр. бурж. социолог и философ, генерал. Филос. система Р.— «монистич. позитивизм», к-рую он противопоставлял как идеализму, так и материализму,— представляет собой эклектич. сочетание субъективного и объективного идеализма и близка к энергетизму Оствальда. Осн. ее понятия — «первичная сила» и «внутр. интерес». «Первичная сила», трансцендентная, непознаваемая, отождествляемая с идеей бога, является, по Р., основой всего сущего, в т. ч. жизни и сознания. «Внутр. интерес» Р. рассматривал как космич. силу, присущую всем явлениям природы и общества. Идею «внутр. интереса» Р. положил в основу своей социологии, задачу к-рой он видел прежде всего в изучении «взаимоотношений единиц сознания (я) » (см. «Die Kritik des Intellekts...», Lpz., 1902, S. 131). Явления сознания коренятся в биологич. процессах организма и определяются «внутр. интересом». «Все социальные формы — продукт внутреннего интереса, согласования интересов многих индивидов» (там же, S. 150). «Приведение во взаимное соответствие индивидуальных и социальных интересов» является, по Р., осн. социологич. законом (там же, S. 149). Будучи сторонником социального дарвинизма, Р. рассматривал все формы обществ, конфликтов как выражение борьбы за существование. Войну Р. объявлял «формой развития человеческого общества» (там же, S. 154), подчеркивал «социальную ценность» насилия, подчинения. Вслед за Гумпло-вичем, оказавшим на него большое влияние, Р. рассматривал историю общества как борьбу рас, с ее помощью он пытался объяснить и возникновение классов и гос-ва. Сторонник идеологии элиты, он заявлял, что «процветание народа» зависит от его способности «привести к руководству его нравственную и интеллектуальную аристократию». «Соответствующее природным задаткам» разделение общества на отд. «слои» — «таково идеальное будущее социального порядка» («Soziologie», Lpz., 1907, S. 181). Идеи P. оказали значит, влияние на амер. социологов Уорда и Смолла. Его учение — один из источников идеологии фашизма.
С о ч.: Wesen und Zweck der Politik..., Bd 1—3, Lpz.,1893; Die soziologische Erkenntnis, Lpz., 1898; Der positive Monismus und das einheitliche Prinzip aller Erseheinungen, Lpz., 1899; Positive Ethik, Lpz., 1901; Historische Kausalitat und soziale Naturgesetze, «Archiv fiir Rechts- und Wirtschaftsphilosophie», 1910/11, Bd i .
Лит.: История философии, т. 5, М., 1961, с. 556; Б е к к е р
Г. иБосковА., Совр. социологич. теория..., пер. с англ.,
М., 1961 (см. указат.); К о н И. С, Позитивизм в социоло
гии, Л., 1964, с. 46. Я. Иориш. Москва.
РАЦИОНАЛИЗМ (от лат. ratio— разум) — филос. учение, согласно к-рому разум является основой бытия (онтологич. Р.), познания (гносеологич. Р.), морали (этич. Р.). Р. противостоит иррационализму и сенсуализму.
Термин «Р.»—сравнительно позднего происхождения. Ф. Бэкон различал методы «эмпириков» и «рационалистов» (см. Works, v. 3, L., 1870, р. 616). Однако вплоть до 19 в. термин «Р.» применялся гл. обр. в теологии. В сер. 17 в. лорд Кларендон (см. State-Papers, v. 2, suppl., p. 40), говоря о новых сектах «пресбитерианицев» и «независимых», называл их «рационалистами» (the rationalists). О «теологах-рацио-
470 РАЦИОНАЛИЗМ
 налистах» упоминал Лейбниц (см. «Theodiceo», Lpz., 1879, § 14).
налистах» упоминал Лейбниц (см. «Theodiceo», Lpz., 1879, § 14).
О н т о л о г и ч. Р.— направление в онтологии, согласно к-рому бытие разумно, т. е. в его основе лежит некое разумное начало. В этом смысле к Р. в антич. философии может быть причислено учение Платона (первопричина вещей — постигаемые умом «идеи», или «виды» — эйдосы), а в философии нового времени — учения Лейбница (принцип разумной монады), Фихте (принцип самодеятельности «Я», как разумного начала) и особенно Гегеля, согласно к-рому «что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно» (Соч., т. 7, 1934, М.—Л., с. 15).
В совр. бурж. философии распространена тенденция весьма широкого и потому расплывчатого понимания онтологич. Р.: рационализмом называется любое учение, согласно к-рому всякая реальность имеет в себе самой или в начале, от к-рого она происходит, достаточное основание для своего бытия (см., напр., ст. «Рационализм», в кн.: «Enciclopedia filosofica», v. 3, Venezia—Roma, [1957], p. 1870—83). Такое истолкование термина Р. преследует цель стереть противоположность между материалистич. и идеалистяч. учениями. Особенно настойчиво эта характеристика приписывается антич. философии. Онтологич. «рационалистами» оказываются не только Парменид и Гераклит, но также атомистич. материалисты Левкипп и Демокрит. С др. стороны, нек-рые материалистич. учения, напр. Эпикура и его школы, при таком понимании неправомерно зачисляются в иррационалисти-ческие. Диалектич. материализм отвергает все формы онтологич. Р., как формы идеализма, гипостазирующего разум.
Гносеологич. Р.— направление в гносеологии, согласно к-рому разум является гл. формой познания. Зародившись еще в др.-греч. философии (Сократ, Платон, Аристотель), гносеологич. Р. стал значит, тенденцией философии в 17 в. Противопоставляемый ортодокс, теологич. мировоззрению с его приматом веры и унижением разума, гносеологич. Р. 17 в. был связан с успехами математич. и естеств. наук. Схоластич. теория познания и логика, опиравшиеся на учение о доказательстве (аподейктику) Аристотеля, не располагали средствами, при помощи к-рых можно было бы выяснить, каким образом из единичных и частных опытов могут выводиться истины по своему значению строго всеобщие, а по модальности — безусловно необходимые. В то же время успехи математич. наук делали ясным, что такие истины все же существуют и имеют первостепенное значение для знания. При таком положении оставалось искать другой, кроме опыта, источник, из к-рого могут получаться истины с логич. св-вами всеобщности и необходимости. Р. утверждал, что таким источником этих истин может быть только сам разум. Так возникло метафизич. противопоставление разума и опыта, характеризующее гносеологич. Р. Таковы в 17 в. воззрения Декарта, Спинозы, Малъбранша, Лейбница. Высоко ценя значение опыта, они не могли понять, каким образом из опыта могли и могут быть получены хорошо известные им по их науч. творчеству и по их логич. сознанию логич. свойства безусловно достоверного знания — в математике и в теоретич. естествознании. Т. о., гносеологич. Р.— одно из решений вопроса о происхождении безусловно достоверного знания, а именно: решение, обусловленное метафизич. односторонностью мышления, противопоставлением как будто исключающих друг друга и невыводимых друг из друга свойств относительной и безусловной всеобщности, относительной и безусловной необходимости. В этом метафизич. противопоставлении сходятся идеалисты Декарт и Лейбниц с материалистами Спинозой и Гоббсом. При этом Р.
у них приобретал различные оттенки, в зависимости от того, как каждый из них решал вопрос о происхождении независимых от опыта идей, или понятий разума («врожденные идеи» у Декарта; наличие в душе — разумной монаде — известных предрасположений или задатков мышления у Лейбница; признание мышления атрибутом и способности мышления отражать структуру природы непосредственно у Спинозы). Гносеологич. Р. получил широкое развитие и в 18 в. в Германии в школе X. Вольфа. Теоретич. основу этого Р. составляло учение Лейбница, подвергшееся, однако, у рационалистов школы Вольфа схематизирующему упрощению и даже вульгаризации. Характерная для Лейбница и Декарта диалектич. постановка вопросов об отношении анализа к синтезу, логического к эмпирическому, умозрения к опыту, интуиции к дедукции подменяется у вольфианцев догматизмом, место разума и разумного мышления заступает плоская метафизич. рассудочность. Впоследствии, имея в виду вольфианский вариант Р., в Р. стали видеть синонимы сухой и безжизненной рассудочности, претендующей быть критерием как в теории, гак и на практике.
В философии Канта гносеологич. Р. ослабляется сравнительно с лейбницианским. Хотя мысль Канта, согласно к-рой достоверное знание есть синтез операций рассудка и чувственности, а также тезис о том, что процесс познания начинается с ощущений, были плодотворным, Кант остался метафизич. рационалистом в утверждении, что и чувственные, и рассудочные знания опираются на априорные формы (см. Априори). Рационалистич. элементы теории познания Канта были усилены Фихте и особенно Гегелем. У обоих гносеологич. Р. сочетался с диалектич. пониманием познания. И Фихте (в «Основах общего наукоучения»), и Гегель (в «Феноменологии духа», а также в «Философии духа») пытались раскрыть диалектику сознания, начиная с ощущения и кончая высшими формами деятельности разума. Однако диалектика эта остается идеалистической по содержанию и рационалистической по форме. Для обоих разум остается не столько завершающей высшей формой познающего мышления, сколько общей стихией или субстанцией познания, в т. ч. и чувственного. Гносеологич. рационализм Гегеля оказывается тесно связанным с его онтологич. Р. Разумность самой действительности и разумность науч. познания действительности Гегель понимал как взаимно обусловливающие друг друга: «кто разумно смотрит на мир, на т о г о и мир смотрит разумно; то и другое взаимно обусловливают друг друга» (Соч., т. 8, М.—Л., 1935, с. 12). Гегелевский гносеологический Р.— выражение веры в могущество разума, в способность человека постигнуть объективные законы действительности. Эта вера была утрачена бурж. философией 2-й пол. 19—20 вв. (гносеологич. Р. позитивизма, неопозитивизма и др.).
Преодоление не только метафизического, но и идеа-листич. понимания разума и разумного познания было впервые достигнуто в диалектическом материализме, в его теории познания. Учение это впервые реализовало тот «рациональный эмпиризм», о к-ром мечтал Герцен. Введение критерия практики, внедрение материалистич. диалектики внесло в самую теорию познания точку зрения развития, к-рая связала воедино все моменты процесса познания, начиная с опыта, ощущений и кончая высшими формами абстрагирующей разумной деятельности.
Э т и ч. Р.— направление в этике, согласно к-рому разум лежит в основе этич. действия. Родоначальником и гл. представителем этич. Р. был Сократ, по учению к-рого знание о том, как следует поступать, есть вполне достаточное условие для того, чтобы человек поступал в полном соответствии с этим знани-
РАШЕВСКИЙ — РЕАКТОЛОГИЯ
471
 ем. Согласно этому воззрению, возможность поступков, расходящихся с принципами и нормами нравственности, обусловлена исключительно отсутствием или несовершенством знания этих принципов. Уже стоики (см. Стоицизм) подвергли критике этот этич. Р. и указали, что в ряде случаев человек знает и одобряет лучшее, однако следует худшему, что, впрочем, не помешало им самим проповедовать Р. в этике (жизнь, сообразная с природой, т. е. с логосом, разумом). В новое время этич. Р. развивали особенно Спиноза и Кант, к-рый подверг этич. Р. ограничению: хотя, по Канту, «...практическое правило всегда продукт разума, ибо оно предписывает поступок, как средство к действию, т. е. цели» («Критика практич. разума», СПБ, 1908, с. 20), однако для существа, каков человек, у к-рого разум «...не есть единственная основа определения воли...» (там же), правило дейст-вования отмечается признаком долженствования, выражает «...объективное побуждение к поступку...» (там же) и указывает, что «...если разум вполне определил волю, поступок по этому правилу должен неизбежно совершиться» (там же). Определения и разъяснения Канта вносили в этику нечто соответствующее агностицизму теории познания Канта — понятие о долженствовании, к-рое может быть сформулировано как безусловное предписание практич. разума, но к-рое никогда не может быть полностью выполнено в практике этич. действия. Все же у Канта предпосылкой его этики было безусловное уважение к нравств. закону и такое же безусловное уважение к достоинству каждой отдельной личности. Напротив, в бурж. философии 19 в. критика этич. Р. выражала в ряде случаев тенденцию этич. аморализма. Особенно ярко эта тенденция выступает у Ницше, для к-рого этика Сократа была примером страстно отвергаемого этич. Р.
ем. Согласно этому воззрению, возможность поступков, расходящихся с принципами и нормами нравственности, обусловлена исключительно отсутствием или несовершенством знания этих принципов. Уже стоики (см. Стоицизм) подвергли критике этот этич. Р. и указали, что в ряде случаев человек знает и одобряет лучшее, однако следует худшему, что, впрочем, не помешало им самим проповедовать Р. в этике (жизнь, сообразная с природой, т. е. с логосом, разумом). В новое время этич. Р. развивали особенно Спиноза и Кант, к-рый подверг этич. Р. ограничению: хотя, по Канту, «...практическое правило всегда продукт разума, ибо оно предписывает поступок, как средство к действию, т. е. цели» («Критика практич. разума», СПБ, 1908, с. 20), однако для существа, каков человек, у к-рого разум «...не есть единственная основа определения воли...» (там же), правило дейст-вования отмечается признаком долженствования, выражает «...объективное побуждение к поступку...» (там же) и указывает, что «...если разум вполне определил волю, поступок по этому правилу должен неизбежно совершиться» (там же). Определения и разъяснения Канта вносили в этику нечто соответствующее агностицизму теории познания Канта — понятие о долженствовании, к-рое может быть сформулировано как безусловное предписание практич. разума, но к-рое никогда не может быть полностью выполнено в практике этич. действия. Все же у Канта предпосылкой его этики было безусловное уважение к нравств. закону и такое же безусловное уважение к достоинству каждой отдельной личности. Напротив, в бурж. философии 19 в. критика этич. Р. выражала в ряде случаев тенденцию этич. аморализма. Особенно ярко эта тенденция выступает у Ницше, для к-рого этика Сократа была примером страстно отвергаемого этич. Р.
Лит .: Staudlin К. Fr., Geschichte des Rationalismus und Supernaturalismus, Gott., 1826; Tholuck F. A., Geschichte des Rationalismus, Tl 1, В., 1865; H e u s s 1 e r H., Der Rationalismus des siebzehnten Jahrhunderts in semen Be-ziehungcn zur EntwicMungslehre, Breslau, 1885; Grube G., tjber den Nominalismus in der neueren englischen und franzo-sischen Philcsophie, Halle, 1889; Oil ё-L a p r u n e L., La raison et le rationalisme, P., 1906; EnriquesF., Seienza e razionalismo, Bologna, 1912; Robertson J. M., Rationalism, Edin. ,1912; GirgensohnK., Der Rationalismus des Abendlandes, Greifswald, 1921; Enriques F., Santil-I a n a G. d e, Le probleme de la connaissanee. Empirisme et rationalisme grecs, P., 1937; SantillanaG. de, Zilsel E., The development of rationalism and empiricism, Chi., 1941; Marecha] J.,Le point de depart de la metaphysiqne, t. 2— Le contlit du rationalisme et de l'empirisme dans la philosophie moderne avant Kant, 2 ed., Brux.—P., 1942; JuvaltaV. E., I limiti del rationalismo etico. A cura di L. Geymonat, Torino, 1945; Constantin C, Rationalisme, в кн.: Dictionnaire de theologie catholique, v. 13, P., 1937; Bachelard G., Le rationalisme applique, P., 1949; Verniere P., Spinoza et la pensee tram;aise avant la Revolution, t. 1—2, P., 1954.
В. Асмус. Москва.
РАШЕВСКИЙ (Rashevsky), Николай Петрогич (p. 20 сент. 1899) — амер. бурж. социолог и биофизик; один из основателей математич. направления в социологии. Окончил Киевский ун-т в 1919, проф. физики Рус. ун-та в Праге (1921—24), в 1924 выехал в США, с 1946— проф. математической биологии Чикагского ун-та.
До 40-х гг. занимался математич. биологией, в 40-х гг. руководил теоретич. исследованиями деятельности центр, нервной системы, а затем обратился к математич. анализу социальных явлений. По Р., любое социальное понятие и явление может и должно быть выражено математически. Одна из осн. задач Р.— исследование типов и результатов социальной деятельности человека. Р. полагает, что так же, как реакции центр, нервной системы, в принципе возможно с помощью математич. моделей описать и поведение индивидуума как функцию окружающих его объективных условий. Моделирование, согласно Р., сводит-
ся к построению гипотетич. конструкций, связывающих нек-рые формализованные стороны поведения человека со средой, заданной в виде опреДел. граничных условий. Модель, т. о., играет у Р. роль мысленного эксперимента, проводимого с помощью совр. математич. аппарата, и не связана непосредственно с к.-л. социальным экспериментом. Так, в модели имитационного поведения Р. рассматривает только одну его сторону — приспособление индивида к окружающей среде, существ, часть к-рой состоит из поведения других индивидов. Согласно первой, элементарной модели, приспособление отождествляется с подражанием деятельности других людей. В более сложной модели каждый индивид в группе обладает относительно автономным типом поведения и определ. вероятностью взаимодействия с каждым др. членом малой группы людей, связанных личными контактами. Р. предложил и более общие математич. модели: теория распределения статуса, распределения богатства, модели альтруистич. и эгоистич. общества, социально-экономич. динамики и др.
Общество или группа в моделях Р. выступает как: 1). статистич. агрегат личностных и межличностных характеристик; 2) совокупность признаков, не сводимых к личностным и межличностным характеристикам, а описывающих общество как целое. Большинство признаков этого рода является константами или коэффициентами в уравнениях, представляющих социальные процессы. Весьма часто Р. пытается дать этим коэффициентам чисто психологич. интерпретацию, наделяя группу как целое такими св-вами, как «эгоизм», «агрессивность» и т. д. Следует отметить, что Р. отнюдь не претендует на изоморфизм своих моделей конкретным ситуациям, рассматривая их скорее лишь как прообраз будущей теории. Однако они имеют существ, методологич. недостатки: не учитывается опо-средованность обществ, отношений.
Работы Р. показывают, что эффективность формализации не в развитии математич. аппарата социологии, где заслуги Р. неоспоримы, а в решении проблемы квантификации исходных переменных, что, в свою очередь, невозможно без нахождения меры каждого социального факта и учета объективной социально-политич. структуры общества.
Соч.: Advances and applications of mathematical biology, Chi., [1940]; Mathematical theory of human relations..., Bloomin-gton, [1947]; Mathematical biology of social behavior, [Chi., 1959]; Mathematical biophysics, 3 ed., v. 1—2, N. Y., [I960]; Mathematical principles in biology and their applications, Springfield, [1961]; Some medical aspects of mathematical biology, Springfield, 1964.
Лит.: Беляев Э. В., К критике математич. моделей
неопозитивистской социологии, в сб.: Философия марксизма
и неопозитивизм, [M.J, 1963. Ю. Самсонов. Москва.
РЕАКТОЛОГИЯ (от лат. приставки re — означающей противодействие, actio — действие и греч. Хб-уос, — наука) — направление в сов. психологии, трактовавшее психологию как «науку о поведении» живых существ (в т. ч. и человека). Р. была основана советским психологом К. Н. Корниловым. Центральным для Р. было понятие «реакции», к-рое. рассматривалось как универсальное для живых существ (все ответные движения организмов, включая одноклеточных); как ответ целого организма, а не одного органа; как наделенное психич. характеристикой (у высших представителей животного мира). Задачу Р. составляло изучение быстроты, силы и формы протекания реакции, выявление постепенно усложняющейся гаммы реакций (реакция натуральная, мускульная, сенсорная, выбора и др.) с помощью хронометрия., динамометрия, и моторно-графич. методов. Эксперимент, данные, полученные в результате исследования реакций, составили заметный вклад в сов. психологию. Переработка понятия «рефлекс» и расширение его до категории «реакции» давали
472 РЕАЛИ — РЕАЛИЗМ
 возможность, как полагали представители Р., осуществить «синтез» субъективной и объективной психологии. Однако этот синтез был искусственным, формальным. Р. строилась путем эклектич. сочетания марксистских принципов с нек-рыми механистич. и энергетич. идеями («закон однополюсной траты энергии»), впервые сформулированными в работе К. Н. Корнилова «Учение о реакциях» (1921). В результате в Р. наметилось и вскоре выявилось противоречие между правильно поставленными задачами новой психологии и бедной программой ее конкретного содержания. Сущность этих противоречий была вскрыта в психо-логич. дискуссиях начала 30-х гг. («реактологич. дискуссия»), что привело к отказу от реактологич. схем и устранению понятия Р. из психологии.
возможность, как полагали представители Р., осуществить «синтез» субъективной и объективной психологии. Однако этот синтез был искусственным, формальным. Р. строилась путем эклектич. сочетания марксистских принципов с нек-рыми механистич. и энергетич. идеями («закон однополюсной траты энергии»), впервые сформулированными в работе К. Н. Корнилова «Учение о реакциях» (1921). В результате в Р. наметилось и вскоре выявилось противоречие между правильно поставленными задачами новой психологии и бедной программой ее конкретного содержания. Сущность этих противоречий была вскрыта в психо-логич. дискуссиях начала 30-х гг. («реактологич. дискуссия»), что привело к отказу от реактологич. схем и устранению понятия Р. из психологии.
Лит.: Т е п л о в В. М., Борьба К. Н. Корнилова в 1923— 1925 гг. за перестройку психологии на основе марксизма, в сб.: Вопросы психологии личности, М., 1960; Смирнов А. А., Экспериментальное изучение психологич. реакций в работах К. Н. Корнилова, там же; Петровский А. В., История советской психологии, М., 1967.
А. Петровский. Москва.
РЕАЛИ (Reale), Мигел (р. 1910) — браз. юрист и философ-идеалист, проф. философии права ун-та г. Сан-Паулу, пред. Бразильского института философии (осн. в 1949), гл. редактор «Бразильского журнала философии» («Revista Brasileira de Filosofia»). Для филос. воззрений Р. характерен эклектизм, сочетающий элементы неокантианства, феноменологии, экзистенциализма и др.
С о ч.: О estado moderno, 3 ed., R. de J., 1935; О capitalismo internacional, R. de J., 1935; Filosofia do direito, Sao Paulo, 1953; Horizontes do direito e da historia, Sao Paulo, 1956; Parlamentarismo brasileiro, Sao Paulo, 1962.
Ж. Базарян. Москва.
РЕАЛИЗМ в искусстве — правдивое, объективное отражение реальной действительности на языке того или иного вида иск-ва. В этом смысле Р. представляет собой осн. тенденцию поступат. развития художеств, культуры человечества. В каждый новый историч. период Р. приобретает новый облик, выступая в виде определ. художеств, метода или же обнаруживаясь в виде тенденции к реалистич. осознанию действительности в рамках других творч. методов.
В сов. эстетике существует и иная трактовка понятия Р.— как исторически определ. направления, метода или типа художеств, мышления [см. дискуссию в Ин-те мировой лит-ры в 1957— «Проблемы Р. (Материалы дискуссии о Р. в мировой лит-ре)», М., 1959]. Начало Р. связывается либо с эпохой Возрождения, либо с 18 веком, а его наиболее полное раскрытие усматривается в критич. Р. 19 в. Разработанная преим. на материале лит-ры, эта концепция считает главной особенностью Р. «типичные характеры в типичных обстоятельствах» (см. Ф. Энгельс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 37, с. 35).
Богатство Р. раскрывается лишь в ходе историч. развития иск-ва, к-рое идет не от низшего к высшему, а в форме накопления новых творч. проблем и решений, расширения границ и возможностей иск-ва. Нельзя сказать, что Возрождение «выше» античности, Рембрандт «выше» Рафаэля, Чайковский — Моцарта, Толстой — Пушкина, но каждый раз важнейшие эпохи и художники вносят в реалистич. иск-во нечто новое и неповторимое. В этом специфика художеств, прогресса, для к-рого каждый этап развития Р. самоценен и не может быть «снят» или «превзойден» любыми самыми совершенными достижениями др. эпох.
Осн. критерием, определяющим своеобразие разных историч. форм Р., является мера и характер художеств, правдивости иск-ва различных эпох. Задачами Р. каждой эпохи определяется и его отношение к внешнему, эмпирич. правдоподобию. Оно может выступать (напр., в раннем антич. иск-ве или в иск-ве Возрождения) как осн. средство реалистич. отражения действительности, однако сведение цели иск-ва к дости-
жению такого правдоподобия — принцип не Р., а натурализма. Эмпирич. достоверность художеств, образа имеет смысл лишь в единстве с правдивым отражением существ, сторон действительности. В то же время самые различные формы условности неоднократно являлись средством наиболее точного и выразит, фиксирования художеств, правды (напр., в творчестве Рабле, Гойи, Салтыкова-Щедрина). Вообще условность представляет собой неотъемлемую особенность всякого и, в частности, реалистич. иск-ва, поскольку оно есть отражение реального мира и этому последнему не тождественно. Р. определяется, т. о., не теми или иными приемами, самими по себе, но общим отношением иск-ва к действительности, к-рс-е только и можно назвать художеств, правдой.
Художеств, правда включает в себя две стороны, нерасторжимо связанные между собой: объективное отражение существ, сторон жизни, к-рая не копируется, но как бы воссоздается заново по законам данного вида иск-ва, и истинность эстетич. оценки, т. е. соответствие эстетич. идеала таящимся в действительности потенциям развития. Наиболее глубокое проникновение в сущность мира достигается в Р. там, где обе эти стороны художеств, истины находятся в гармонии, как в портретах Рембрандта, поэзии Пушкина или романах Толстого. Там же, где тенденция не вытекает «из обстановки и действия» (см. Ф. Энгельс, там же, т. 36, с. 333), а привносится в реалистич. изображение извне, возникает чуждый Р. дидактизм. В др. случаях может возникнуть противоречие между субъективистским восприятием действительности и правдивостью эстетич. идеала художника, что характерно, напр., для ряда совр. прогрессивных художников капиталистич. стран.
Реалистич. иск-во часто бывает «умнее» своего творца, когда художник, не обладая ясностью и последовательностью мировоззрения, не может сделать необходимые выводы из своего же художеств, изображения жизни. Обнаруживая в своих произведениях глубокое понимание действительности, он может вместе с тем разделять ограниченные или даже консервативные обществ, и филос. убеждения (напр., Тургенев, Достоевский). Это не означает, что мировоззрение художника, в частности его социально-политич. взгляды, безразличны для реалистич. иск-ва. Нек-рые теоретики (Видмар), отстаивающие эту т. зр., ссылаются при этом на Энгельса, говорившего по поводу Бальзака о «победе» Р. над политич. заблуждениями писателя. Однако Энгельс в данном случае указывал не на общую закономерность отношения Р. и мировоззрения художника, но на часто встречающееся в истории противоречие между позициями мастера в политике или философии и его художеств, осознанием жизни, к-рое может быть глубже, правдивее, богаче именно потому, что иск-во художника есть его непо-средств. обществ, дело. В ряде случаев расцвет Р. связан именно с последовательностью передового мировоззрения, с тенденциозностью в выражении обществ, идей (в ряде высших проявлений критич. Р. 19 в. и в особенности в социалистич. Р., прочно опирающемся на идеи марксизма-ленинизма). В. И. Ленин, анализируя творчество и обществ.-филос. воззрения Л. Н. Толстого, дал классич. образец раскрытия их внутр. противоречий как своеобразного отражения реальных противоречий социальной жизни, показав то, в чем художник «велик», в чем его иск-во представляет собой «...шаг вперед в художественном развитии всего человечества» (Соч., т. 16, с. 293).
Р. часто раскрывается в сложных противоречиях, в борьбе с тенденциями, тормозящими или ограничивающими его развитие. Эти тенденции порой проявляются открыто и последовательно, как, напр., в совр. бурж. иск-ве («заумный язык» в поэзии, абстрак-
РЕАЛИЗМ
473
 ционизм в живописи, иск-во «абсурда» и т. д.), чаще, однако, наблюдаются сложные, противоречивые художеств, образования, в к-рых одновременно различаются и реалистич. и враждебные, либо чуждые Р. черты (напр., в творчестве Врубеля, Блока или Пикассо), существующие в живом творчестве в нерасторжимом единстве. Так, у раннего Маяковского реалистическая в основе своей критика бурж. мира неотделима от ее футуристич. формы.
ционизм в живописи, иск-во «абсурда» и т. д.), чаще, однако, наблюдаются сложные, противоречивые художеств, образования, в к-рых одновременно различаются и реалистич. и враждебные, либо чуждые Р. черты (напр., в творчестве Врубеля, Блока или Пикассо), существующие в живом творчестве в нерасторжимом единстве. Так, у раннего Маяковского реалистическая в основе своей критика бурж. мира неотделима от ее футуристич. формы.
Поскольку любая история, форма Р. особенно чутка к определ. граням и аспектам истины, ее исторически неизбежная ограниченность выступает как внутренне присущая ей антиреалистич. тенденция. Так, иск-во «классического» Ренессанса «слепо» к обществ, антагонизмам, а роман критич. Р. 19 в.— к гармонии бытия, что является, однако, результатом объективного проникновения в жизнь совр. общества: Бальзак и Достоевский не потому «не видят» гармонии, что они до нее «не доросли», а потому, что ее нет в современном им капиталистич. мире. Т. о., задача анализа реалистич. иск-ва заключается не в том, чтобы механически отграничить его от некоего абстрактного «а.н-тиреализма», как полагала догматически ориентированная эстетика в условиях господства культа личности Сталина, но в том, чтобы в каждом подлинно художеств, явлении обнаружить его реалистич. сущность, вскрывая вместе с тем его ограниченные или внутренне противоречивые черты. В этом смысле и может быть обнаружена логика эстетич. прогресса, подводящая к иск-ву социалистич. Р.
Р. проходит в своем развитии ряд стадий.Известные реалистич. тенденции возникают уже в первобытном иск-ве (палеолитич. росписи, устное нар. творчество эпохи родового строя) и достигают большой силы в иск-ве Др. Востока, хотя и отмечены здесь чертами грубой предметности, как в древнеинд. поэзии или егип. пластике. В антич. мире Р. впервые освобождается от варварской примитивности, обретая высокую человечность в классич. греч. иск-ве (скульптуре, поэзии, драме). Этот первый взлет Р. в истории иск-ва стал основой последующей культурной традиции вплоть до нашей современности. В отличие от антич. «художественной религии» (Гегель), господств, ре-лиг, системы феод, средневековья в большинстве Сбоем были враждебны реалистич. тенденциям в художеств, творчестве. Тем не менее в крупнейших явлениях ср.-век. иск-ва (в героич. эпосе — «Песне о Роланде», «Слове о полку Игореве», «Эдде», в рус. иконописи, готич. скульптуре, кит. пейзаже, ир^н. лирич. поэзии и т. д.) содержатся новые важные завоевания в художеств, освоении мира и прежде всего внутр. мира человека.
Новый могучий подъем Р. связан в Европе с эпохой Возрождения. Сначала лит-ра (Данте, Боккаччо), затем изобразит, иск-во (Джотто, Донателло, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Микеланджело) и, наконец, вновь лит-ра (Рабле, Сервантес) и в особенности драма (Шекспир) формируют своеобразный тип ре-нессансного Р., соединяющего в себе невиданное дотоле богатство жизненных наблюдений и широту охвата действительности с цельностью мировосприятия, проникновением в острейшие конфликты жизни и гармония, природу идеала. Р. Возрождения явилхя исходным пунктом многогранного развития реалистич. иск-ва в Европе в последующие столетия иь в частности, живописи 17 в., глубоко раскрывшей пси-хологич. богатство личности (Рембрандт, Веласкес). В иск-ве классицизма (Расин, Корнель, Пуссен) правдивое раскрытие антагонизмов действительности и даже критика ее пороков (Мольер) совершается в рамках строго нормативной эстетич. доктрины. Иск-во барокко в 17 в., рококо и сентиментализм в 18 в. содержат в себе определ. реалистич. тенденции, сос-
тавляющие в них (как, впрочем, и в иных, нередко отделяемых от Р. методах) их живое, прогрессивное начало.
В 18—19 вв. постепенно кристаллизуется новый тип Р., связанный с формированием и укреплением бурж. общества: т. н. критич. Р. Путь ему прокладывает голл. живопись 17 в., драма (Лессинг) и роман 18 в. (Свифт, Филдинг, Стерн). Название «критический Р.» условно и означает не обязат. преобладание собственно критич. жанров, но тот факт, что отныне передовое реалистич. иск-во оказывается в неизбежной оппозиции к господствующим в бурж. обществе формам публичной и частной жизни. Если Р. в более ранние периоды часто занимал позицию «апологии» того социального строя, в к-ром он возникал, то критич. Р. принципиально антибуржуазен, даже когда в нем нет прямой критики бурж. строя. Для этого периода Р. характерно пристальное «исследование» действительности, социальный анализ, обусловливающий в пору господства бурж. отношений ведущую роль прозаич. лит-ры, сменившей господство поэзии в предшествующий период (Гёте, Пушкин, Байрон). В романе и новелле (Стендаль, Бальзак, Флобер, Диккенс, Теккерей, Гоголь, Л. Толстой, Достоевский, Чехов), в живописи (Гойя, Жерико, Домье, Курбе, Репин, Суриков, Э. Мане), в театре развертывается сложнейшая картина человеч. жизни во всех ее социальных аспектах и со всеми ее противоречиями. Вследствие тесной связи реалистич. иск-ва с прогрессивными силами общества эта эпоха по праву может быть названа эпохой демократич. Р., достигающего особой интенсивности и богатства в периоды подъема широких нар. движений. Так, основу романтич. иск-ва 1-й трети 19 в. в его живом реальном содержании составляло отражение революц. движений эпохи (Гюго, Делакруа, Гейне). Рус. реалистич. иск-во 19 в. неразрывно связано с мощным подъемом освободит, движения в стране.
В 20 в., в эпоху пролет, революций и поворота человечества к коммунизму, демократич. Р. приобретает новые черты, позволяющие ряду исследователей отличать его как особый художеств, метод от «классического» критич. Р. 19 в. (Франс, Шоу, Хемингуэй, Чаплин, итал. неореализм в кино, Брехт, Ма-зерель, Ривера и др.). Реализм 20 в. особенно чуток к социальным трагедиям и революц. потрясениям; он не только изображает антагонистич. состояние общества, но и выражает поиски путей в будущее. Отсюда его связь с социалистич. Р. как художеств, формой осознания движения человечества к коммунизму. Социалистич. Р., порожденный социалистич. революцией и строительством коммунизма в СССР (Горький, Маяковский, Эйзенштейн, Мухина и др.), формируется и в др. странах мира, где имеет место мощное революц. движение. Будучи наследником лучших традиций прошлого, социалистич. Р. есть форма самосознания широчайших нар. масс, перешедших к сознат. историч. творчеству: давая глубоко правдивую картину жизни в перспективе ее революц. развития, социалистич. Р. является активным и последоват. носителем коммунистич. идей.
Первой попыткой обосновать сущность художеств, правды является антич. теория мимесиса, особенно в ее интерпретации Аристотелем (см.также Подражание). Важный вклад в теорию Р. внесли мыслители Возрождения, особенно теоретики изобразит, иск-ва (Альбер-ти, Леонардо да Винчи, Дюрер), видевшие в приближении к природе гл. достоинство иск-ва. Впервые во всей полноте теория реалистич. иск-ва была разработана в 18 в. Дидро («Салоны») и Лессингом («Гамбургская драматургия»), противопоставивших фальшивым и искусств, идеалам дворянской культуры понятия правды и простоты. Сам термин «Р.» как
474 РЕАЛИЗМ
 эстетич. понятие впервые был утвержден Ф. Шиллером, рассматривавшим Р. как «подчинение природе» и ее необходимости, как утверждение объективности бытия; в этом смысле Р. — антитеза идеализму («О наивной и сентиментальной поэзии»). Глубокий анализ сущности реалистич. творчества дали Гёте, в центре внимания к-рого — диалектика идеального и реального, иск-ва и природы, и Гегель, всесторонне охарактеризовавший сущность иск-ва и его отд. история, этапов как специфич. формы познания действительности. Шеллинг в противоположность Шиллеру выдвинул свое понятие «поэтич. Р.» («Лекции о методе академич. исследования», 1803), развитое впоследствии О.Людвигом. После романтиков термин «Р.» стал широко использоваться в теории и критике для обозначения иск-ва, непосредственно воспроизводящего «наличное бытие» человеч. общества и природы, в противоположность «идеализации», «стилизации» и др. Окончат, формулировку понятия «Р.» дали франц. критики и художники сер. 19 в.—Торе, III . Блан, Тэн, Шанфлё-ри («Реализм», 1857), Курбе, Флобер и др.
эстетич. понятие впервые был утвержден Ф. Шиллером, рассматривавшим Р. как «подчинение природе» и ее необходимости, как утверждение объективности бытия; в этом смысле Р. — антитеза идеализму («О наивной и сентиментальной поэзии»). Глубокий анализ сущности реалистич. творчества дали Гёте, в центре внимания к-рого — диалектика идеального и реального, иск-ва и природы, и Гегель, всесторонне охарактеризовавший сущность иск-ва и его отд. история, этапов как специфич. формы познания действительности. Шеллинг в противоположность Шиллеру выдвинул свое понятие «поэтич. Р.» («Лекции о методе академич. исследования», 1803), развитое впоследствии О.Людвигом. После романтиков термин «Р.» стал широко использоваться в теории и критике для обозначения иск-ва, непосредственно воспроизводящего «наличное бытие» человеч. общества и природы, в противоположность «идеализации», «стилизации» и др. Окончат, формулировку понятия «Р.» дали франц. критики и художники сер. 19 в.—Торе, III . Блан, Тэн, Шанфлё-ри («Реализм», 1857), Курбе, Флобер и др.
Огромную роль в разработке теории Р. сыграли труды рус. революц. демократов. Белинский уже в ранних работах («О рус. повести и повестях г. Гоголя», 1835, и др.) говорил о значении «реальной поэзии». Позднее, обосновывая принципы «натуральной школы», он дал развернутую характеристику принципов критич. Р. Подлинным эстетич. манифестом Р. можно назвать «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855) Чернышевского, хотя он, как и Белинский, еще не пользуется термином «Р.», к-рый в рус. эстетике был утвержден Писаревым («Реалисты», 1864), придавшим, однако, этому термину односторонний позитивистский оттопок.
Проблема Р. стоит в центре эстетич. интересов Маркса и Энгельса, к-рые проанализировали взаимосвязь в иск-ве идеального и реального (в переписке с Лас-салем по поводу его трагедии «Франц фон Зиккин-ген»), тенденциозности и правдивости (письма Энгельса к М. Каутской иМ. Гаркнесс), раскрыли (в частности, на примере творчества Бальзака) суть критич. Р. Большую роль в защите принципов Р. сыграл Плеханов, развивший с позиций марксизма традиции рус. демократич. эстетики. Ленин всесторонне обосновал понимание иск-ва как специфич. формы отражения действительности. Сформулированный Лениным принцип партийности иск-ва по-новому осветил проблему идеала в реалистич. иск-ве. Ленинская теория отражения и вытекающие из нее эстетич. принципы легли в основу теории социалистич. Р., обобщившей опыт развития сов. иск-ва. В парт, документах по вопросам иск-ва содержится ориентация художников на правдивое, близкое народу творчество, подчеркивается роль великой реалистич. традиции классич. иск-ва, формулируются осн. задачи социалистич. Р. на разных этапах развития сов. общества. Большой вклад в разработку теории Р. в сов. время сделал Луначарский. Наиболее глубоко осветил проблему социалистич. Р. Горький. В результате коллективных усилий в 30-е гг. была выработана общая формула социалистич. Р. как правдивото, исторически-конкретного изображения действительности в ее революц. развитии, сочетающегося с задачами коммунистич. воспитания людей. Складываясь в борьбе с господствующими в бурж. эстетике конца 19—20 вв. концепциями, либо вообще отрицающими Р., либо сводящими его к малозначит, эпизоду в истории иск-ва (К. Фидлер, М. Дворжак, X. Ортега-и-Гасст, А. Мальро), марксистско-ленинское понимание Р. в ходе своего развития должно было вместе с тем преодолевать догматически узкое истолкование Р. как механистич. сочетания внешнего правдоподобия с декларативной иллюстративностью в выражении идей, а также реля-
тивистское стирание границ между Р. и враждебными ему тенденциями, между социалистич. и бурж. идеологиями.
Лит.: К. Марке и Ф. Энгельс об искусстве, т. 1 — 2, М.,
1957; В. И. Ленин о литературе и искусстве, 2 изд., М., I960;
Дави д-С о в а ж о А., Р. и натурализм в литературе и ис
кусстве, М., 1891; Лифшиц М. А., Вопросы искусства и
философии, М., 1935; Лукач Г., К истории Р., М., 1939;
Б у р с о в Б., Вопросы Р. в эстетике революц. демократов,
М., 1953; Недошивин Г., Очерки теории искусства,
М., 1953; Ф и н к е л с т а й н С, Р. в искусстве, пер. с англ.,
М., 1956; Проблемы Р., М., 1959; Д н е п р о в В., Проблемы
Р., Л., 1960; Иезуитов А. Н., Вопросы Р. в эстетике Марк
са и Энгельса, Л.—М., 1963; В а й м а н С. Т., Марксистская
эстетика и проблемы Р., М., 1964; К о х Г., Марксизм и эстетика,
пер. с нем., М., 1964; Петров С. М., Реализм, М., 1964;
Г а р о д и Р., О Р. без берегов, пер. с франц., М., 1966; L е-
ц о i г-Р., Histoire du reallsme et du naturalisme dans la pogsie
etdans Part..., P.,1889; Hasan Z., Realism..., Gamb.,1928;
Auerbaclx E., Mimesis, Dargestellte Wirklichkeit in der
abendlandischen Literatur, Bern, 1946; Reiman P., Ober
realistische Kunstauffassung, В., 1949: lukacs G., Probleme
des Realismus, [2 Aufl.], В., 1955; В г i n k m a n n R., Wirk
lichkeit und Illusion. Studien iiber Gehalt und Grenzen des Beg-
riffs Realismus..., Tubingen, 1957; Bornecque J. H. et
С о g n y, P., Realisme et naturalisme. L'histoire, la doctrine,
les ceuvres, [P., 1958J; Muscetta C., Realismo e controrea-
lismo, Mil., 1958; S a 1 i n a r i C., La questione del realismo,
Firenze, 1960; Vaross M., Teoria realizmu vo vytvarnom
umeni, Brat., 1961. Г. Недошивин. Москва.
РЕАЛИЗМ (от позднелат. realis — вещественный) в философии — объективно-идеалистич. филос. учение, согласно к-рому общее обладает объективным существованием, предшествует единичным конкретным предметам и независимо от них.
В ср.-век. схоласт и ч. философии Р. был одним из двух основных — наряду с номинализмом — направлений в решении проблемы универсалий. Филос. принципы Р. восходят к учению Платона об идеях как первичной реальности. Эта точка зрения Р., укрепившись в платонически ' окрашенной патристике 4—5 вв., становится господствующей в ср.-век. схоластической философии Зап. Европы и арабо-мусульм. мира той эпохи. Она является естественной для теология, философии, к-рая по самой своей идеа-листич. природе опиралась на чисто умозрительные методы осмысления бога и его атрибутов, и на такое же обоснование религ. догматов. В Зап. Европе Р. исходил из платонизма и неоплатонизма. Р. утверждал, что чем более общим является понятие, тем реальнее его существование в качестве особой сущности. Христианская разновидность Р., сочетаемая с креационизмом и обоснованная Августином, исходила из того, что идеи-образы находятся в уме внепри-родного бога-творца, а конкретные вещи представляют их весьма несовершенные копии.Согласно этой концепции, гл. филос. представителями к-рой в эпоху раннего средневековья были Ансельм Кентерберийский и Гилъом из Шампо, «роды» и «виды» являются идеальными прообразами, в соответствии с к-рыми бог создал все единичные предметы и существа. Истинность с этой точки зрения присуща не только суждениям, но и самим вещам и явлениям реального мира, включая человека и его поступки — в меру их соответствия идеальным прообразам божеств, интеллекта. Тем самым концепция Р. становилась филос. обоснованием необходимости безусловного почитания бога и покорности перед церковью, являвшейся в ср. века наивысшим обобщением и санкцией сословно-иерархич. общества. Основоположные догматы христ. вероучения (догматы троицы, первородного греха и др.) обосновывались с помощью чисто умозрит. методологии Р. В связи с обнаружением внутр. противоречий феод, формации — отделением города от деревни, развитием товарного произ-ва, зарождением в этой езязи элементов нового индивидуалистич. мировосприятия, усилением нар. («еретических») движений, проникновением в Зап. Европу аверроизма и нек-рых др. идей арабской философии, развитием номинализма — про-
РЕАЛИЗМ 475
 исходила перестройка христианско-католич. философии, изменившая и форму Р. Значит, роль в этой перестройке принадлежала Фоме Аквинскому. Платоновская ориентация, господствовавшая в предшествующий период, сменяется аристотелевской. Стремясь несколько ослабить абсолютную зависимость мира и человека от бога, характерную для августинианской традиции, Фома изменил крайний платоновский Р. в Р. более умеренный, восходящий к Аристотелю и араб, схоластич. аристотелизму. Его осн. формулой становится утверждение о существовании универсалий до вещей (ante res) — в божеств, уме; в вещах (in rebus) — поскольку они созданы богом, и после вещей (poist res) — в понятиях человеч. ума, открывающего их в созданном богом мире. Если крайний Р. более настаивал на трансцендентности идей по отношению к вещам (первая часть формулы), то умеренный подчеркивал их имманентность вещам (вторая и третья части ее). Центр, понятием этой разновидности объективного идеализма становится понятие формы. Однако позиции крайнего и умеренного Р. отнюдь не были взаимоисключающими, и в развитии схоластич. философии они нередко переплетались. В этих колебаниях отражались не только неспособность Р. решить проблему отношения общего и единичного, но и противоречивость взаимоотношения Р. и теологии: опираясь на Р., теология приспосабливала его к своим догматам, но иногда приходила с ним в конфликт. Это касалось в особенности пантеистич. тенденции неоплатоновского Р. с его принципом эманации, согласно к-рому «роды», проистекшие из наиболее общего и безличного бытия, каким является бог, порождают «виды», к-рые в свою очередь порождают единичные конкретные предметы. Виднейшим представителем Р., обнаружившим такие тенденции в ранней зап.-европ. ср.-век. философии, был Иоанн Скот Эриугена.
исходила перестройка христианско-католич. философии, изменившая и форму Р. Значит, роль в этой перестройке принадлежала Фоме Аквинскому. Платоновская ориентация, господствовавшая в предшествующий период, сменяется аристотелевской. Стремясь несколько ослабить абсолютную зависимость мира и человека от бога, характерную для августинианской традиции, Фома изменил крайний платоновский Р. в Р. более умеренный, восходящий к Аристотелю и араб, схоластич. аристотелизму. Его осн. формулой становится утверждение о существовании универсалий до вещей (ante res) — в божеств, уме; в вещах (in rebus) — поскольку они созданы богом, и после вещей (poist res) — в понятиях человеч. ума, открывающего их в созданном богом мире. Если крайний Р. более настаивал на трансцендентности идей по отношению к вещам (первая часть формулы), то умеренный подчеркивал их имманентность вещам (вторая и третья части ее). Центр, понятием этой разновидности объективного идеализма становится понятие формы. Однако позиции крайнего и умеренного Р. отнюдь не были взаимоисключающими, и в развитии схоластич. философии они нередко переплетались. В этих колебаниях отражались не только неспособность Р. решить проблему отношения общего и единичного, но и противоречивость взаимоотношения Р. и теологии: опираясь на Р., теология приспосабливала его к своим догматам, но иногда приходила с ним в конфликт. Это касалось в особенности пантеистич. тенденции неоплатоновского Р. с его принципом эманации, согласно к-рому «роды», проистекшие из наиболее общего и безличного бытия, каким является бог, порождают «виды», к-рые в свою очередь порождают единичные конкретные предметы. Виднейшим представителем Р., обнаружившим такие тенденции в ранней зап.-европ. ср.-век. философии, был Иоанн Скот Эриугена.
Р. стал осн. прототипом систем объективного идеализма бурж. философии (Гегеля и более поздних ее представителей).
Лит.: Ш т ё к л ь А., История средневековой философии, М., 1912; Трахтенберг О. В., Очерки по истории зап.-европ. ср.-век. философии, М., 1957, с. 26—45, 104; К о т а р-биньский Т., Спор об универсалиях в ср. века, Избр. произв., М., 1963, с. 410—15; Reiners J., Der aristoteli-sche Realismus in der Friihscholastik, Aachen, 1907; Grab-mann M., Die Geschichte der scholastischen Methode, Bd 1, В., 1957, S. 293—340, Bd 2, В., 1957, S. 193—99, 438—51.
В. Соколов. Москва.
В сов р. бурж. философии реалистич. концепции получают широкое распространение в связи с кризисом позитивистского феноменализма и представляют собой попытку выйти за пределы субъективизма. Термин «Р.» обозначает здесь любую филос. систему, к-рая исходит из первичности «реального», признавая независимое от сознания субъекта существование объекта. Однако онтологич. природа объекта определяется в философии Р. по-разному. Он отождествляется либо с материальной действительностью, и в этом случае Р. сближается с материализмом (Селлерс), либо с духовным бытием, и тогда Р. отождествляется с объективным идеализмом.
Внутри идеалистич. Р. выделяется две осн. разновидности. Первая, к к-рой относится неореализм, характеризуется презентативной теорией познания («непосредственный» Р.). Представители этого направления выступили против любой дуалистич. гносеологии (абс. противопоставления познания бытию) и пытаются преодолеть разрыв между субъектом и объектом при помощи пек-рой разновидности теории непосредственного знания — «эпистемологического монизма», т. е. учения о непосредств. включении действительности (объекта) в сознание субъекта; в позпа-ват. акте «схватываются» предметы как они существуют. Такая позиция, абсолютизируя то общее, что есть
между материей и сознанием, и качественно отождествляя физич. и психическое, вступает в противоречие с исходной реалистич. посылкой о независимом существовании объекта. Эта теория приводит презептатив-ную гносеологию Р. к признанию объективного существования логич. форм, что сближает ее со схоластич. Р. Презентативное направление в Р. не могло, однако, справиться с проблемой ошибки. Отождествление вещи и мысли лишало возможности разграничить истинное, адекватное знание и ложное, неадекватное.
Попыткой выйти из этого тупика в русле Р. является репрезентативная теория познания (Р. «опосредованный»; сюда относится критический реализм), к-рая и составляет вторую разновидность Р. Эта теория познания возрождает дуалистич. доктрину: между объектом и познающим субъектом вводится «данное» — посредник, к-рый и есть содержание сознания. Однако интерпретация этого «данного» как независимого от действительности образования приводит снова к невозможности перехода от субъекта к объекту в процессе познания, что влечет за собой агностич. выводы.
Объективно-идеалистич. тенденция критич. Р. по
лучает дальнейшее развитие в США в 40—50-х гг.,
когда возникают новые школы Р.— «Ассоциация реа
листической философии» (Д. Уайлд, М. Чапмен,
Р. Паркер и др.) и «Метафизическое общество» (П. Вейс,
Ч. Хартшорн, У. Шелдон и др.). Представители их,
тяготея к аристотелизму, приходят к прямому при
знанию первичности идеальной формы (сущности) по
отношению к действительности (существующему).
Они утверждают, что субъект познает не нечто про
тивоположное ему, а духовную природу бытия. Филос.
концепция этих школ сближается с неотомизмом.
Лит.: Богомолова. С, Англо-амер. бурж. филосо
фия эпохи империализма, М., 1964: Луканов Д. М., В
тупике идеалистич. гносеологии, «ВФ», 1965, № 2; Evans
D. L., New realism and old reality..., Princeton, 1928; H a r-
1 о w V. E., A bibliography and genetic study of American rea
lism, Oklahoma, 1931; R а у В., Consciousness in neo-realism...,
L.— [a. o.], 1935; W i 1 d J., Introduction to realistic philoso
phy, N. Y., 1948. См. также лит. при ст. Критический реализм,
Неореализм. Д. Луканов. Горький.
В специфич. форме Р. возродился в работах нек-рых зарубежных физиков сер. 20 в. Гпосеоло-гич. основой этого возрождения послужило ошибочное понимание возросшей роли математики в физике, в особенности математич. теории групп и связанных с ней принципов симметрии. В ходе поисков путей создания совр. теории элементарных частиц именно принципы и аппарат математич. теории групп и симметрии нередко оказываются весьма плодотворными и ведут к ценным науч. предсказаниям, в частности к открытию ранее неизвестных элементарных частиц и законов их движения. Нек-рые ученые в искаженном свете восприняли этот факт. Общие математич. понятия (теоретико-групповые свойства, типы симметрии) стали истолковываться как предшествующие материальному содержанию, конкретным материальным объектам, как определяющие их бытие и сущность.
Дань подобного рода воззрениям отдал, напр., Гейзенберг. В сер. 50-х гг. он стал отходить от позиций позитивизма, все более склоняясь к неоплатонизму. В ряде работ последнего времени он стремится обосновать мнение, будто совр. физика уходит от Демокрита и «...встает на сторону Платона и пифагорейцев» не только в вопросе о неделимости атомов. Он считает, что «...сходство воззрений современной физики с воззрениями Платона и пифагорейцев простирается еще дальше. Элементарные частицы, о которых говорится в диалоге Платона „Тимей", ведь это в конце концов не материя, а математические формы... В современной квантовой теории едва ли можно сомневаться в том,
476 РЕАЛИЗМ — РЕАЛИЗУЕМОСТЬ
 что элементарные частицы в конечном счете суть математические формы, только гораздо более сложной и абстрактной природы» («Физика и философия», М., 1963, с. 48—49).
что элементарные частицы в конечном счете суть математические формы, только гораздо более сложной и абстрактной природы» («Физика и философия», М., 1963, с. 48—49).
Представления о реальных элементарных частицах как о чистых абстрактно-математич. формах, о математической симметрии как о «последней» сущности материальных объектов ошибочны. Они являются односторонним, гипертрофированным выражением одной из черточек познавательного процесса, оторванной от его источника и превращенного в абсолют.
Лит.: Гейзенберг В., Открытие Планка и осн. филос. вопросы учения об атомах, «ВФ», 1958, JM5 11; Кузне-ц о в И. В., В чем прав и в чем ошибается В. Гейзенберг, там же.
И. Кузнецов. Москва.
РЕАЛИЗМ наивный — первичное, основанное на жизненном опыте стихийное воззрение на мир, состоящее в том, что мир признается таким, каким он непосредственно представляется индивиду, т. е. таким, каким он его видит, слышит, осязает и т. д. Категориальная структура так понимаемого мира еще не подвергнута филос. анализу. Наивный Р., по характеристике Ленина, выражает стихийную, бессознательно материалистическую т. зр., убеждение в существовании внешнего мира независимо от нашего сознания (см. Соч., т. 14, с. 49, 53,57; ср. с. 55). Материалис-тич. направленность определяет позитивное содержание наивного Р. Однако при объяснении природы познания т. зр. наивного Р. оказывается недостаточной и ведет к серьезным заблуждениям.
Истоки наивного Р. коренятся в способности психики объективировать переживания (ощущения, восприятия, представления), т. е. рассматривать свойства ощущений и т. д. как свойства самих объектов.
Исследование природы наивного Р. началось фактически с возникновением философии, а в 19 в. развитие психофизиологии органов чувств вскрыло его ес-теств.-науч. основания. Хотя в наст, время наивный Р. как принцип открыто никем не формулируется, отголоски его иногда встречаются и в наши дни. Таковы, напр., имевшие место в лит-ре попытки разделения «философского» и «физического» понятий материи, исходящие из наивно-реалистич. предпосылки о возможности какого-то иного, помимо философского, понятия материи.
От наивного Р. как естественно возникшего мировоззрения следует отличать попытки возвести отд. части этого мировоззрения в ранг филос. концепции. К этой традиции близки субъективно-идеалистич. направления, к-рые пытаются начинать философствование с непосредственно данного как исходного и первичного, избегая при этом к.-л. теоретич. предпосылок как «метафизики» (эмпириокритицизм, имманентная философия).
Лит.: В у н д т В., О наивном и критич. Р., [пер. с нем.],
М., 1910; КальсинФ. Ф., Осн. вопросы теории познания,
Горький, 1957; О р л о в В. В., Особенности чувств, познания,
Пермь, 1962; Микитенко Д. А., Вщчуття i дШсшсть,
К., 1966. Д. Микитенко, Киев.
РЕАЛИЗУЕМОСТЬ (рекурсивная реализуемость) — понятие, лежащее в основе предложенного С. К. Клини (1945) метода конструктивного (интуиционистского) понимания матем. (и ло-гич.) предложений, к-рый позволяет в точных терминах говорить об их «истинности» и является, т. о., попыткой построения конструктивной семантики. Проблема конструктивного истолкования матем. суждений была поставлена еще А. Колмогоровым (1932, см. Исчисление задач), но из-за отсутствия в то время точного понятия алгоритма в колмогоровской интерпретации оставались моменты неясные, допускающие неоднозначное толкование. Идея метода Клини может быть прослежена, исходя из: 1) интуиционистского понимания экзистенциального суждения
вида jxA (х) как неполного сообщения, к-рое может быть «восполнено» указанием нек-рого х, такого, что А (х) и, вообще говоря, дальнейшей «информацией», нужной для восполнения сообщения А (х) для этого х (если А(х), также является неполным сообщением); понимания импликации 4эВ как неполного сообщения, восполняемого путем задания эффективного общего метода получения информации, восполняющей В, по данной информации, восполняющей А, и аналогично для др. логич. операций; 2) идеи а р и ф м е-т и з а ц и и (эффективной нумерации), посредством к-рой любая «информация» может быть задана в виде чисел (см. Метатеория; это, по существу, та самая, исходящая от К. Гёделя, идея, к-рая была положена в практич. приложениях кибернетики в основу кодирования информации для вычислит, машин); 3) экспликации «эффективных» методов задания «информации» (к-рая, согласно (2), может быть числовой) в виде «рекурсивных» методов определения и доказательства (см. Определение, раздел Рекурсивные и индуктивные определения, Рекурсивные функции и предикаты). Сочетание этих идей, вместе с признанием возможности «непосредственной проверки» элементарных арифметич. формул вида а=Ь, где а и Ъ — постоянные (осуществляемой попросту вычислением значений термов а и Ъ), привело Клини к формулировке след. понятия рекурсивной Р.: 1. Натуральное число е реализует элементарную замкнутую (далее всюду Л и В — замкнутые формулы) арифметич. формулу а=Ь, если е=0 и значение а равно значению Ь. 2. е реализует А&В, если е=2а-36, где а реализует А и Ъ реализует В. 3. е реализует AVB , если е=2°-За, где а реализует А , или 21 -Зь, где b реализует В. 4. е реализует 4э5, если е есть гёделев номер частично-рекурсивной функции ср от одной переменной, такой, что если а реализует А, то ц>(а) реализует В. 5. е реализует ~ iA , если е реализует А z>l = 0. 6. е реализует ■$хА(х) (где х — переменная, а А(х) — формула, не содержащая никаких свободных переменных, кроме, быть может, х), если е=2*-3 , где а реализует A ( t ). 7. е реализует ухА(х) (при тех же условиях на А (х) и х), если е есть гёделев номер общерекурсивной функции от одной переменной, такой, что для каждого натурального t число ф(г) реализует A ( t ).
Формула А, не содержащая свободных переменных, реализуема, если существует число р, реализующее А. Формула А(у1} ..., уп), содержащая свободно только переменные уг, ..., ут (т>0), отличные друг от друга, наз. (рекурсивно) реализуемой, если существует общерекурсивная функция ф от т переменных такая, что для каждого набора натуральных чисел *!, ..., tm число ( f ( t 1 , ..., £m) реализует A ( tt , ..., tm ). Наконец, понятие Р. естеств. образом распространяется и на формулы логики высказываний: пропозициональная формула наз. реализуемой, если реализуема всякая арифметич. формула, получающаяся из нее путем подстановки.
Клиниевское понятие Р. (совпадающее с точностью до способа задания и нек-рых уточнений с рассматриваемым Н. А. Шаниным (1955) понятием восполнения) положило начало обширному циклу исследований (работы самого Клини, амер. математиков Д. Нельсона и Дж. Роуза, сов. математиков Н. А. Шанина, Ю. Т. Медведева, Н. М. Нагорного, В. А. Янкова, Ф. А. Кабакова и др.), в ходе к-рых были предложены и др. модификации этого понятия. Выяснилось (Дж. Роуз, 1953), что имеются реализуемые, но не выводимые в конструктивном (интуиционистском) исчислении высказываний формулы (в то время как любая доказуемая формула этого исчисления реализуема), т. е. что конструктивное исчисление высказываний неполно (см. Полнота) относительно понятия Р.
РЕАЛЬНОСТЬ —РЕВИЗИОНИЗМ 477
 (Термин «Р.» имеет в математике и матем. логике и др. значение: он употребляется как синоним для «интерпретируемости», т. е. наличия модели, или «реализации».)
(Термин «Р.» имеет в математике и матем. логике и др. значение: он употребляется как синоним для «интерпретируемости», т. е. наличия модели, или «реализации».)
Лит.: К л и н и С. К., Введение в метаматематику, пер. с англ., М., 1957, § 82 (есть библ.); Ш а н и н Н. А., О некоторых логических проблемах арифметики, «Тр. Матем. ин-та АН СССР»,1955, т. 43 (есть библ.); е г о ж е, О конструктивном понимании математических суждений, там же, 1958, т. 52 (есть библ.).
РЕАЛЬНОСТЬ (от лат. realis — действительный) — существующее в действительности. В диалектич. материализме термин «Р.» употребляется в двух смыслах: 1) объективная Р., т. е. материя в совокупности различных ее видов. Р. противополагается здесь субъективной Р., т. е. явлениям сознания; 2) все существующее, т. е. весь материальный мир, включая все его идеальные продукты. В этом смысле реальны ошибки и иллюзии.
Термин «Р.» появился в 13 в. у схоластов применительно к вещам, обладающим «значительной степенью» бытия, а в наибольшей мере — к богу как «полноте бытия», ens realissimum. Несколько позднее содержание понятия Р. стало предметом спора между реализмом и номинализмом. Учение схоластов о степени Р. встречается затем у Декарта и Спинозы, к-рый приписал наивысшую.степень Р. субстанции. Лейбниц соответственно считал, что наибольшая Р. присуща монадам. Согласно Локку, первичные качества вещей обладают большей Р., чем вторичные (см. «Опыт о человеч. разуме», кн. 2, гл. 30, § 2). У Беркли Р. по нисходящим степеням присуща богу, человеч. душам и наиболее «живым» идеям, т. е. ощущениям, тогда как Юм и Спенсер считали, что большей Р. обладают воскрешаемые сознанием и в этом смысле устойчивые впечатления. Кант различал «эмпирич. Р.» явлений и категориальную Р. как «трансцендентальную материю всех предметов» познания. С т. зр. Фихте, Р. совпадает с активностью и проистекает из продуктивной силы его воображения. Гегель рассматривал Р. не только как онтологич., но и как логическую категорию (см. «Наука логики», кн. II, отдел 3, гл. 2).
В совр. бурж. философии (как во всей предшествующей) содержание понятия Р. в той или иной системе определяется исходными моментами соответствующей системы. Если у Бергсона Р. актуализируется из «жизненного порыва», то прагматист Ф. Шиллер рассматривает Р. как результат преобразования субъектом «сырого опыта», так что субъект сам «делает» Р. В системах неопозитивизма Р. есть то, что поддается верификации и совпадает с ощущаемостью «данного» субъектом. В лингвистич. позитивизме позднего Витгенштейна и Остина «реальный» приобретает значения: «обычный», «естественный», «живой» и т. д. В ряде совр. концепций возрождается спор реалистов и номиналистов о Р. свойств, отношений и т. д. Крайние позиции были представлены реизмом позднего Ф. Брен-тано, по к-рому подлинная Р. присуща только вещам, и концепцией раннего Рассела, по к-рой реальны не вещи, но события (процессы) и отношения. В диалектич. материализме критерием Р. объектов, процессов, событий, фактов, св-в и т. д. является общественная, в т. ч. научно-экспериментальная и технич. практика человечества.
Лит. см. при ст. Бытие, Материя. И. Нарспий. Москва.
РЕВИЗИОНИЗМ (от лат. revisio — пересмотр) — антинауч. метод пересмотра положений марксизма; оппортунистич. направление внутри революц. рабочего движения, к-рое под предлогом творч. осмысления новых явлений действительности осуществляет ревизию коренных, подтверждаемых практикой положений марксистской теории.
Р. возник в конце 70-х гг. 19 в. в герм. с.-д. партии, уже вставшей на позиции марксизма. Хёхберг, Берн-штейн и Шрамм выступили в 1879 с пересмотром осн. положений революц. теории. Маркс и Энгельс в спец. письме, адресованном А. Бебелю, В. Либкнехту, В. Бракке и др. («Циркулярное письмо»), дали решит, отпор этой первой вылазке ревизионистов. Окончательно Р. оформился после смерти Маркса и Энгельса, когда в 90-х гг. Бернштейн, выступив с наиболее цельной программой ревизии марксизма, дал имя этому течению. В нач. 20 в. Р. распространился в с.-д. движении Германии, Франции, Австро-Венгрии, России и др. странах, где на оппортунистич. позиции скатились Каутский, Бауэр, Вандервельде, Шейдеман, Легин, Мартов, Богданов и др.
Р. конца 19— нач. 20 вв. выступил с пересмотром всех сторон учения Маркса. В области философии ревизионисты не признавали научности диалектич. материализма, ссылаясь на достижения новейшего естествознания, они объявляли диалектику «ловушкой», заменяли материализм кантианством, берклеан-ством и махизмом. В экономич. теории, ссылаясь на «новые данные хозяйств, развития», они утверждали, будто вытеснение мелкого произ-ва крупным замедлилось, а в с. х-ве не происходит вовсе, будто тресты и картели позволяют капитализму устранить кризисы, что расчеты на крушение капитализма не реальны, т. к. намечается тенденция к смягчению его противоречий. В политич. области, апеллируя к новым явлениям социальной жизни, ревизионисты пересматривали марксистское учение о классовой борьбе и ее цели, они заявляли, что политич. свобода, демократия, всеобщее избират. право уничтожают почву для классовой борьбы. «„Конечная цель — ничто, движение — все", это крылатое словечко Бернштейна,— писал Ленин,— выражает сущность ревизионизма лучше многих длинных рассуждений» (Соч., т. 15, с. 23).
Решит, критику ревизионизма дал Ленин. Обстоят, критика Р. содержится также в ряде работ Плеханова, Люксембург, К. Либкнехта, Меринга, Цеткин и др. представителей революц. марксистской мысли.
После краха 2-го Интернационала (1914), вызванного укоренением оппортунизма, рабочее движение раскололось на правую, социал-реформистскую часть, и левую, революц. часть, развившуюся в дальнейшем в междупар. коммунистич. движение. Поскольку с возникновением и распространением ленинизма внутри коммунистич. движения господствующей идеологией становится марксизм-ленинизм, Р. пытается в 20— 40-е гг. и позже пересматривать уже эту теорию.
Наиболее массированную попытку ревизовать марксизм-ленинизм предприняли оппортунисты внутри коммунистич. движения в 50—60-е гг. Спекулируя на новых послевоен. явлениях и процессах, не получивших еще науч. марксистского объяснения, воспользовавшись трудностями коммунистич. движения, связанными с преодолением последствий культа личности, в конце 50-х гг. широко распространился Р. справа, пытавшийся столкнуть революц. рабочее движение на социал-реформистский путь. С ревизионистских позиций в 50-х гг. выступали А. Лефевр, П. Эрве (Франция), Дж. Гейтс, А. Биттелмен (США), А. Джо-литти (Италия), М. Джилас (Югославия), Р. Зиманд, Л. Колаковский (Польша), Э. Блох (ГДР) и др. Особенно крупную вылазку предприняла ревизионистская группа Надя—Лошонци в Венгрии, проложившая путь контрреволюции 1956. Р. 50-х гг. пытался подвергнуть радикальному пересмотру все три составные части марксизма-ленинизма. В области философии оппортунисты ревизовали марксистский материализм, утверждали, будто неореализм, позитивизм, операционализм, семантич. философия сближаются с материализмом, что само противопоставление мате-
478
РЕВИЗИОНИЗМ
 риализма идеализму изжило себя, что необходимо «обогатить» диалектич. материализм экзенстенциа-листским учением о человеке, интуитивистской теорией познания, позитивистским пониманием законов диалектики как гипотетических, не поддающихся «верификации». В социально-экономич. области ревизионисты стремились сочетать марксизм-ленинизм с каутскианством и кейнсианством, с различными концепциями «этич.», «демократич.», «антропологич.» социализма, распространяли теорию «трансформации капитализма в социализм», отстаивали лозунги «интегральной демократии», «нац. коммунизма», «идео-логич. умиротворения». Особенно широкому пересмотру подвергались политич. аспекты марксистско-де-нинской теории. «Современный ревизионизм,— говорилось в Декларации 1957,— пытается опорочить великое учение марксизма-ленинизма, объявляет его „устаревшим" и якобы утратившим ныне значение для общественного развития. Ревизионисты стремятся вытравить революционную душу марксизма, подорвать веру рабочего класса и трудового парода в социализм. Они выступают против исторической необходимости пролетарской революции и диктатуры пролетариата при переходе от капитализма к социализму, отрицают руководящую роль рабочего класса и марксистско-ленинской партии, отрицают принципы пролетарского интернационализма, требуют отказа от основных ленинских принципов партийного строительства и прежде всего от демократического централизма, требуют превращения коммунистической партии из боевой революционной организации в некое подобие дискуссионного клуба» («Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм», М., 1961, с. 15). Междунар. коммунистич. движение в Декларации 1957 и Заявлении 1960 осудило Р. как гл. опасность в своих рядах, подвергло его всесторонней критике, постепенно очистило свои ряды от активных поборников Р.
риализма идеализму изжило себя, что необходимо «обогатить» диалектич. материализм экзенстенциа-листским учением о человеке, интуитивистской теорией познания, позитивистским пониманием законов диалектики как гипотетических, не поддающихся «верификации». В социально-экономич. области ревизионисты стремились сочетать марксизм-ленинизм с каутскианством и кейнсианством, с различными концепциями «этич.», «демократич.», «антропологич.» социализма, распространяли теорию «трансформации капитализма в социализм», отстаивали лозунги «интегральной демократии», «нац. коммунизма», «идео-логич. умиротворения». Особенно широкому пересмотру подвергались политич. аспекты марксистско-де-нинской теории. «Современный ревизионизм,— говорилось в Декларации 1957,— пытается опорочить великое учение марксизма-ленинизма, объявляет его „устаревшим" и якобы утратившим ныне значение для общественного развития. Ревизионисты стремятся вытравить революционную душу марксизма, подорвать веру рабочего класса и трудового парода в социализм. Они выступают против исторической необходимости пролетарской революции и диктатуры пролетариата при переходе от капитализма к социализму, отрицают руководящую роль рабочего класса и марксистско-ленинской партии, отрицают принципы пролетарского интернационализма, требуют отказа от основных ленинских принципов партийного строительства и прежде всего от демократического централизма, требуют превращения коммунистической партии из боевой революционной организации в некое подобие дискуссионного клуба» («Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм», М., 1961, с. 15). Междунар. коммунистич. движение в Декларации 1957 и Заявлении 1960 осудило Р. как гл. опасность в своих рядах, подвергло его всесторонней критике, постепенно очистило свои ряды от активных поборников Р.
Рассматривая Р. как идеологич. явление, следует видеть его специфику, гносеологич. и классовые, корни. Будучи одной из форм теоретич. обоснования оппортунизма внутри революц. марксистского движения, Р. имеет специфич. черты: он сохраняет формальную связь с революц. теорией, выдавая себя за «творч. марксизм»; возникает в результате ненаучного, выгодного буржуазии пересмотра положений марксизма; как правило, Р. прикрывается принципом «свободы критики», выступает под флагом антидогматизма и получает наибольшее распространение во время существ, поворотов рабочего движения. Поскольку Р. является теоретич. обоснованием оппортунизма, имеющего две гл. формы — правый и левый оппортунизм, постольку сам Р. тоже бывает «Р. справа», когда ревизуемые положения марксизма заменяются бурж.-реформистскими взглядами, и «Р. слева», когда пересматриваемые положения заменяются анархистскими, бланкистскими, волюнтаристскими установками. Ленин подчеркивал важность теоретич. анализа как «Р. слева», обрисовавшегося тогда в романских странах, так и «Р. справа», широко распространившегося в ряде др. европ. стран (см. Соч., т. 15, с. 24). Общая противоположность того и другого Р. революц. марксизму не отменяет их собств. коллизий; это особенно заметно в последнее время: концепции правооппорту-нистич. Р. конца 50-х гг. находятся в остром конфликте с теми идеями «Р. слева», к-рые наряду с догматизмом и сектантством нашли применение в левом оппортунизме 60-х гг.
В гносеологич. отношении необходимо различать теоретико-познават. корни Р. в целом и той или иной его концепции. Взятый в целом, Р. паразитирует на относят, характере марксистских знаний. Как и любая наука, марксизм не может дать исчерпывающе
абсолютное знание об изменяющейся действительности. В ходе обществ, развития отд. положения марксистской теории, ранее правильно отражавшие действительность, устаревают, вступают в противоречие с изменившейся действительностью. Это требует не просто дополнения имеющихся выводов новыми, но и известной переоценки прежних формулировок, пересмотра имеющихся знаний с целью освобождения их от устаревших положений и формул. В подобном пересмотре нет ничего ревизионистского. Спекулируя на необходимости такой переоценки устаревших положений теории, Р. в гносеологич. отношении представляет собой результат субъективистской ревизии марксизма в отрыве и противоречии с действительностью, ибо им подвергаются пересмотру не устаревшие выводы, а сохраняющие свою правильность принципы марксизма. Однако не всякая ошибка и односторонность, не любой просчет и субъективизм, допущенные при пересмотре тех или иных марксистских положений, приводят к Р. Будучи продуктом классового общества, Р. выступает как социально обусловленное извращение марксистской теории.
В классовом отношении имеется известная разница между классовой природой и социальной функцией Р., между тем, чьи позиции он отражает, и тем, кому он служит. Если по своему классовому происхождению Р.— результат мелкобурж. и бурж. воздействия на революц. рабочее движение, то по своей классовой природе Р.— идеология мелкой буржуазии, рабочей аристократии, средних слоев. Он отражает обществ, положение этих двойственных по своей природе, колеблющихся по своим устремлениям социальных групп, примыкающих то к рабочему классу, то к буржуазии. По своей социальной функции Р. выступает как проводник влияния буржуазии в революц. рабочем движении.
Р. как идейно-политич. течение охватывает по своему содержанию различные области обществ, науки: философию, политич. экономию, теорию науч. коммунизма, историю философии, этику, эстетику и др. Поэтому критич. анализ ревизионистских концепций— задача различных наук. Марксистская философия анализирует филос. аспекты Р. Этот анализ предполагает: во-первых, изучение филос. концепций Р., сознательно отстаиваемых и пропагандируемых ревизионистами и представляющих собой филос. Р.; во-вторых, рассмотрение методологии, к-рая присуща ревизионистскому способу мышления, независимо от того, осознается она или нет самими ревизионистами, и к-рая составляет философско-методологич. основы ревизионизма; в-третьих, раскрытие теоретикопо-знават. истоков, гносеологич. корней отд. ревизионистских концепций.
Филос. Р.— это отнюдь не единое раз навсегда избранное филос. миропонимание, а исторически изменяющаяся эклектич. сумма различных филос. концепций. В конце 19— нач. 20 в. часть ревизионистов проповедовала кантианство (Бернштейн, Шмидт), другая часть — подправленный махизм (Богданов, Базаров), третья — смесь неокантианства с вульгарным материализмом (Каутский) и т. д. В ревизионистских теориях 50-Х гг. можно обнаружить влияние экзистенциализма (Блох), позитивизма (Бламберг), неокантианства (Лефевр) и т. д. Представители Р. предлагали, в частности, дополнить философию Маркса фейербаховским антропологизмом и гегелевской систематикой, сделать, ее предметом познания имманентного материи «тотума» (Блох), рекомендовали поставить в центр проблему отчуждения (Лефевр), советовали разрабатывать философию, имеющую не мировоззренческую, а моральную функцию (Колаков-ский). Характерно и то, что в прошлом ревизионисты прямо отвергали диалектич. материализм и призы-
РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ 479
 вали признать «философией марксизма» те или другие модные в то время бурж. филос. концепции; теперь диалектич. материализм признается философией марксизма, но он истолковывается Р. таким образом, что в конечном итоге оказывается замененным тем или иным бурж. филос. учением, а нек-рые ревизионисты вместо диалектич. материализма выдвигают т. н. «натуралистич. гуманизм» и вместо историч. материализма — «историч. гуманизм».
вали признать «философией марксизма» те или другие модные в то время бурж. филос. концепции; теперь диалектич. материализм признается философией марксизма, но он истолковывается Р. таким образом, что в конечном итоге оказывается замененным тем или иным бурж. филос. учением, а нек-рые ревизионисты вместо диалектич. материализма выдвигают т. н. «натуралистич. гуманизм» и вместо историч. материализма — «историч. гуманизм».
Методологич. основы Р.— это определ. устойчивый субъективизм, лежащий в теоретич. фундаменте всех его концепций и выражающийся в эклектике и софистике (см. там же, т. 28, с. 213). Здесь находит свое выражение устойчивая, классово обусловленная черта всего Р., связанная и с его социальной функцией, что ведет в теории, в философии к попыткам совмес тить пролет, философию с буржуазной, материализм с идеализмом. Так, в филос. воззрениях Базарова и Богданова налицо сочетание материализма с субъективным идеализмом, материалистич. тезиса о взаимодействии субъекта и объекта с авенариусовской «принципиальной координацией Я и не — я»; в философии Блоха идеалистич. телеология совмещается с тезисом о материальности мира и т. п. Для обоснования своих взглядов ревизионисты широко используют софистику. Эклектизм и софистика вполне соответствуют практич. целям Р. «При подделке марксизма под оппортунизм,—писал Ленин,—подделка эклектицизма под диалектику легче всего обманывает массы, дает кажущееся удовлетворение, якобы учитывает все стороны процесса, все тенденции развития, все противоречивые влияния и проч., а на деле не дает никакого цельного и революционного понимания процесса общественного развития» (там же, т. 25, с. 372).
Гносеологич. корни отд. ревизионистских концепций представляют собой те стороны, черточки, грани в познании действительности, из абсолютизации к-рых вырастает данная концепция. Так, если ревизионистская концепция «национального коммунизма» (Надь) вырастает из преувеличения нац. особенностей социалистич. строительства, то идея «интегральной демократии» (Колаковский) — продукт абсолютизации и интегрирования общих и сходных черт пролет, и бурж. демократии, а «антропологическая марксистская философия» (Блох) — следствие раздувания общечеловеч. проблем в философии, результат подмены социально-классового индивида абстрактным человеком.
Междунар. революц. рабочее движение ведет решит, борьбу против филос. Р., против ревизионизма справа и слева, пытающегося идеологически разоружить рабочий класс, привить ему реформистские или анархистские взгляды.
Коммунистам, партии, философы-марксисты вскрыли теоретич. несостоятельность и политич. вред Р. вообще, филос. Р. в частности. В результате идейной борьбы и организац. мер влияние правооппортунис-тич. Р. за последние годы резко упало, а его наиболее активные поборники оказались вне рядов коммунис-тич. движения.
Лит.: МарксК. иЭнгельс Ф., [Письмо] А. Бебелю, В.Либкнехту, В. Вракке и др. («Циркулярное письмо») от[17— 18 сент. 1879 г.], в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. письма, М., 1953; Ленин В. И., Марксизм и ревизионизм, Соч., 4 изд., т.15; е г о ж е, Разногласия в европ. рабочем движении, там же, т. 16; е г о ж е, Историч. судьбы учения Карла Маркса, там же, т. 18; е г о же, Крах II Интернационала, там же,т. 21, е г о же, Детская болезнь «левизны» в коммунизме, там же, т. 31; Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм, М., 1961; Против совр. Р., М., 1958; БутенкоА. П., Осн. черты совр. Р., М., 1959; Б у т е н к о А. П. [и др.], Против совр. Р. в философии и социологии, М., 1960; За чистоту марксизма-ленинизма, М., 1964.
А. Бутенко. Москва.
РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ (позднелат. si-tuatio — положение) — предшествующее революции
состояние общества, к-рое возникает в результате крайнего обострения антагонистич. противоречий и служит показателем зрелости объективных, соци-ально-экономич. и политич. предпосылок революции. Ленин указывал след. гл. признаки Р. е.: 1) Кризис «верхов», свидетельствующий о невозможности для господствующего класса сохранить свое господство в неизменном виде. «Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы „низы не хотели", а требуется еще, чтобы „верхи не могли" жить по-старому». 2) Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов. 3) Значительное повышение ...активности масс, ...привлекаемых как всей обстановкой кризиса, так и с а м и м и „в е р-х а м и" к самостоятельному историческому выступлению. Без этих объективных изменений, независимых от воли не только отдельных групп и партий, но и отдельных классов, революция — по общему правилу — невозможна» (Соч. т. 21, .с. 189—90).
Проблему Р. с. Ленин выдвинул в работах, написанных в период первой рус. революции; термин «Р. с.» Ленин впервые использовал в янв. 1906 в ст. «Гос. дума и социал-демократич. тактика» (см. там же, т. 10, с. 89).
Р. с. складывается и развивается на основе противоречий данного способа произ-ва. Но возникновение в обществе материальных условий, необходимых для появления новой социально-экономич. формации, недостаточно для того, чтобы вызвать революц. переворот. Обществ, противоречия должны еще со всей остротой проявиться в сфере политич. отношений, породить глубокий политич. кризис, достигающий степени Р. с. В совр. эпоху перехода от капитализма к социализму любая страна независимо от уровня ее развития может стать на путь, ведущий к социализму. Однако зрелость материальных предпосылок социализма в мировом масштабе еще не говорит о наличии объективных конкретно-историч. условий для социалистич. переворота в той или иной стране, к-рые только и позволяют непосредственно ставить вопрос о революции. Объективный характер перемен, отличающих Р. с, не позволяет рассматривать ее, как это делали нек-рые бурж. критики ленинизма, в качестве чисто стихийного процесса, к-рый не заключает элемента политич. сознательности масс. Отмечая рост активности масс как признак Р. с, Ленин показал, что ее возникновение предполагает определ. уровень субъективных условий, к-рые по отношению к задачам и политике борющихся классов и партий выступают как объективный фактор дальнейшего развития революции. Поэтому коммунисты в любых условиях готовят массы к революц. борьбе. Возникновение Р. с. свидетельствует только о возможности революции. Не всякая Р. с. приводит к революции. Так, Р. с. 1859— 1861 и 1879—80 в России; в 1923 в Германии и многие другие не переросли в революции. Для успеха революции недостаточно объективных условий. Необходима и зрелость субъективного фактора — сознательность и организованность масс, готовность их к борьбе за новый строй, сплоченность вокруг опытного революц. авангарда. Основоположники марксизма решительно выступали против ультрареволюц. анархистских и заговорщич. течений вроде бакунизма, бланкизма и т. п., толкавших рабочее движение на путь вооруж. борьбы вопреки объективным условиям своего времени. Стремление к развязыванию революции при отсутствии Р. с. нашло проявление и в деятельности различных групп, выступавших под флагом марксизма («левых» коммунистов, троцкистов, совр. «левых» оппортунистов). Ленин подверг критике как фаталистич. правооппортунистич. теории автома-тич. крушения капитализма, так и волюнтаристские, авантюристпч. взгляды «левых» в коммунистич. дви-
480 РЕВОЛЮЦИЯ
 жении, готовых «подталкивать» революцию в убеждении, что ее успех зависит лишь от революционности одного авангарда.
жении, готовых «подталкивать» революцию в убеждении, что ее успех зависит лишь от революционности одного авангарда.
В прошлом Р. с. часто возникали в связи с войнами и вызванными ими чрезвычайными потрясениями (Р. с, предшествовавшие Парижской Коммуне, революциям 1905—07 и 1917 в России, нар.-демократич. революциям 40-х гг.). Но марксисты никогда не рассматривали войну как обязат. условие вызревания Р. с. История дала немало примеров того, как и в периоды сравнительно мирного развития в отд. странах складывались Р. с. (напр., накануне франц. бурж. революции конца 18 в., революций 1848 в Европе, на Кубе в конце 50-х гг. 20 в.).
Совр. эпоха вносит новые черты и изменения в процесс формирования Р. с. Превращение социалис-тич. системы в решающую силу развития человечества создает благоприятные междунар. условия для мирового революц. движения и выступает как важный фактор вызревания Р. с. в капиталистич. странах. По сравнению с Р. с. прошлого возрастает роль субъективного фактора. В то же время развитие революц. процесса отличается значит, своеобразием в отд. странах или группах стран (в империалистич. странах, в странах со слаборазвитой экономикой и т. д.) и многообразием форм Р. с.
В зависимости от конкретных условий меняется соотношение, «удельный вес» гл. признаков Р. с. Р. с. в совр. условиях не связана обязательно с абс. обнищанием масс. Она вызывается обострением социальных бедствий различного рода и наступлением сил реакции (необеспеченность существования широких масс, угроза войны, попрание демократич. прав, стремление лишить рабочий класс его социальных завоеваний и т. п.). После возникновения Р. с. объективно сохраняется возможность как мирного, так и немирного развития революции, что зависит прежде всего от силы сопротивления господствующего класса.
Р. с. различаются степенью зрелости, накалом классовых противоречий. В марксистской лит-ре высказывались предложения различать ее ступени или фазы, для чего вводились понятия «общей» и «непосредственной» Р. с. (в нек-рых работах общая Р. с. неправомерно сближалась с общим кризисом капитализма и тем самым теряла свои специфич. черты). Определение этих граней и выработка тактики ком-мунистич. партии возможны только на основе всестороннего изучения сложившихся в той или иной стране условий.
Лит.: Л е н и н В. И., Равновесие сил, Соч., 4 изд., т. 9,
с. 382; е г о ж е, Маевка революц. пролетариата, там же, т. 19,
с. 194—96; его же, Распущенная Дума и растерянные ли
бералы, там же, с. 228; его же, Крах II Интернационала,
там же, т. 21, с. 188—93; е г о ж е, Истинные интернациона
листы: Каутский, Аксельрод, Мартов, там же, с. 364; его же,
Детская болезнь «левизны» в коммунизме, там же, т. 31, с.
65—66, 74—75; е г о ж е, О нашей революции, там же, т. 33;
Гальперин 9. Ю., В. И. Ленин о Р. с, «Зап. Ленингр.
с.-х. ин-та», 1959, вып. 75; Красин Ю. А., Ленинская тео
рия социалистич. революции, Л., 1960; Альварес С,
Нек-рые вопросы Р. с., «ПМиС», 1963, № 12; Федосеев
П., Материалистич. понимание истории и «теория насилия»,
«Коммунист», 1964, № 7. А. Завадъе. Москва.
РЕВОЛЮЦИЯ (франц. revolution, от позднелат. revolutio— переворот) — качеств, изменение, коренной переворот в социальной жизни, обеспечивающий поступательное, прогрессивное развитие. Следует различать Р. как общественно-политич. переворот, охватывающий весь социальный организм, и Р. как качеств, изменение отд. сфер социальной жизни. Р. является проявлением скачка в обществ, развитии (см. также ст. Переход количественных изменений в качественные).
Общественно-политич. переворот, будучи социальной Р., необходимым образом связан с господством частной собственности на средства произ-ва и классо-
выми антагонизмами. Вызревая на основе экономич. противоречий и выступая как наивысшее проявление борьбы классов, социальная Р. обеспечивает постулат, преобразование социально-экономич. структуры общества. В этом плане социальная Р. противоположна контрреволюции, представляющей собой регрессивное, попятное движение в социальном развитии, временно реставрирующее, укрепляющее отжившие обществ, порядки. Как радикальное, качеств, изменение существующих условий и структуры социальной жизни, Р. отличается от эволюции, т. е. постепенного изменения тех или др. сторон обществ, жизни. Р. отличается и от реформы, находясь с ней в сложном отношении, определяемом классовой сущностью самой Р. и реформы.
Р. как качеств, изменение отд. сторон социальной жизни вызревают в результате постепенного накопления и обострения противоречий обществ, развития, в результате крупнейших открытий и изобретений. Подобные Р. (в технике, естествознании, философии и т. д.) означают существенную коренную ломку сложившихся принципов, представлений, концепций и проявляются в перестройке соответствующих сфер социальной жизни. Напр., совр. общество — и социалистическое и капиталистическое — переживает научно-техническую революцию, поскольку происходит качеств, перестройка научно-технич. базиса произ-ва, вызванная новейшими достижениями науки и техники. Развитие культуры и науки тоже знает свои Р.: культурные революции в социалистич. странах; в естествознании, вызываемые фундаментальными открытиями; в сфере обществ, знаний, напр. революц. переворот, совершенный в обществ, науках Марксом и Энгельсом. Такого рода Р. не всегда связаны необходимым образом с обществ, антагонизмами; они имели место до сих пор, сохранятся они и в будущем, поскольку в бесклассовом обществе также будут коренные изменения в научно-технич. основе общества, его культуре, науч. знаниях.
Науч. раскрытие сущности социальной Р. впервые дал марксизм. Маркс, Энгельс и Ленин показали, что со времени возникновения частной собственности и раскола общества на антагонистич. классы вплоть до перехода к социализму человечество поднимается от одной общественно-экономич. формации к другой, проходя сквозь горнило социальных Р. Каждый тип социальной Р. имеет специфич. черты, обусловленные уровнем экономич., политич. и идеологич. развития общества, объективным содержанием революц. процесса, характером борющихся классов, их орг-ций и их сознательностью. Переход от первобытнообщинного строя к рабовладельческому (или феодальному) является социальным переворотом, но, поскольку это был переход от бесклассового общества к классовому, он не имел мн. черт социально-политич. Р. (классы только зарождались, и поэтому не стоял вопрос о смене классового господства и др.). Специфич. взаимосвязь внутр. и внешних факторов, обусловивших гибель рабовладельч. строя, наложила свою печать и на этот первый тип социально-политич. переворота (см. Рабовладельческая формация). В развитом виде Р. выступает при низвержении феодализма, а также при крушении капитализма. При этом существуют глубочайшие качеств, различия буржуазной революции и социалистической революции.
По своему происхождению социально-политич. Р.— естеств. результат развития общества, основанного на частной собственности и классовых антагонизмах. Развертывание Р. обусловлено состоянием всего общества, совокупностью внутр. и внешних причин, взаимодействием объективных и субъективных факторов и становится возможным лишь при наличии революционной ситуации. Совершая Р., передовые
РЕВОЛЮЦИЯ
481
 силы открывают обществу путь в будущее, а сама Р. выступает как «локомотив истории». Социальная Р.— сложный процесс, охватывающий все сферы обществ, жизни; важнейшими взаимосвязанными сторонами этого процесса являются экономия, основа Р., ее движущие силы, вопрос о гос. власти, характер осуществляемых социально-экономич. преобразований.
силы открывают обществу путь в будущее, а сама Р. выступает как «локомотив истории». Социальная Р.— сложный процесс, охватывающий все сферы обществ, жизни; важнейшими взаимосвязанными сторонами этого процесса являются экономия, основа Р., ее движущие силы, вопрос о гос. власти, характер осуществляемых социально-экономич. преобразований.
Эконом и ч. основу социальной Р. составляют противоречия способа произ-ва материальных благ. «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или—что является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13, с. 7). При переходе от одной общественно-экономич. формации к другой историч. роль социальной Р. в том и состоит, чтобы разрушить господствующие производств, отношения как устаревшие, тормозящие обществ, развитие, и утвердить новые, соответствующие характеру производит, сил, обеспечивающие их быстрое развитие. Поскольку в ходе истории классового общества развитие производит, сил на определ. этапе вступало в противоречие с рабовладельческой, затем феодальной, наконец, буржуазной частной собственностью на средства произ-ва, осн. типы социальных Р. соответствуют этим переходам от формации к формации, причем особое место среди них занимает социалистич. Р., призванная упразднить частную собственность, перестроить все стороны обществ, жизни на новых, социалистич. началах. Однако даже при учете только экономия, основ переворота все многообразие социалыю-политич. Р. не может быть сведено к этим трем осн. типам. Во-первых, известны Р., имевшие своей экономич. основой противоречие между развитием производит, сил и определ. сторонами господствующих производств, отношений. Подобные Р. не выводят за рамки данной общественно-экономич. формации, хотя и вносят существ, изменения в систему производств, отношений, ведут к перераспределению существующей собственности. Примером могут служить франц. бурж. Р. 19 в., развертывавшиеся в границах капиталистич. формации. Во-вторых, в 20 в. протекают Р., имеющие своей основой не одно, а два разнородных, хотя и взаимосвязанных, противоречия: с одной стороны, противоречие между развитием производит, сил и отжившими феод, или полуфеод, производств, отношениями, с другой — противоречие между интересами нац. экономич. развития и гнетом иностр. монополистич. капитала. Таковы народно-демократические революции в Европе и Азии; нац.-демократич., антиимпериалистич., антифеод, революции в ряде стран Азии и Африки и др. В-третьих, в совр. обстановке, в условиях распада колониальной системы империализма развертываются Р., в основе к-рых лежит специфич. противоречие между развитием нац. производит, сил и засильем иностр. империализма. Именно такими являются национально-освободительные революции в странах Азии, Африки и Лат. Америки. Сложное переплетение различных обществ.-экономич. укладов в жизни той или иной страны, особенности ее междунар. положения предопределяют большое разнообразие экономич. основ социальных Р., тех обществ, противоречий, к-рые приводят в движение самые разнородные классовые силы.
Движущие силы Р.— это классы, социальные группы и слои, осуществляющие социальный переворот. Состав движущих сил Р. обусловлен ее экономич. основой. В разрешении возникшего конфликта
в данном способе произ-ва, в устранении старых производств, отношений и замене их новыми заинтересованы передовые классы общества, громадное большинство его, ибо углубление и обострение этого противоречия ведет к ухудшению экономич. положения нар. масс.
Хотя состав и степень участия движущих сил Р. определяется ее экономич. основой, он зависит и от др. факторов (сознательности угнетенных классов, их организованности) и потому имеет по отношению к экономич. основе известную самостоятельность. Во-первых, не в каждой социальной Р. все классы, объективно заинтересованные в ее победе, выступают в качестве ее движущих сил. Так, во франц. революции 1871, имевшей социалистич. направленность, создавшей Парижскую Коммуну как форму диктатуры пролетариата, трудящееся крестьянство практически не приняло участия, хотя объективно его интересы могли быть удовлетворены именно на путях социалистич. переустройства общества. Во-вторых, классы, осуществляющие Р., могут выступать с большей или меньшей активностью, более или менее самостоятельно. В том случае, если широкие массы народа не являются активными участниками борьбы, переворот приобретает характер «верхушечной» Р. (напр., турецкая революция 1908, иракская революция 1958), если же глубочайшие обществ, «низы» активно участвуют в событиях и накладывают на ход борьбы отпечаток своих собств. требований, Р. обретает вид народной революции (напр., рус. революция 1905 — 07, кубинская революция 1959).
Чем глубже назревшее социальное преобразование, тем шире непосредств. участие в нем масс населения. От одного типа социальной Р. к другому неуклонно возрастала сложность революц. задач и одновременно умножалось число творцов социального переворота.
В Р., совершаемой различными социальными группами, один из классов, составляющих движущие силы, выступает руководителем, гегемоном. Это — наиболее сознательный и организованный класс, руководимый партией политической и сплачивающий вокруг себя подавляющую часть революц. сил. Обычно класс-гегемон по своему объективному положению является носителем того социального идеала, тех обществ, отношений, к-рые призвана утвердить данная Р. Но возможно и иное положение: поскольку гегемония завоевывается наиболее последоват. и решит, революц. действиями, гегемоном Р. может стать класс, чей социальный идеал еще не осуществляется в данной Р. Так, гегемоном обеих бурж.-демократич. Р. 1905— 1907 и Февральской 1917 в России был пролетариат, а не буржуазия, больше боявшаяся решит, победы Р., чем ее поражения.
Активные сознат. выступления классов, составляющих движущие силы Р., против существующего строя,— важнейшая черта развивающейся Р., ибо без этого ни обострение экономич. противоречий, ни наличие объективных предпосылок революц. переворота, выражающееся в революц. ситуации, еще не означают Р. Именно активная сознат. деятельность вооруженных революц. теорией масс обусловливает то, что стихийный процесс развития уступает место сознательному, обществ, эволюция — социальной Р.
Для победы Р. недостаточно воли и желания большинства народа, тех или иных активных действий масс. На защите старой формы собственности, своих прав и привилегий стоит господствующий класс, к-рый поддерживают его союзники, а также вооруж. сила гос-ва. Чтобы сломить сопротивление этих реакц. обществ, сил, необходимо свергнуть защищающую их гос. власть и утвердить власть революц. классов.
Вопрос о гос. власти — осн. вопрос Р. «Переход государственной власти из рук одного в
«82 РЕВОЛЮЦИЯ —РЕГРЕСС
 руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции как в строго-научном, так и в практически-политическом значении этого понятия» (Л е н и н В. И., Соч., т. 24, с. 24—25). Борьба за социальный переворот неизбежно приобретает форму классовой борьбы за гос. власть, к-рая является орудием сохранения или преобразования существующих обществ, отношений. Поэтому Р. всегда выступает как результат классовой борьбы, протекающей в самых разнообразных формах. Р. представляет собой высшую точку классовой борьбы между прогрессивными и реакц. силами, когда обществ, антагонизмы разрешаются путем свержения отжившего и утверждения нового строя. Развитие социальной Р., в зависимости от соотношения борющихся сил, может осуществляться либо немирным путем (посредством вооруж. восстания и гражд. войны), либо мирным путем, когда победа революц. сил достигается без кровопролития. Как показывает историч. опыт, Р. могут происходить в условиях войны, но Р. и война пе связаны необходимым образом. Обстановка мирного сосуществования гос-в с различным обществ, строем, борьба за мир способствуют сплочению революц. и демократич. сил.
руки другого класса есть первый, главный, основной признак революции как в строго-научном, так и в практически-политическом значении этого понятия» (Л е н и н В. И., Соч., т. 24, с. 24—25). Борьба за социальный переворот неизбежно приобретает форму классовой борьбы за гос. власть, к-рая является орудием сохранения или преобразования существующих обществ, отношений. Поэтому Р. всегда выступает как результат классовой борьбы, протекающей в самых разнообразных формах. Р. представляет собой высшую точку классовой борьбы между прогрессивными и реакц. силами, когда обществ, антагонизмы разрешаются путем свержения отжившего и утверждения нового строя. Развитие социальной Р., в зависимости от соотношения борющихся сил, может осуществляться либо немирным путем (посредством вооруж. восстания и гражд. войны), либо мирным путем, когда победа революц. сил достигается без кровопролития. Как показывает историч. опыт, Р. могут происходить в условиях войны, но Р. и война пе связаны необходимым образом. Обстановка мирного сосуществования гос-в с различным обществ, строем, борьба за мир способствуют сплочению революц. и демократич. сил.
Те классы, к-рые являются движущими силами Р. и создают новую надстройку, причем, как правило, именно класс — носитель исторически новой для данной страны формы производств, отношений и приходит к власти в результате победы Р. Это и определяет в конечном счете ее социальное содержание. Но и здесь нет автоматизма: подобно тому, как классовый состав движущих сил имеет относит, самостоятельность по отношению к экономич. основе Р., так и классовая сущность устанавливаемой власти относительно самостоятельна по отношению к движущим силам Р. Во-первых, у революц. классов может оказаться недостаточно сил, чтобы добиться решит, победы, тогда и новая гос. власть, отражая эту непоследовательность, половинчатость переворота, попадает в руки социальных групп, стремящихся к компромиссу с реакц. силами (так было, напр., во время Р. 1848 в Германии). Во-вторых, в результате решит, борьбы революц. масс к власти могут прийти социальные группы, стремящиеся к наиболее радикальным преобразованиям, для осуществления к-рых еще не сложились необходимые объективные и субъективные условия. Раньше или позже подобные социальные группы, если им не удается опереться на новый подъем Р., уступают место правым силам, что знаменует начало «нисходящей» линии развития социальной Р. (напр., Р. 1789— 1794 во Франции). В-третьих, в тех странах,где не разрешены классовые противоречия различных ступеней историч. развития, возникает возможность последоват. социальных преобразований, в ходе Р. к власти может прийти класс, чей социальный идеал должен осуществиться не в данной, а в последующей Р. Если налицо необходимые предпосылки, то революц. преобразования приобретают вид «перманентной» революции: радикальное завершение задач ближайшей Р. перерастает в новую социальную Р. (по этому пути большевики стремились развивать бурж. -демократич. революции в России, так развертывались народно-демо-кратич. революции в ряде стран Европы и Азии).
Социально-экономич. преобразования — решающий итог победоносной Р. Установление новой власти отнюдь не представляет собой самоцели революц. борьбы, это — лишь гл. условие, важнейшее средство революц. преобразования обществ, жизни. Именно при помощи гос. власти новый класс (классы) получает возможность окончательно сломить сопротивление отживших обществ, групп, отменить законы, охранявшие старый строй, расчистить дорогу для развития обществ, отношений. Экономич. преобра-
зования, осуществляемые Р., наряду с классовой природой ее движущих сил, их гегемона и характером установленной власти определяют в своей совокупности социальное содержание Р., ее тип, ее историч. место в развитии общества.
Развертывающиеся в совр. эпоху перехода от капитализма к социализму революц. преобразования, начало к-рым положила Октябрьская социалистич. революция, имеют своим ядром социалистич. Р., а своим гл. опорным пунктом — мировую социалистич. систему, к-рая превращается в решающий фактор обществ, развития. Под определяющим воздействием успехов мирового социализма, в результате нац.-освободит. Р., завершается разрушение колониальной системы империализма. Развитие революц. процессов в освободившихся странах обогащает историч. материализм опытом осуществления нац.-освободит, антиимпериа-листич. Р.; нац.-демократич. антифеод, антиимпериа-листич. Р.; опытом некапиталистич. развития, представляющего собой революц. преобразования, ведущие к социализму, минуя капитализм и даже феодализм.
Все революц. силы современности: мировая социалистич. система, революц. рабочее движение капита-листич. стран, нац.-освободит, движение — расшатывают устои империализма, устои эксплуататорского общества и составляют в своем развитии единый мировой революц. процесс, ведущий прямо или опосредованно к повсеместной замене эксплуататорского общества социализмом. Победа социализма и коммунизма во всемирном масштабе будет означать начало качественно нового этапа истории: ликвидация частной собственности на средства произ-ва и эксплуатации человека человеком навсегда устранит из жизни общества социальные антагонизмы. Как отмечал Маркс, с этого времени откроется новая полоса развития общества, в к-рой социальные эволюции перестанут быть политпч. Р. (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 4, с. 185). См. также ст. Буржуазная революция, Народно-демократическая революция, Национально-освободительная революция, Социалистическая революция II ЛИТ. при ЭТИХ Статьях. А. Бутенко. Москва.
РЁГИУС — см. Де Руа, Г.
РЕГРЕСС (от лат. regressus — обратное движение) — тип развития, для к-рого характерен переход от высшего к низшему. Содержание Р. составляют процессы деградации, понижения уровня организации, утраты способности к выполнению тех или иных необходимых функций; Р. включает также моменты застоя, возврата к изжившим себя формам и структурам. По своей направленности Р. противоположен прогрессу. Процессы Р. могут иметь весьма разнообразное конкретное содержание: Р. системы может наступать в результате общего постепенного Р. всех ее элементов, в результате относительно быстрого Р. ряда ведущих элементов системы, в результате систематич. истощения осн. группы элементов системы в пользу относит, прогресса др. группы элементов. Между Р. и прогрессом существует сложная многосторонняя связь: с одной стороны, отд. регрессивные изменения происходят в рамках общего прогрессивного развития системы; с другой стороны, при нарастании регрессивных изменений системы в целом отд. ее составляющие сохраняют прогрессивное направление развития.
В обществ, развитии возможность Р. заложена в самой противоречивой сущности историч. процесса. Ленин подчеркивал, что «...история идет зигзагами и кружными путями» (Соч., т. 27, с. 137). Используя наличие в обществ, развитии противоречивых тенденций, реакц. классы и силы могут на какое-то время возобладать над прогрессивными силами (периоды реакции, рост фашизма). Поступат. развитие одних явлений и элементов часто сопровождается упадком
РЕГРЕССИВНЫЙ ПОЛИСИЛЛОГИЗМ — РЕЗУЛЬТАТ
483
 и деградацией других. Однако эти регрессивные явления представляют собой лишь продукт разложения отживших социальных форм, на смену к-рым уже явились повые, вобравшие в себя все прочное и ценное, что было у их предшественников. Разложение данного явления не прерывает кумулятивного процесса развития в рамках более общей системы и даже является одной из его необходимых предпосылок. «История,— писал Ленин,— не стоит на месте и во время контрреволюций. История шла вперед и во время империалистической бойни 1914—1916 годов...» (там же, т. 23, с. 261). 1-я и 2-я мировые войны принесли величайшие бедствия человечеству, но одновременно они расшатали устои капитализма, ускорив победу социалистич. революции в России, а затем — создание мировой социалистич. системы. Кризис и разложение капиталистич. общества и его культуры, к-рый бурж. социологи изображают как «закат мировой цивилизации», сопровождаются мн. болезненными явлениями. Но в историч. перспективе это лишь расчистка почвы для нового, коммунистич. общества.
и деградацией других. Однако эти регрессивные явления представляют собой лишь продукт разложения отживших социальных форм, на смену к-рым уже явились повые, вобравшие в себя все прочное и ценное, что было у их предшественников. Разложение данного явления не прерывает кумулятивного процесса развития в рамках более общей системы и даже является одной из его необходимых предпосылок. «История,— писал Ленин,— не стоит на месте и во время контрреволюций. История шла вперед и во время империалистической бойни 1914—1916 годов...» (там же, т. 23, с. 261). 1-я и 2-я мировые войны принесли величайшие бедствия человечеству, но одновременно они расшатали устои капитализма, ускорив победу социалистич. революции в России, а затем — создание мировой социалистич. системы. Кризис и разложение капиталистич. общества и его культуры, к-рый бурж. социологи изображают как «закат мировой цивилизации», сопровождаются мн. болезненными явлениями. Но в историч. перспективе это лишь расчистка почвы для нового, коммунистич. общества.
Лит. см. при ст. Прогресс.
И. Кон. Ленинград, Л. Серебряков. Москва.
РЕГРЕССИВНЫЙ ПОЛИСИЛЛОГИЗМ — см. Полисиллогизм.
|
|
РЕДКИЙ, Петр Григорьевич [4(16) окт. 1808— 7(19) марта 1891] — рус. правовед, историк философии и педагог. Окончил Нежинскую «гимназию высших наук». В 1826 поступил в Моск. ун-т; с 1828 — в Профессорском ин-те в Дерите, с 1830 — в Берлинском ун-те, где познакомился с философией Гегеля. По возвращении в Россию читал лекции по «энциклопедии законоведения» в Моск. ун-те. Д-р права (1835). С 1841 издавал «Юри-дич. записки», в 1843—46— журн. «Библиотека для воспитания», в 1847—49 — журн. «Новая библиотека для воспитания», оцененный Белинским как «предприятие полезное, дельное» (см. Поля. собр. соч., т. 10, 1956, с. 376). В 1848 Р. вместе с Кавелиным уволили из ун-та как «замешанного в вольнодумстве» и в течение 15 лет не допускали к преподават. деятельности. С 1863— проф. кафедры энциклопедии юридич. и политич. наук в Петерб. ун-те. В 80-х гг. Р. создал 7-томный труд «Из лекций по истории философии права в связи с историей философии вообще» (СПБ, 1889—91); вышедшие в свет тома посвящены др.-греч. философии.
В фил ос. развитии Р. заметны два периода: до 60-х гг. он — гегельянец, после — в его взглядах сильны позитивистские тенденции. В полемике 60—70-х гг. вокруг дарвинизма Р. был одним из защитников эволюц. теории. В 1841 в журн. «Москвитянин» (ч. 4, кн. 8) Р. опубликовал первое в России печатное изложение осн. положений гегелевской диалектики (ст. «Обозрение гегелевой логики»). Отвергая претензии религии на руководство философией, Р. утверждал, что «...развитие мышления происходит само собою по законам самого мышления, или по законам разума» («Какое образование требуется современностью от рус. правоведа?», М., 1846, с. 23). Основа успехов человечества — достижение единства «теории и практики, науки и жизни, мышления и деятельности» (там же, с. 26). Наука есть «разумное развитие мышления» и подразделяется «на три главные отрасли» — философию, историю и филологию (см. там же, с. 27). «Философия есть наука, заключающая в себе верховное начало для всех отдельных наук» (там же, с. 28).
История философии «есть не что иное, как ее (философии.— Ред.) становление, или логическое развитие во времени» (там же, с. 46).
Мировоззрению Р. присущи просветит, тенденции. В просвещении народа, по Р., особое место принадлежит педагогике. «...От нея преимущественно я жду спасения нашей будущности»,— говорил он («Из записок А. А. Чумикова», см. «Русский архив», 1902, № 9, кн. 3, с. 12). Р. был одним из основателей первого в России Педагогич. об-ва. Учеником Р. в педагогике был Ушинский.
Соч.: Избр. пед. соч., вотуп. ст. В. Я. Струминского, М., 1958.
Лит.: Е. О., Здравый идеализм, «Вести. Европы», 1889,
кн. 6 (июнь); Ш и м а и о в с к и й М. В., П. Г. Редкий, О.,
1890. , В. Малииип. Москва.
РЕДУКЦИЯ (лат. reductio, букв.— отодвигание назад), сведение,— методологич. прием, играющий, в частности, важнейшую роль в логике, математике и др. дедуктивных науках. Р. состоит в нек-ром преобразовании данных (задач, предложений и т. п.) в наиболее удобный с к.-л. т. зр. вид, напр., в выражении жх. ъ форме деддтагетж беде* простой и легче поддающейся анализу. Р. к.-л. задачи к др. задаче играет двоякую роль: с одной стороны,, решение второй задачи оказывается применимым и. к первой; с др. стороны, невозможность (хотя бы с номощыо нек-рых фиксиров. средств) решения первой задачи означает неразрешимость (теми же средствами) и второй. Т. о., Р. позволяет из положительного (отрицательного) решения нек-рой задачи извлекать положительное (соответственно, отрицательное) решение целого класса задач. Термин «Р.» относят также в естеств. смысле к умозаключениям, методам доказательства (напр., reductio ad absurdum— см. Доказательство от противного), понятиям, концепциям, теориям и пр. См. Сводимость.
РЕЗНИКОВ, Лазарь Осипович [р. 25 иояб. (8 дек.).. 1905] — сов. философ, д-р фил ос. наук (с 1948), профессор (с 1948). Член КПСС с 1940. Окончил Северо-Кавказский ун-т (1929) и филос. аспирантуру МИФЛИ (1938). Ведет педагогич. и н.-и. работу в вузах с 1929. С 1956— профессор филос. фак-та Ленингр. ун-та. Разрабатывает вопросы теории познания.
С о ч.: К разработке вопросов теории отражения, «Фронт науки и техники», 1937, № 5; Теория отражения и вопрос о «первичных» и «вторичных» качествах, «ПЗМ», 1937, № 7; Теория отражения и «физиологич.» идеализм, там же, 1938, № 3; О роли чувств, восприятий в познании, там же, 1938, № 8; К вопросу о генезисе человеч. мышления, «Уч. зап. Ростов.-на-Дону ун-та», 1945, т. 6, вып. 3; Проблема образования понятий в свете истории языка, в кн.: Филос. записки, ч. 1, М., 1946; К вопросу о соотношении языка и мышления, «ВФ», 1947, N° 2; Гносеологич. основы связи мышления и языка, «Уч. зап. ЛГУ», 1958, вып. 13, Мё 248; Критика релятивистского понимания слова, «Вестн. ЛГУ», 1958, вып. 1, JMS 5; О роли слова в образовании понятия, «ФН» (НДВП1), 1958, Ms 1; Понятие и слово, Л., 1958 (польское доп. изд., Warsz., I960); К вопросу об истинности понятий, «Уч. зап. ЛГУ», 1960, вып. 17, 3\Ч 285; О роли знаков в процессе познания, «ВФ», 1961, № 8; Неопозитивная гносеология и знаковая теория языка, там же, 1962, № 2; О гносеологич. принципах общей семантики, «Вестн. ЛГУ», 1962, вып. 4, № 23; Гносеология прагматизма и знаковая теория языка, «ФН» (НДВШ), 1962, № 5; Антинауч. характер прагматкстского понимания знака, значения и предмета, там же, 1963, № 1; Гносеология прагматизма и семиотика Ч. Морриса, «ВФ», 1963, М 1; Диалектич. материализм и неопозитивизм об отношении языка к действительности, в сб.: Философия марксизма и неопозитивизм, М., 1963; Проблема понятия в общей семантике, «Вестн. ЛГУ», 1963, вып. 4, .N° 23; О теории абстракции в общей семантике, там же, 1964, вып. 4, № 23; Проблема соотношения языка, мышления и действительности в общей семантике, «Уч. зап. каф. обществ, наук вузов Ленинграда», 1964, вып. 5 б: Роль знаковых систем в научном творчестве, «ВФ», 1964, № 4; Гносеологич. вопросы семиотики, Л., 1964.
РЕЗУЛЬТАТ — объективно достигнутое состояние, продукт процесса или деятельности, направленной на реализацию цели и применяющей для этого опре-дел. средства (см. Средство). Р. есть функция условий процесса или функция самой деятельности и применяемых в ней средств реализации цели.
484
РЕЙВНСТОН — РЕЙНАЛЬ
 РЕИВНСТОН (Ravenstone), Пирси (ум. ок. 1830) — англ. экономист-рикардианец и демократия, социальный мыслитель. В своих работах отмечал важную роль экономики в история, развитии. Выступая против субъективно-идеалистич. понимания истории (теории «героев»), Р. придавал решающее значение двум факторам: технич. изобретениям и росту народонаселения. Вместо с тем подверг резкой критике мальтузианство.
РЕИВНСТОН (Ravenstone), Пирси (ум. ок. 1830) — англ. экономист-рикардианец и демократия, социальный мыслитель. В своих работах отмечал важную роль экономики в история, развитии. Выступая против субъективно-идеалистич. понимания истории (теории «героев»), Р. придавал решающее значение двум факторам: технич. изобретениям и росту народонаселения. Вместо с тем подверг резкой критике мальтузианство.
Труд Р. «Мысли о системе гос. долгов...» («Thoughts of the funding system...», L., 1824) Маркс оценивал как «оригинальное» и «в высшей степени замечательное сочинение» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 26, ч. 3, с. 271 и 266). Энгельс причислял его к «антикапиталистической литературе» (см. там же, т. 24, с. 18). Р. осуждал капиталистич. форму собственности как паразитическую. Развитие производит, сил создает при этой системе, по его словам, капитал для бездельников. Труд порождает в обществе пара-зитич. нарост в виде капитала. Капитализму Р. противопоставлял мелкобурж. утопию «естественной собственности». Отрицая роль капитала как особой производит, силы наряду с трудом, Р. признавал труд единств, созидателем стоимости. «Если бы труд каждого человека был достаточен для добывания его собственного пропитания,— писал Р.,— то не было бы никакой собственности» (цит. по кн.: Маркс К., Капитал, см. там же, т. 23, с. 520, прим.). Противопоставление Р. «необходимых предметов», создаваемых трудом, и «предметов роскоши», производство и потребление к-рых стимулируется капиталом, Маркс называл аскетическим (см. там же, т. 26, ч. 3, с. 269). В своем учении о прибавочном продукте Р. приближался к понятию прибавочной стоимости.
Соч.: A few doubts as to the correctness of some opinions
generally entertained on the subjects of population and political
economy, L., 1821. Б. Быховский. Москва.
РЕЙМАРУС (Reimarus), Герман Самуэль (22 дек. 1694—1 марта 1768) — немецкий богослов и просветитель, философ-вольфианец, сторонник деизма и телеологии. Уже в первом своем крупном соч.— «Трактате о благородных истинах естественной религии» («Abhand-lungen von den vornelimsten Wahrheiten der nattir-lichen Religion», Hamb., 1754) выступал против церк. ортодоксии, одновременно критикуя франц. материализм. Единств, чудо — это творение мира; признавать иные чудеса, значит унижать божеств, мудрость, создавшую разумный сстеств. порядок.
В осн. труде Р.— «Апология, или Сочинение в защиту разумных почитателей бога» («Apologie...», 1767), созданном под влиянием Спинозы, Бейля и английских деистов, содержалась резкая критика христианского вероучения. Это соч. Р. не публиковал из-за боязни преследования; первые выдержки из него были напечатаны Лессингом без указания автора (в кн.: «Zur Geschichte und Literatur», 1774) и вызвали ожесточенные нападки церковников. В дальнейшем был опубликован еще ряд отрывков из «Апологии» («tlbrige noch ungedruckte Werke des Wolfen-biittelschen Fragmentisten», [s. 1.], 1787; и в журн. «Niedner's Zeitschrift fur historische Theologie», 1850, H. 4; 1851, H. 4; 1852, H. 3). Резко нападал Р. и на догмы Лютера. Вместе с тем Р. не был атеистом, он был убежден в пользе «естественной» религии, верил в существование бога-творца и в бессмертие души.
Логич. учение Р. изложено им в кн. «Учение о разуме» («Die Vernunftlehre», Hamb., 1756). Здесь был сформулирован принцип совпадения реального и логич. оснований, к-рый подвергся критике в ранних работах Канта (см. «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин», в кн.: Соч., т. 2, М., 1964, с. 107).
В соч. «Всеобщие размышления об инстинктах животных, преимущественно об их художественных инстинктах» («Allgemeine Betrachtungen tiber die Triebe der Thiere...», [Hamb.], 1760) P. рассматривал инстинкты животных как пример господствующей в природе разумной целесообразности, придерживаясь антиэволюционистской т. зр. Существует предположение, что чтение этой работы Р. впервые привлекло внимание Маркса к проблеме различия между инстинктивной деятельностью животных и сознат. деятельностью человека. В 1837 Маркс писал отцу: «...Много занимался Реймарусом, книгу которого „О художественных инстинктах животных" я продумал с наслаждением» (Маркс К. и Энгельс Ф., Из ранних произв., 1956, с. 13).
Лит.: Г у л ы г а А. В., Из истории нем. материализма, М.,
1962, с.35—36; Straufi D. F г., H.S.Reimarus, 2 Aufl., Bonn,
1877; В ii t t n e r W., H. S. Reimarus als Metaphysiker, Pa-
derborn, 1909 (Diss.); Kostlin H., Das religiose Erleben
bei H. S. Reimarus, Tubingen, 1919 (Diss.); Lundsteen A.
G h., H. S. Reimarus und die Anfange der Leben-Jesu-For-
schungj Kbn., 1939. А. Гулыга. Москва.
PElffl (Rein), Карл Габриель Тиодольф (28 февр. 1838—18 нояб. 1919) — фин. фллософ и историк культуры. Преподаватель философии (с 1863), ректор и канцлер ун-та в Хельсинки в 1887—1903 и 1906 — 1910; с 1869 — проф. философии. Взгляды Р. близки философии Лотце. В этике примыкает к эволюционизму Спенсера. Сыграл большую роль в распространении филос. знаний в Финляндии; ввел ряд филос. спец. курсов в Хельсинкском ун-те.
С о ч.: Grunddragen af den filosofiska imputationslaran, Hels., 1863; Om den filosofiska methoden i sitt forhallande till ofriga vetenskapliga methoder, Hels., 1868; Forsok till en fram-stallning af psykologin, nid 1—2, Hels., 1876—91; Lefnads-minnen, [Hels.], 1918.
Лит .: История философии, т. 5, М., 1961, с. 705; G г о t e п-
f е 1 d А., Т. Rein, «Oversikt av Finska Vetenskapssocietetens
forhandlingar», 1921, bd 62, № 4; e г о ж e, Muistosanoja Т.
Reinista, «Ajatus». 1938, № 9. В. Похлебкип. Подольск.
|
|
РЕИНАЛЬ (Raynal), Гийом Томас Франсуа (11 апр. 1713 — 6 марта 1796) — франц. историк и социолог, принадлежавший к тем, кто «... сделали первые попытки дать историографии материалистическую основу...» (М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 2 изд., т. 3, с. 27). Лит. деятельность привела его к сотрудничеству в «Энциклопедии». В гл. своем труде «Филос. и политич. история учреждений и торговли европейцев в обоих Индиях» («Histoire philosophique et politique...», появилась анонимно в 1770 в Амстердаме в 6 тт.; впервые с подписью автора напечатана в Женеве в 1780 в 4 тт.; выдержала при жизни автора 12 изданий, печаталась на всех языках Европы; в неполном виде была издана в России в 1805 —11 в 6 чч.; 2 изд., 1834—35, под названием «Филос. и политич. история о заведениях и коммерции европейцев в обоих Индиях») Р. пропагандировал опыт революций европ. народов, изложил программу бурж.-демократия, революции, к-рая, однако, по его мнению, не может разрешить противоречий внутри третьего сословия. Книгу Р. высоко оценили Франклин, Джеф-ферсон, Пейн. Она была осуждена франц. парламентом на сожжение, автор подлежал аресту. Р. бежал. Находясь в изгнании, объездил мн. стран, был в России, в 1787 вернулся на родину. В период революции занимал неустойчивую позицию, выступая то против контрреволюц. тенденций крупной буржуазии, то против якобинцев.
Как философ Р. стоял на позициях метафизич. материализма, хотя в самой общей форме п под влиянием
РЕЙНАЛЬ — РЕЙСНЕР
485
 Кювье высказал мысль о том, что природа имеет историю, к-рая включает постепенные, количеств, изменения, а также перепороты, революции. Р., вслед за Тюрго, рассматривал историю общества как ряд последоват. ступеней хоз. деятельности (земледелие, приручение диких животных, ремесло, пром-сть, торговля). Р. считал, что связи, присущие физич. явлениям, свойственны и событиям «морального порядка, наиболее удивительным, как, например: происхождению религиозных идей; прогрессу человеческого разума, открытию истин, рождению и последовательности заблуждений, началу и концу предрассудков, образованию обществ и последовательной смене различных правительств» («Histoire philosophique...», v. 4, livr. 19, Gen., 1780, p. 472). В вопросе об источнике знаний Р. был сторонником сенсуализма, проводя различие между непосредственным знанием и абстрактным мышлением. Как и все метафизич. материалисты, Р. не понимал природы абстрактных понятий и активного характера познания.
Кювье высказал мысль о том, что природа имеет историю, к-рая включает постепенные, количеств, изменения, а также перепороты, революции. Р., вслед за Тюрго, рассматривал историю общества как ряд последоват. ступеней хоз. деятельности (земледелие, приручение диких животных, ремесло, пром-сть, торговля). Р. считал, что связи, присущие физич. явлениям, свойственны и событиям «морального порядка, наиболее удивительным, как, например: происхождению религиозных идей; прогрессу человеческого разума, открытию истин, рождению и последовательности заблуждений, началу и концу предрассудков, образованию обществ и последовательной смене различных правительств» («Histoire philosophique...», v. 4, livr. 19, Gen., 1780, p. 472). В вопросе об источнике знаний Р. был сторонником сенсуализма, проводя различие между непосредственным знанием и абстрактным мышлением. Как и все метафизич. материалисты, Р. не понимал природы абстрактных понятий и активного характера познания.
В центре науч. интересов Р. находилось общество. Социологич. концепция Р.— своеобразный экономический материализм. Отправным пунктом своего анализа Р. сделал общество, а не индивид, т. е. совершил шаг по пути преодоления социального атомизма, «робинзонады» и отказался от договорной теории происхождения общества и гос-ва. Критикуя Монтескье за преувеличение роли географич. среды в истории человечества, не приемля концепций Руссо о возникновении частной собственности и его теорию общественного договора, Р. считал обществ, состояние человека исконным (см. там же, р. 470), видел в труде силу, объединяющую людей и преобразующую природу. Причиной возникновения частной собственности и неравенства Р. считал эволюцию земледелия, пром-сти и торговли. Неравное распределение богатств породило неравное распределение обязанностей людей. Этот взгляд подводил Р. к понятию классов. Общий ход истории представлялся Р. как борьба разнородных групп людей за свободу и за более справедливое распределение богатства, к-рое он считал идеалом, увековечивая институт частной собственности. Гос-во Р. понимал как обществ, силу, к-рая дает каждой социальной группе возможность сохранять свое владение и наслаждаться им. Отождествляя сущность гос-ва и его форму, Р. вместе с тем высказал предположение о связи формы правления с интересами определ. социальных групп. Р. осуждал войны как средство внешней политики, а также политич. строй, порождавший их, подчеркивая, что действит. интересы наций не совместимы с войной. Осуждая завоеват. войны, Р. оправдывал войну за свободу и независимость. Борясь против порабощения цветных народов, Р. особенно негодовал против тех, кто создавал обоснования — теоретические и моральные — колонизаторской деятельности.
Р. был атеистом. Не ограничиваясь критикой религ. представлений, он видел свою задачу в разоблачении социальной роли религии.
Идеи Р. были восприняты Барнавом, Кондорсе, а через них оказали влияние на философию истории Сен-Симона и историч. концепцию франц. историков эпохи Реставрации. Они оказали воздействие на Радищева.
С о ч.: Oeuvres, v. 1—4, Gen., 1784. Лит.: Вороницин И. П., История атеизма, 3 изд., [Рязань, 1930]; Старосельска я-Н и к и т и н а О., Очерки по истории науки и техники периода франц. бурж. революции 1789—1794 гг., М,—Л., 1946; Зельманова Е., Р.— как историк философии, «ВФ», 1961, Кг 5; П л и м а к Е. Г., Злоключения бурж. компаративистики (К вопросу о характере политич. концепций А. Н. Радищева и Г. Р.). «История СССР», 1963, № 3; G u i b е г t J. A. H. d e, Lettres de l'abbe Raynal a l'Assemblee natlonale, Marseille, 1789; Grimm B. de et Diderot, Correspondence litteraire, t. 1, P., 1812; Gibbon E., The history ot the decline and fall ot the Roman
empire, N. Y., 1845; LiinetB., Biographie de l'abbe Raynal,
Rodez, 1866; Мог ley J., Diderot and the encyclopaedists,
v. 1—2, L., 1886; H e r v i e r M., Les ecrivains tramjais juges
par leurs contemporains, v. 2, P., [1931]; W о I p e H., Raynal
et sa machine de guerre, «L'histoire des deux Indes» et ses per-
fectionnements, P., 1957; L a n g D. M., The first Russian radi
cal A. Radishchev, L., 1959. Г . Зельманова . Ленинград.
РЕЙНГОЛЬД (Reinhold), Карл Леонард (26 окт. 1758 —10 апр. 1823) — нем. философ-идеалист. Проф. ун-тов в Иене (с 1787) и Киле (с 1794). Выступил как последователь и популяризатор философии Канта. В «Письмах о кантовской философии» («Briefe uber die Kantische Philosophie», опубл. в журн. «Der deutsche Mercur», 1786 — 87; затем отд. издание, Lpz., 1790—92, нов. изд., Lpz., 1924) в общедоступной форме излагал осн. идеи филос. учения Канта, иреим. под углом зрения его отношения к религии и морали. В дальнейшем Р. пытался развить собственную филос. концепцию, названную им «элементарной философией» («Elementarphilosophie»). Осн. идеей этой философии является утверждение, что существует некая центр, функция всякой деятельности разума — представление (Vorstellung). Представление содержит в себе и сознание субъекта, к-рый имеет это представление, и сознание объекта, к к-рому это представление относится. Поэтому субъект отличает представление, как от субъекта, так и от объекта и относит представление к ним обоим. Т. о., действительный смысл «элементарной философии» состоял в субъективно-идеалистич. истолковании кантовского критицизма с помощью утверждения о неразрывной связи субъекта и объекта.
Последующая эволюция филос. взглядов Р. шла в направлении еще большего сближения с субъективным идеализмом.Р. стал сторонником Фихте и стремился соединить его «наукоучение» с «философией веры» Якоби. После выхода в свет книги Бардили «Очерк первой логики...» (С. Bardili, GrundriB der er-sten Logik..., Stuttg.,1800) P. сделался его последователем и издавал вместе с ним «Beitrage zur leichten tJbersicht des Zustandes der Philosophie beim Anfang des 19. Jahrhundert» (Hamb., 1801—03).
Соч.: Versuch einer neuen Thcorie des menschlichen Vor-stellungsvermogens, Prag—Jena, 1789; neue Aufl., Darmstadt, 1963; Beitrage zur Berichtigung bisheriger Missverstandnisse der Philosophen, Bd 1—2, Jena, 1790—94; Ober das Fundament des philosophtschen Wissens, Jena, 1791; Ober die Paradoxien der neuesten Philosophie, Hamb., 1799; Sendschreiben an J. C. Lavater und J. G. Fichte uber den Glauben an Gott, Hamb., 1799; C. G. Bardilis und С L.Reinholds Briefwechsel uber das Wesen der Philosophie und das Unwesen der Spekulation, Munch., 1804.
Лит .: RelnholdChr. E. (Sohn),K. L. Reinhold's Le-
ben und literarisches Wirken, Jena, 1825; Z у n d a M. von,
Kant—Reinhold—Fichte, В., 1910; Adam H.. C. L. Rein-
holds philosophischer Systemwechsel, Hdlb., 1930; P f e i f e r
A., Die Philosophie der Kantperiode K. L. ReinhoMs, Bonn,
1935 (Diss.). Б. Meepoec-Kuv. Москва.
РЁЙСНЕР, Михаил Андреевич (1868—8 авг. 1928) — советский социолог, историк и правовед, проф. Томского и Петроградского ун-тов, Психо-неврологич. ин-та и Военной академии Генштаба. Окончил юри-дич. фак-т Варшавского ун-та (1893). В эмиграции (с 1903) сотрудничал в с.-д. газ. «Vorwarts», читал лекции в парижской Высшей школе социальных наук. До 1905— народник, в философии — позитивист; под влиянием революц. событий примкнул к большевикам. После Октябрьской революции по поручению В. И. Ленина вел работу в юридич. органах Сов. гос-ва, был одним из учредителей Комакадемии.
Р. разрабатывал проблемы социальной психологии, теории гос-ва и права, атеизма и истории политич. учений. Социальная психология, по Р., обусловливает идеологич. формы, к к-рым относится и гос-во. В разрабатываемой Р. «теории социальных раздражений» проявилось влияние идей вульгарного материализма, рефлексологии Бехтерева и концепции «организующей» роли идеологии Богданова. Под влиянием «психологич. теории» права Петражицкого Р. разви-
486 РЕЙХАНИ —РЕЙХЛИН
 вал идеи «пролетарского интуитивного права», к-рые были подвергнуты острой критике в 20-х гг. в Ком-академии.
вал идеи «пролетарского интуитивного права», к-рые были подвергнуты острой критике в 20-х гг. в Ком-академии.
Р.— воинствующий атеист, участник публичных дискуссий, автор антирелиг. пьес.
С о ч.: Гос-во и верующая личность. Сб. ст., СПБ, 1905; Рус. абсолютизм и европ. реакция, СПБ, 1906; Теория Л. И. Петражицкого, марксизм и социальная идеология,СПБ, 1908; Л. Андреев и его социальная идеология. Опыт социологич. критики, СПБ, 1909; Гос-во, ч. 1 — 3, в двух вып., М., 1911 — 1912; Пролетариат и мещанство, СПБ, 1917; Вильгельм II и железная империя, [2 изд.], П., 1917; Основы Сов. Конституции, М., 1920; Бог и биржа. Сб. революц. пьес, [М.], 1921; Интеллигенция, как предмет изучения в плане науч. работы, «Печать и революция», 1922, кн. 1; Гос-во буржуазии и РСФСР, ч. 1 — 3, М,—П., 1923; Нужна ли вера в бога?, 3 изд., М., 1923; Любовь, пол и религия, Рязань, 1924; Революция и право, в сб.: Научные известия, т. 2 — Общественно-гуманитарные науки, Смоленск, 1924; Проблемы социальной психологии, Ростов-на-Дону, 1925; Социальная психология и марксизм, в сб.: Психология и марксизм, Л., 1925; Идеологии Востока. Очерки вост. теократии, М.—Л., 1927; Мещанство (Социологич. очерк), «Красная Новь», 1927, № 1; История политцч. учений, т. 1, М.— Л., 1929; Классовые основы религии, М., 1930.
Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., т. 47, с.
81 — 132; История философии, т. 6, кн. 1, М., 1965, с. 304, 488.
_ В. Клушии. Ленинград.
РЕИХАНИ, ар-Рейхани, Амин (1876—1940) — ливанский мыслитель, поэт и просветитель-демократ. Много лет прожил в США. Взгляды Р. складывались в русле европ. мысли, особое влияние на его социологич. воззрения оказал Карлейлъ. Пантеистическая филос. концепция Р. характеризуется своеобразной системой триад: объективный мир является единством материи, пространства и времени; человек — тела, души и разума и т. д. Материя и жизнь, по Р., развиваются через противоречия, стремясь к равновесию и гармонии, согласно закону притяжения и отталкивания, действия и противодействия. Обществ, процесс рассматривается Р. как процесс совершенствования личности. Человеч. общество, как утверждает Р., последовательно проходит в своем развитии четыре этапа: патриархат, деспотизм, конституционный режим и социализм, к-рый является высшей формой обществ, бытия. Наряду с просвещением и самоусовершенствованием как гл. путями построения идеального общества «всеобщего братства и любви», Р. считал возможными и справедливыми революц. методы борьбы. Р.— поборник синтеза лучших достижений вост. и зап. цивилизации и в то же время пропагандист идей араб, национализма. Резко критиковал феод, реакцию и застой. Первый среди арабов Р. выступил с критикой амер. образа жизни.
С о ч.: ар-Рейханийят (Собр. соч.), т. 1—4, Бейрут, 1922—23; ар-Татарруф ва-ль-ислах (Экстремизм и реформаторство), Бейрут, 1928; Кальб Лубнан (Сердце Ливана), Бейрут, 1938; в рус. пер.— Избр. произв., П., 1917.
Лит.: КрачковскийИ. Ю., Избр. соч., т. 3, М.—Л.,
1956, с. 137—47; Л е в и н 3. И., Философ из Фурейки, М.,
1965: Альберт а р-Р е й х а н и , Амин ар-Рейхани,
Бейрут, 1941; Марон А б б у д, Амин ар-Рейхани, Каир,
1952. _ 3. Левин. Москва.
РЁИХЕНВАХ (Reichenbach), Ганс (26 сент. 1891 — 9 аир. 1953) — нем. философ и логик; в 1926—1933 — проф. философии физики в Берлинском университете, один из организаторов Берлинского об-ва науч. философии и основатель журн. «Erkenntniss», а также «International encyclopedia of unified science». После прихода фашизма эмигрировал сначала в Турцию (в 1933—38— проф. философии Стамбульского ун-та), а затем в США (в 1939 — 53— проф. Калифорнийского ун-та). Р. исходил из убеждения, что проблема существования внешнего мира является реальной проблемой, с к-рой нельзя «разделаться... с помощью софистических приемов» (см. «Experience and prediction», Chi. — L., [1961], p. 92). Из того, что объекты внешнего мира познаются с помощью чувств, впечатлений, никак не должно следовать, что они сводимы к впечатлениям (см. там же, р. 129). В работе «Philosophic foundations of Quantum mechanics» (Berk., 1944) P.
писал, что «об атомном мире следует говорить как о столь же реальном, что и привычный физический мир» (указ. соч., р. 20 и далее). Осн. признаком объективного существования внешнего мира Р. считал наличие объективных причинных закономерностей, вскрываемых наукой. Реальный мир бодрствующего человека отличается от мира снов своими согласованными каузальными связями (см. «Experience and prediction», p. 139). Проблема причинности (онтоло-гич. природа и логич. структура причинности) составляет ось, вокруг к-рой вращаются все остальные исследования Р. [анализ отношения причинности и вероятности, динамич. и статистич. закономерностей, временного потока и причинных сетей, законоподоб-ных (помологических) и импликативных высказываний и др.]. Во всех этих исследованиях Р. исходит из убеждения, согласно к-рому причинность является объективно реальной связью явлений, хотя в ряде работ, особенно в ранних, он нередко смешивал онтологич. природу причинного отношения с его субъективными отображениями в мышлении и науке.
Отвергая идеал совершенного доказательства, Р. осн. внимание уделял вероятностной логике, считая, что проблема вероятностей «...составляет ядро любой теории познания» («The theory of probability», Berk.— Los Aug., 1949, p. V). Приняв статистическую (частотную) интерпретацию вероятности, данную Ми-зесом, Р. применил ее к логике. Свой вариант многозначной логики Р. использовал для преодоления филос. и логич. трудностей в интерпретации квантовой механики (см. Логика квантовой механики). Широкую известность приобрели работы Р. по анализу логич. структуры высказываний, выражающих законы природы (см. Помологические высказывания), к-рым он придавал большое значение, поскольку считал, что науч. знание в основном состоит из них.
С о ч.: Relativitatstheorie und Erkenntnis a priori, В., 1920; Von Kopernikus bis Einstein, В., [1927] (имеется англ. пер.— N. Y., 1942); Philosophie der Raum-Zeit-Lchre, В.—Lpz., 1928 (имеется англ. пер.—N. Y., 1958); Atom und Kosmos, В., 1930 (имеется англ. пер,—N. Y., 1957); Ziele und Wege der heutigen Naturphilosophie, Lpz., 1931; Wahrscheinlichkeitslehre, Leiden, 1935 (имеется англ. изд. —Berk.—Los Ang., 1949); Introduction a la logistiques, P., 1939; Der Aufstieg der wissenschaft-lichen Philosophie, В.—Grimewald, 1951 (имеется англ. пер.— 4 ed., Berk.— Los Ang., 1957); Elements of symbolic logic, N. Y., [1951]; Nomological statements and admissible operations, Amst., 1954; Modern philosophy of science. Selected essays. Foreword by R. Carnap, L,—N. Y., [1959]; Axiomatik der relativistischen Raum-Zeit-Lehre, Braunschweig, [1965]; Student und Sozialismus, В., [s. а.]; в рус. пер.—Направление времени, М., 1962.
Лит .: Ф и н н В. К., О нек-рых семантич. понятиях для
простых языков, в сб.: Логич. структура науч. знания, М.,
1965, с. 52—75; Кг a It V., Der Wiener Kreis, W., 1950;
В u r k s A. W., Reichenbach's theory of probability and induc
tion, «Review of methaphysics», 1951, p. 377—93; К a t t s о f f
L. О., С е с с a t о S., Reichenbach's treatment of «existence»
in his «logic», «Methodos», 1951, v. 3, p. 275 — 86; В r u n i n g
W., Der Gesetzesbegriff im Positivismus der Wiener Schule,
[Meisenhcim/Glan, 1954]. И. Добро-нравов. Москва.
РЁЙХЛИН (Reuchlin), Иогани (22 февр. 1455—30 июня 1522) — нем. гуманист, юрист, филолог, философ. Последние четыре года жизни являлся проф. ун-тов в Ингольштадте и Тюбингене. Р. находился в дружеских отношениях с деятелями А кадемии платоновской (Фичино, Пико делла Мирандола), оказавшими большое влияние на его взгляды. В филос. соч. «О чудотворном слове» («De verbo mirifico», Basel, 1494) и «О каббалистическом искусстве» («De arte cabbalistica», Hagenau, 1517) он выступил как противник схоластики и схо-ластич. аристотелизма. Р. пытался соединить учение каббалы с философией христианства и неоплатонизмом; считал, что содержащиеся в каббале мистич. понимание букв и чисел, а также трактовка вопроса о т. н. сотворении мира представляют собой христ. идею бесконечности и божественности земного мира. Р. видел миссию христ. религии в том, что она вскрывает этич. содержание человеч. культуры, устанавли-
РЕКЛЮ-РЕКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕДИКАТЫ
487

|
вает связь божественного с человеческим, определяя этим значение земной жизни и находя божествешюе в самом человеке. Выдвинутая Р. идея изучения сущности христианства путем критич. я лингвистич. анализа первоисточников ста.та, помимо воли Р. (являвшегося сторонником католицизма и противником Реформации); орудием борьбы с католич. церковью. Его выступление в 1509 против требования като-лич. теологов об уничтожении евр. книг положило начало т. н. «рейхлиновскому сцо-ру»—борьбе, длившейся неск. лет, между католич. реакционерами и нем. гуманистами (к-рые поддерживали Р., понимая, что речь идет о веротерпимости и свободе совести). Обвиненный доминиканцами г. Кёльна в ереси, Р. издал соч.: «Глазное зеркало» («Der Augenspiegel», [Tubin-gae, i 5 iljj , «Защита... пропет кёяыгеквх ютевегяккгув» («Defensio... contra calumniatores suos Coloniense.s», Tubingae, 1513), «Письма знаменитых людей» («Cla-rorum virorum epistolae latinae grecae a hebraicae...», Tiibingae, 1514) и добился отмены затеянного против него процесса (1516). В связи с делом Р. нем. гуманисты опубликовали «Письма темных людей» («Epistolae obscurorum virorum...», Tl 1, 1515; доп. 1516; Tl 2, 1517) — один из самых ярких сатирич. памфлетов 16 в. против католич. мракобесов.
Лит .: Geiger L., J. Reuchlin, sein Leben und seine Werke, Lpz., 1871; Taverul R., Reuchlin ed Erasmo Torino, 1892; Christ K., Die Bibliothek Reuchlins in Pforzheim, Lpz., 1924; S p i t z L. W., Reuchlin's philosophy: Pythagoras and Cabala for Christ, «Archiv fiir Reformations^es_ chichte», 1956, Jg. 47; Sicherl M., Zwei Reuchlin-Funde aus der Pariser Nationalbibliothek, Mainz, [1963].
H . Бортник. Свердловск РЕКЛЮ (Reclus), Жан Жак Элизе (15 марта 1830 _ 4 июля 1905) — франц. географ, социолог и теоретик анархизма. В 1865 примкнул к 1-му Интернационалу, где поддерживал Бакунина. В 1871 сражался в рядах борцов Парижской Коммуны, после поражения к-г.юй был изгнан из Франции. В 1892—1905 — проф. географии созданного но его инициативе Нового ун-та в Брюсселе. Всемирную известность Р. приобрел географич. трудами, в к-рых его блестящий популяризаторский и лит. талант сочетался с огромными знаниями. Соч. Р. проникнуты идеями гуманизма и братства народов.
В труде «Человек и Земля» (рус. пер., т. 1—6, 190(5— 1909) Р. пытался дать общую картину развития человечества. Хотя Р. преувеличивал влияние внешней среды на человеч. общество, он не был географич. детерминистом. Р. различал статическую (природные условия) и динамическую среду (обществ, условия), подчеркивая, что последняя подавляет влияние первой. Р. выделял три «общих явления» или «осн. закона» истории: разделение общества на классы и их борьбу, социальную революцию, рассматриваемую им как «искание равновесия» межд5г классами, и преобладающую ро>ль личности. Р. разделял субъективистскую теорию героев и героического в истории. Распространение гениев и лучшее использование обществом умственных качеств гениальных людей — мерило прогресса. Различие между эволюцией и революцией Р. сводил к количеств, стороне. По характеристике Плеханова, общим складом своего мышления Р. сильно напоминает французских просветителей 18 в. (см. «Э. Реклю, как теоретик анархизма», в кн.: Сб.я. т. 16, 1928,с.159).
Выступая как теоретик анархизма, Р. придавал анархистскую трактовку гуманистич. лозунгу Рабле
«делай то, что хочешь» и впадал в непримиримые противоречия, стремясь с позиции анархизма решить проблему свободы личности и защитить безгосударст-венность.
С о ч. в р у с. п с р.: Земля и люди. Всемирная география, т. 1 —10, СПБ, 1898—1901; Эволюция, революция и идеал анархизма, М., 1906; Избр. соч., П., 1921.
Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 34,
с. 220—21; Лебедева Н. А., Л е б е д е в Н. К. [и до.],
Э. Р., М., 1956; Nettlau M., E. Reclus Anarchist und
Gelehrter (1830 — 1905), В., 1928. А. Завадье. Москва.
РЕКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕДИКАТЫ —
один из важнейших для оснований математики и ма-тематич. логики классов, понятий, служащих уточнениями содержат, понятий эффективно вычислимой арифметической функции и эффективно разрешимого арифметического предиката, а в коночном счете, — и лежащих в основе этих содержат, понятий интуитивных представлении об «эффективной осуществимости» и «эффективной определимости». «Эффективно осуществимым» естественно называть всякий процесс, для выполнения любого шага к-рого (в нетривиальном случае, когда этот процесс бесконечен) возможна однозначно детерминированная процедура — алгоритм; «эффективно определимым» — понятие, определимое таким образом, что для решения вопроса об отнесении к.-л. объекта к объему этого понятия также имеется алгоритм. В аналогичном смысле естественно понимать и «эффективную вычислимость» и «разрешимость». Т. о., уточнения всех упомянутых представлений об «эффективности» были вызваны к жизни тем же конструктивным подходом к формулировке и решению (логико-)математич. задач, к-рым обусловлены и различные уточнения понятия алгоритма. Общее определение «(эффективной) вычислимости» естественно было искать по отношению к функциям, определенным на возможно более простой в к.-л. отношении области, носящей в то же время настолько общий характер, чтобы перенесение выработанных для нее понятий и методов па функции, определенные на более сложных областях, не представляло бы принципиальных затруднений. Подходящей в обоих этих отношениях областью является натуральный ряд чисел 0, 1, 2..., исходя из к-рого строятся и более сложные и богатые числовые классы: классы целых, рациональных, действительных и комплексных чисел (см. Э. Ландау, Основы анализа, пор. с нем., М.,1947). И обратно, любая вычислит, задача сводится (с любой, в принципе, заданной точностью) к задаче вычисления иек-рой функции натурального аргумента (или конечного набора натуральных аргументов), принимающей натуральные значения (именно такие функции выше подразумевались под «арифметическими»). Эта в известном смысле «универсальность» класса арифметич. функций имеет не только принципиально-гносеологич. значение — она лежит в основе программирования самых разнообразных задач на универсальных цифровых (электронных) машинах, в свою очередь расширяющего наши познават. возможности. «Генетический» способ построения нат5гралыюго ряда, состоящий в переходе от любого натурального числа п к непосредственно следующему за ним числу п', выраженный в принципе математической индукции, наводит на мысль и об универсальном (для арифметики) характере т. н. определений по индукции арифметич. функций (и предикатов). Примерами таких определений по индукции, или, как их называют, рекурсивных (от лат. recurso — возвращаюсь) определений, служат определение функции ц> (а, п) = а -\- п (операции сложения) с помощью аксиом
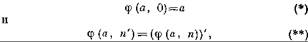
488 РЕКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕДИКАТЫ
 позволяющее вычислить значение фа(ге) = ф (а,га) = я + ге для любой пары натуральных чисел а и п, и аналогичная пара аксиом для умножения. [Рекурсивные определения не следует путать с индуктивными определениями; такая путаница обусловлена как сходством терминов, так и родством этих процедур по существу: последние — в том случае, когда они служат определением к.-л. области объектов, при условии, что объекты, порожденные различными путями, обязательно различны,— являются необходимой предпосылкой для рекурсивных определений функций или предикатов, определяемых на к.-л. подмножестве этой области (см. Определение, раздел Рекурсивные и индуктивные определения)]. Т. Сколем (1920) показал, что с помощью такого рода «рекурсий», в известном смысле свойственных самой природе натурального ряда, мо?кно определить осн. понятия арифметики. Существенно иметь в виду, что по крайней мере часть таких «схем рекурсий» — во всяком случае формулы (*) и (**)— приходится включать в аксиоматич. арифметику именно в качестве аксиом, не поддающихся элиминированию (устранению) из системы без ее существ, ослабления; то же относится к упоминаемой ниже общей схеме примитивной рекурсии (принятие к-рой непременно предполагает принятие принципа мате-матич. индукции в метатеории). Расширения системы за счет перехода от re-местных функций к (га+1 ^местным (в т. ч. и столь «очевидные», как произведенное выше отождествление одноместной функции Фа(ге), зависящей от параметра а, с двуместной функцией ф(а, га)), также должны быть явно оговорены при формулировке арпфметич. формализма. Все эти оговорки, необходимые особенно в связи с идущим еще со времен Пеано ошибочным мнением, согласно к-рому корректность рекурсивных определений есть авто-матич. следствие аксиомы индукции), конечно, не снимают проблемы обоснования теории Р. ф. и п., т. е. поиска убедительных, свободных от круга (и не использующих, как это обычно делается, теоретико-множеств. допущений) доводов в пользу существования в натуральном ряду любых функций, определяемых рекурсивными схемами. (Весьма трудный анализ такого рода проблематики, практически не затрагиваемый в большинстве работ по теории Р. ф. и п., явился в последние годы темой рассмотрения т. н. ультраинтуиционизма.) Т.о., назрела идея положить «рекурсии» в основу точного и общего определения понятия «вычислимой» функции. Эта идея, реализованная первоначально в виде т. н. схемы примитивной рекурсии (см. ниже схему II), была в явной форме впервые сформулирована Гёделем (1931). При определении новых функций естественно, конечно, использовать уже имеющиеся (определенные) ранее фупкции путем явного определения через последние, т. е. посредством операции подстановки значений одних известных функций в другие, ранее определенные функции, описываемой с помощью т. н. схемы регулярной суперпозиции функций (см. ниже схему I). В качестве исходных при этом обычно выбирают простейшие арифметич. функции: (1) функцию фг(л;г,г2, ..., х„) = 0 (га=0, 1, ...), равную тождественно константе 0, (2) функцию «(непосредственного) следования за» ц>(х) =х' (т. е. именно те первоначальные функции, с помощью к-рых строится натуральный ряд), а также (3) функции ф(хх, х2, ..., х;, ..., х„) = х/ (2 = 1, 2, ..., га; и=1, 2, ...), равные значению одного из своих аргументов. Определяемые на этой основе (с помощью приводимых ниже схем I и II) функции наз. примитивно-рекурсивными функциями (ПРФ). Класс ПРФ, охватывающий наиболее часто встречающиеся арифметические функции, не охватывает, однако, всех функций, которые можно вычислить для любых значений аргументов,— еще в 1928, т. е. еще
позволяющее вычислить значение фа(ге) = ф (а,га) = я + ге для любой пары натуральных чисел а и п, и аналогичная пара аксиом для умножения. [Рекурсивные определения не следует путать с индуктивными определениями; такая путаница обусловлена как сходством терминов, так и родством этих процедур по существу: последние — в том случае, когда они служат определением к.-л. области объектов, при условии, что объекты, порожденные различными путями, обязательно различны,— являются необходимой предпосылкой для рекурсивных определений функций или предикатов, определяемых на к.-л. подмножестве этой области (см. Определение, раздел Рекурсивные и индуктивные определения)]. Т. Сколем (1920) показал, что с помощью такого рода «рекурсий», в известном смысле свойственных самой природе натурального ряда, мо?кно определить осн. понятия арифметики. Существенно иметь в виду, что по крайней мере часть таких «схем рекурсий» — во всяком случае формулы (*) и (**)— приходится включать в аксиоматич. арифметику именно в качестве аксиом, не поддающихся элиминированию (устранению) из системы без ее существ, ослабления; то же относится к упоминаемой ниже общей схеме примитивной рекурсии (принятие к-рой непременно предполагает принятие принципа мате-матич. индукции в метатеории). Расширения системы за счет перехода от re-местных функций к (га+1 ^местным (в т. ч. и столь «очевидные», как произведенное выше отождествление одноместной функции Фа(ге), зависящей от параметра а, с двуместной функцией ф(а, га)), также должны быть явно оговорены при формулировке арпфметич. формализма. Все эти оговорки, необходимые особенно в связи с идущим еще со времен Пеано ошибочным мнением, согласно к-рому корректность рекурсивных определений есть авто-матич. следствие аксиомы индукции), конечно, не снимают проблемы обоснования теории Р. ф. и п., т. е. поиска убедительных, свободных от круга (и не использующих, как это обычно делается, теоретико-множеств. допущений) доводов в пользу существования в натуральном ряду любых функций, определяемых рекурсивными схемами. (Весьма трудный анализ такого рода проблематики, практически не затрагиваемый в большинстве работ по теории Р. ф. и п., явился в последние годы темой рассмотрения т. н. ультраинтуиционизма.) Т.о., назрела идея положить «рекурсии» в основу точного и общего определения понятия «вычислимой» функции. Эта идея, реализованная первоначально в виде т. н. схемы примитивной рекурсии (см. ниже схему II), была в явной форме впервые сформулирована Гёделем (1931). При определении новых функций естественно, конечно, использовать уже имеющиеся (определенные) ранее фупкции путем явного определения через последние, т. е. посредством операции подстановки значений одних известных функций в другие, ранее определенные функции, описываемой с помощью т. н. схемы регулярной суперпозиции функций (см. ниже схему I). В качестве исходных при этом обычно выбирают простейшие арифметич. функции: (1) функцию фг(л;г,г2, ..., х„) = 0 (га=0, 1, ...), равную тождественно константе 0, (2) функцию «(непосредственного) следования за» ц>(х) =х' (т. е. именно те первоначальные функции, с помощью к-рых строится натуральный ряд), а также (3) функции ф(хх, х2, ..., х;, ..., х„) = х/ (2 = 1, 2, ..., га; и=1, 2, ...), равные значению одного из своих аргументов. Определяемые на этой основе (с помощью приводимых ниже схем I и II) функции наз. примитивно-рекурсивными функциями (ПРФ). Класс ПРФ, охватывающий наиболее часто встречающиеся арифметические функции, не охватывает, однако, всех функций, которые можно вычислить для любых значений аргументов,— еще в 1928, т. е. еще
до появления термина «рекурсивные функции», нем. математик В. Аккермаи построил пример «вычислимой» функции, не являющейся в то же время ПРФ. Между тем во всех исследованиях, посвященных определению понятия вычислимой функции (ВФ), все время имелся в виду (вначале неявно) тезис (т. н. тезис Чёрча), согласно к-рому такое определение должно охватывать все «мыслимые» виды «вычислимости», т. е. чтобы полученное определение отвечало т. н. осн. гипотезе теории ВФ (а поскольку «вычислимость» — это не что иное как существование алгоритма вычисления, то, по существу, и осн. гипотезе теории алгоритмов; см. Алгоритм, Массовая проблема). Поиски такого общего определения ВФ (в ходе к-рых были найдены миогочисл. виды определяющих схем более общего вида, чем схема примитивной рекурсии, но также удовлетворяющие требованию «эффективной вычислимости», причем одни из них, как, напр., т. и. «возвратная рекурсия», требующая для определения значения функции в точке га не только знания ее значения в точке га — 1, но, возможно, и при других меньших значениях аргумента, оказались сводимыми к этой схеме, а другие, подобно «двойной» или «одновременной» рекурсии, по разл. переменным и и т,— не сводимыми) привели франц. математика Ж. Эрбра-на (1931) и К. Гёделя (1934) к формулировке фундаментального понятия обще-рекурсивной функции (ОРФ), по отношению к которому и был в 30-х гг. выдвинут тезис Чёрча. Следует отметить, что понятие ОРФ явилось лишь одним из многих уточнений понятия ВФ. Эквивалентность всех этих уточнений, указывающая на важность класса функций, характеризуемых любым из них, служит одним из серьезнейших доводов в пользу тезиса Чёрча.
Требование, чтобы функция га натуральных аргументов была определена для каждого набора из п натуральных чисел, оказывается часто слишком обременительным ограничением. В 1938 С. К. К лини ввел понятие частично-рекурсивной функции (ЧРФ) — функции, определенной не для всех натуральных значений аргументов, а лишь на нек-рых подмножествах натурального ряда, а в остальном удовлетворяющей определению ОРФ. К лини доказал также одну из важнейших теорем теории рекурсивных функций — теорему о нормальной форме для ОРФ (и ЧРФ), позволившую существенно упростить первоначально очень громоздкие определения ОРФ и ЧРФ.
Эта теорема формулируется след. образом: для каждого натурального числа п существуют такие две ПРФ U { y ) и т„ (z, xlt х2, ..., хп, у), что для любой ОРФ ф ( xi , х2, ..., х„) существует такое (натуральное) число е, что
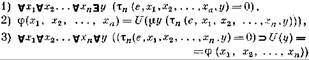
(где ц, — оператор, означающий «наименьшее число такое, что...»). Если в формулировке этой теоремы отбросить (1) и заменить слова «ОРФ» на «ЧРФ», то получится теорема о нормальной форме для ЧРФ. Значение этой теоремы состоит в том, что она дает стандартный способ получения любой ЧРФ из двух заранее выбранных ПРФ. Упрощенное с помощью этой теоремы определение ЧРФ выглядит след. образом: ЧРФ наз. функция, к-рая может быть определена, исходя из «базисных» функций (1) — (3), посредством конечного числа применений след. схем образования новых функций ф яз ранее построенных функций /, g , h :
РЕЛИГИЯ 489
 I. Подстановка (или регулярная
I. Подстановка (или регулярная
суперпозиция) функций Д ( xlt х2, ..., хт),
/2 (хх, х2, ..., хт), ..., fk ( xlt х2, ..., хт) на место аргу
ментов функции /0 ( x - i , х2, ..., хк) — ф (хи х2, ..., хт) —
—/О (/1 \Х1> Ж25 ■••) X trU 1 l %\ X ll X 2 l •■•> Хт)'--ч Jk \Х1> х2'"-
•• •> хт))ш
II. Схемы примитивной рекур
сии — определение А'-местной функции ф посред
ством известных ранее (к — 1)-местной функции
g (при A- = l g — константа, как в приведенном выше
примере с функцией сложения натуральных чисел) и
(А + 1)-местной функции h :
ф(г1? х2, ..., x k _ i , 0) = g ( x 1 , х2, ..., xk _1),
ф ( xlt Х2, . . . , Хк_\, П ) = ll (Хг, Х2, . . . , £/e_j j
га, ф (хи ..., хк_г, га)).
III. Операция взятия наименьше
го числа — построение по функции / (хг, х2, ...,
..., хк, хк_1) (к Зэ 1) функции ф (хъ х2, ..., хк), значе
ние к-рой для аргументов xlt x 2 , ..., xk равно такому
у, что / (хх, х2, ..., xk , у) = 0, а для всех z < у зна
чения / ( xlt x 2 , ..., xk , z ) определены и не равны нулю
(если же такого у не существует, то ф для данных
хъ х2, ..., хк не определена) — ф ( xlt x 2 , ..., хк) =
= W (/ (* i , ж2, ••■> * fc , г/) = 0).
Всюду определенная ЧРФ, т. е. такая, что при каждом применении схемы III имеет место V*! ••■ Чхк 32/ (/ (хъ г2, ..., xft, у) = 0) наз. ОРФ. Обще-рекурсивная функция, определимая лишь с помощью схем I и II, наз. ПРФ. Т. о., всякая ПРФ есть ОРФ, а ОРФ есть ЧРФ, но не обратно; легко строятся примеры ОРФ, не являющихся ПРФ, а понятие ЧРФ существенно шире понятия ОРФ — легко доказать, что имеются такие ЧРФ, что не существует никакого способа так доопределить их на той части натурального ряда, на к-рой они не определены, чтобы в результате получилась ОРФ.
Естеств. параллелизм, устанавливаемый между понятиями функции и предиката посредством т. н. представляющих (или характеристических) функций арифметич. предикатов (т. е. функций, принимающих значения 0 для всех наборов аргументов, для к-рых соответствующий предикат истинен, и значение 1 для всех наборов аргументов, для к-рых этот предикат ложен), приводит к понятиям примитивно-, обще- и частично-рекурсивного предиката. Примитивная, общая и частичная рекурсивность предикатов сохраняется при применении к ним операций логики высказываний, а также ограниченных кванторов (см. Квантор) и ограниченного оператора и, (см. выше). Интерес к этим классам предикатов обусловлен, как и в случае функций, их «эффективно разрешимым» характером.
Как по отношению к функциям, так и по отношению к предикатам, рассматривают также относит, рекурсивность (примитивную, общую или частичную) — в этих случаях вместо зафиксированных выше конкретных исходных функций выбирают к.-л. др. функции (и говорят о рекурсивное™ относительно этих функций), оставляя схемы I — III (или часть из них) без изменений.
В математич. логике рассматриваются и другие, более специальные виды Р. ф. и п., а также их обобщения, в частности на область т. н. «конструктивных трансфинитных чисел», включающую натуральный ряд в качестве подмножества. Кроме того, аналогичная терминология употребляется и по отношению к множествам (см. Разрешимое и перечислимое множества) .
Теория Р. ф. и п. имеет обширные применения в основаниях математики, важнейшими из к-рых являются т. н. арифметизация синтаксиса формальных систем и основанное на ней использование понятий и
аппарата этой теории в доказательствах теорем Гё-деля о неполноте арифметики (см. Метатеория, Полнота). Вместе с тем с помощью определений, по форме аналогичных рекурсивным, можно преодолеть круги в «порочных» определениях эмпирич. наук.
Необходимо заметить, что все изложенные выше концепции и результаты базировались (как правило, в неявной форме) на ряде предположений традпц. математики, наиболее существенными из к-рых являются: допущение о том, что натуральный ряд замкнут относительно любой ПРФ (т. е., что определение любой ПРФ допускает неограниченное число раз применять его начиная с любого натурального числа, причем на любой стадии этого процесса результат также будет натуральным числом); признание однозначной (с точностью до изоморфизма) определенности натурального ряда с помощью аксиом Пеано. При всей традиционности такого рода допущений они уязвимы для критики с позиций ультраинтуиционизма (см. A. S. Esenine-Volpine, Le programme ultra-intuitionniste des fondements des mathemaliques, в кн.: Infinitistic methods, Warsz., 1961), к-рая ведет к существ, пересмотру как ряда исходных концепций теории Р. ф. и п., так и нек-рых из ее важнейших результатов, в т. ч. теоремы Гёделя (1931), согласно к-рой каждый примитивно-рекурсивный предикат может быть явно выражен в терминах постоянных и переменных натуральных чисел, функций следования, сложения и умножения, предиката равенства и операций узкого классич. исчисления предикатов, т. е. как раз той теоремы, к-рая оправдывает конечность системы аксиом, принимаемой обычно для формализации арифметики, и позволяет не включать в эту систему схемы всевозможных ПРФ. О др. методологич. вопросах, связанных с понятиями Р. ф. и п. и ВФ, см. Алгоритм, а также лит. при этой статье.
Лит.: Петер Р., Рекурсивные функции, пер. с нем.,
М., 1954 (имеется библ.); К л и н и С. К., Введение в метама
тематику, пер. с англ., М., 1957, ч. 3 (имеется библ.); Е с е-
н и н-В о л ь п и н А. С. Анализ потенциальной осуществи
мости, в сб.: Логические исследования, М., 1959; Успен
ский В. А., Лекции о вычислимых функциях, М., 1960;
Мальцев Л. И., Алгоритмы и рекурсивные функции,
М., 1965_. Ю. Гостев, И. Шмаин. Москва.
РЕЛИГИЯ (от лат. religio — культ богов) — «...фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни,— отражение, в котором земные силы принимают форму неземных» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 328). Помимо совокупности верований, сопровождаемых эмоц. переживаниями, комплекс явлений, связанных с Р., включает в себя также специ-фич. действия (релит, культ) и религ. учреждения (церковь, духовенство). В вероучении большинства историч. Р. содержится также свод морально-этич. предписаний. Т. о., Р.— сложный комплекс разнородных элементов, главным среди к-рых является совокупность верований; и культ, и учреждения, и мораль, и эмоции приобретают религ. характер и включаются в систему явлений, охватываемых понятием Р., только в том случае, если они связаны с верованиями.
Осн. определяющим признаком религ. характера тех или иных представлений является их связь с верой в сверхъестественное — нечто стоящее выше законов материального мира, не повинующееся и противоречащее им. Сюда входит, во-первых, вера в реальное бытие сверхъестеств. существ (богов, духов), во-вторых, вера в существование сверхъестеств. связей между естеств. явлениями (магия, тотемизм) и, в-третьих, вера в сверхъестеств. свойства материальных предметов (фетишизм). В сознании и поведении религ. человека, наряду с преобладающим в нем стихийным или сознат. пониманием закономер-
490
РЕЛИГИЯ
 ности явлений природы и общества, наличествует и побочное, борющееся с первым представление о том, что существует якобы некий таинств, мир, неподвластный этим реальным закономерностям и способный воздействовать на них. В мире сверхъестественного, по представлению верующего, происходит то, что невозможно в естеств. мире; поэтому к нему неприложимы законы логич. мышления. Т. о., сознание и поведение ре лиг. человека раздваиваются: в своей трудовой деятельности он всегда руководствуется стихийно или сознательно постигаемыми им естеств. закономерностями, а к религ.-культовым манипуляциям прибегает в качестве дополнения «естественной» деятельности, либо руководствуясь иллюзорной надеждой на возможности сворхъестеств. умножения своих сил, либо отчаявшись в том, что ему удастся естеств. способом добиться той или иной цели.
ности явлений природы и общества, наличествует и побочное, борющееся с первым представление о том, что существует якобы некий таинств, мир, неподвластный этим реальным закономерностям и способный воздействовать на них. В мире сверхъестественного, по представлению верующего, происходит то, что невозможно в естеств. мире; поэтому к нему неприложимы законы логич. мышления. Т. о., сознание и поведение ре лиг. человека раздваиваются: в своей трудовой деятельности он всегда руководствуется стихийно или сознательно постигаемыми им естеств. закономерностями, а к религ.-культовым манипуляциям прибегает в качестве дополнения «естественной» деятельности, либо руководствуясь иллюзорной надеждой на возможности сворхъестеств. умножения своих сил, либо отчаявшись в том, что ему удастся естеств. способом добиться той или иной цели.
Признание веры в сверхъестественное определяющим признаком Р. дает возможность отличать религ. явления от нерелигиозных. Вера в сверхъестественное как особое отношение к объектам, созданным человеч. фантазией, характеризуется следующими осн. моментами: 1) верой в реальное существование сверхъестественного — в отличие от др. форм фантастич. мышления, напр. в иск-ве, где также часто встречаются фантастич. сверхъестеств. образы и события, но они не выдаются за реальность; 2) эмоц. отношением к сверхъестественному — религ. человек не только мыслит и представляет себе сверхъестеств. объект, но и переживает свое отношение к нему. Мн. -бурж. философы и ученые (Шлейермахер, М. Мюллер, Р. Отто, Леви-Брюль и др.) видят источник и специ-фич. признак Р. в особом «религ. чувстве». Однако в действительности чувства ворующего ничего специфического в себе с т. зр. физиологии и психологии не «одержат. Обычные человеч, чувства, связываясь с религ. представлениями о сверхъестественном, приобретают известную специфику с т. зр. их социальной направленности, становятся фиктивными, поскольку объект их существует только в сознании верующего человека; 3) иллюзорная деятельность, являющаяся неотъемлемым элементом всякой более или менее массовой Р. Поскольку религ. человек верит в способность сверхъестеств. С5гществ, сил или свойств влиять положительно или отрицательно на его жизнь, всякая Р. включает в себя определ. предписания поведения верующего по отношению к сверхъестественному,— предписания, к-рые реализуются в религ. культе. При помощи жертвоприношений, молитв, заклинаний, различных магич. манипуляций религ. человек надеется установить контакт со сверхъестеств. силами и склонить их на свою сторону.
Для уяснения места Р. в системе форм обществ, сознания важное значение имеет вопрос об отношении ее к идеалистич. философии. Исходное положение филос. идеализма — «...дух существовал прежде природы...» — Энгельс рассматривал как, в конечном счете, однотипное с религ. учением о сотворении мира (см. там же, т. 21, с. 283). Объективный идеализм непосредственно смыкается с Р. в вопросе о существовании надмировой сверхъестеств. силы — объективного духа или, что по существу то же, бога. Ленин указывает на общность содержания филос.-идеалистич. конструкций с религ. догматами: и здесь, и там постулируется удвоение мира (см. Соч., т. 38, с. 370). Однако при всей общности Р. и филос. идеализма они не совпадают друг с другом. Р. апеллирует прежде всего не к разуму, а к вере, она не требует от своих приверженцев согласования ее догматов с данными конкретных наук; идеализм же претендует на то, что его положения основаны ла разуме, вытекают из данных науки (правда, теология обосновывает истинность религ. догматов некоей
системой ложных в своей основе рассуждений; в ней наличествуют и попытки «гармонизации» религ. догматов не только с разумом, но и с данными науки,— этим теология соприкасается с филос. идеализмом). Помимо того, религ. представления в основном лежат в сфере образов, а идеалистические, как и вообще филос. учения, оперируют понятиями и категориями; в Р. играют значит, роль эмоц. переживания, ее отличает и органич. связь с культовыми действиями, и наличие церк. учреждений.
Специфичность церкви как религ. учреждения вытекает из того, что ее мощь и влияние основаны, прежде всего, на вере «паствы» в проповедуемые церковью догматы. То же и в религ. морали: она является таковой лишь постольку, поскольку Р. дает ей божеств, санкцию, основанную на всей системе верований и догматов данной Р.; содержание же религ. морали коренится в обществ, отношениях той эпохи, когда она возникла.
В религ. представлениях фантастически отражаются непрестанно изменяющиеся условия обществ, бытия и, прежде всего, характер производств, отношений людей. Образы сверхъестеств. существ, порожденные религ. фантазией, созданные ею картины потусторонней жизни носят на себе неизгладимую печать своего земного происхождения; верования различных народов п племен всегда специфически окрашены особенностями их жизни и быта. Вскрытие земных источников религ. фантастики наносит решит, удар по теологич. спекуляциям о божеств, откровении как источнике Р., однако необходимо не только констатировать естеств. истоки религ. фантастики, но и установить, почему обществ, бытие людей находит в сознании превратное, фантастически извращенное отражение. На этот вопрос марксизм-ленинизм отвечает своим учением о социальных и гносеологич. корнях Р.
Истоки Р. лежат в сфере обществ, бытия. В первобытном обществе социальной основой Р. был низкий уровень производит, сил, ограниченность отношений людей к природе и друг к другу. В классовом обществе, где рост производит, сил значительно уменьшил зависимость людей от природы, Р. отражает гл. обр. господство над людьми их собств. обществ, отношений. Здесь можно выделить два осн. фактора, рождающих Р. Во-первых, это стихийность обществ, процесса, принудит, характер обществ, сил, не подвластных сознат. контролю людей и выступающих как нечто чуждое и непонятное им (см. Отчуждение). Разрушит, воздействие стихийных обществ, сил, постоянно испытываемое людьми, и рождает в их сознании религ. представления — «превратное мировоззрение» превратного мира (см. К. Маркс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 1, с. 414). Вторым фактором существования Р. в антагонистич. формациях является классовый гнет, эксплуатация человека человеком. Дополнением, а отчасти и предпосылкой классового гнета в экономич. и политич. сфере является гнет в сфере духовной. «Религия есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п.» (Лени н В. И., Соч., т. 10, с. 65).
Однако даже при наличии соответствующих социальных условий Р. не могла бы возникнуть и удерживаться в сознании людей, если бы последнее не обладало рядом свойств, делающих возможным возникновение религ. фантастики. «...У поповщины (= философского идеализма), конечно, есть гносеологические корни, она не беспочвенна, она есть пусто-
РЕЛИГИЯ
491
 цвет, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве, живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, объективного, абсолютного, человеческого познания» (там же, т. 38, с. 361). Во многом гносеологич. корни Р. и филос. идеализма совпадают. «Раздвоение познания человека и возможность идеализма (=религии) даны уже в первой, элементарной, абстракции» (там же, с. 370). Для возникновения религ. представлений необходимо определ. развитие способности сознания к относительно свободным ассоциациям, к абстрагированию от эмпирич. реальности с тем, чтобы образам фантазии могло быть приписано самостоят, существование. Помимо этого Р. имеет и специфич. гносеологич. корни. Одним из них является стремление человеч. сознания к олицетворению явлений безличных и неживых. Энгельс писал о механизме возникновения религ. отражения: «Силы природы представляются первобытному человеку чем-то чуждым, таинственным, подавляющим. На известной ступени, через которую проходят все культурные народы, он осваивается с ними путем олицетворения. Именно это стремление к олицетворению создало повсюду богов...» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 639). Олицетворяя явления и силы природы, религ. фантазия превращает их в самостоят, существа. Существ, влияние на образование религ.-фантастич. заблуждений оказывают человеч. эмоции (страх, вожделение, благодарность, умиление, любовь, ненависть и т. д.). Раскрывая механизм образования фетишистских фантазий, Маркс писал: «Распалённая вожделением фантазия создаёт у фетишиста иллюзию, будто „бесчувственная вещь" может изменить свои естественные свойства для того только, чтобы удовлетворить его прихоть» (там же, т. 1, с. 98). Страх оказывает особое влияние на возникновение религ. представлений. Как степень интенсивности этого чувства, так и формы его проявления обусловливаются в значит, степени социальными условиями. В первобытном обществе это страх перед непонятными силами природы, в классовом обществе к нему присоединяется страх перед стихийными социальными силами. «Страх перед слепой силой капитала, которая слепа, ибо не может быть предусмотрена массами народа, которая на каждом шагу жизни пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему и приносит „внезапное", „неожиданное", „случайное" разорение, гибель, превращение в нищего, в паупера, в проститутку, голодную смерть,— вот тот корень современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь в виду материалист, если он не хочет оставаться материалистом приготовительного класса» (Л е н и н В. И., Соч., т. 15, с. 375).
цвет, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве, живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, объективного, абсолютного, человеческого познания» (там же, т. 38, с. 361). Во многом гносеологич. корни Р. и филос. идеализма совпадают. «Раздвоение познания человека и возможность идеализма (=религии) даны уже в первой, элементарной, абстракции» (там же, с. 370). Для возникновения религ. представлений необходимо определ. развитие способности сознания к относительно свободным ассоциациям, к абстрагированию от эмпирич. реальности с тем, чтобы образам фантазии могло быть приписано самостоят, существование. Помимо этого Р. имеет и специфич. гносеологич. корни. Одним из них является стремление человеч. сознания к олицетворению явлений безличных и неживых. Энгельс писал о механизме возникновения религ. отражения: «Силы природы представляются первобытному человеку чем-то чуждым, таинственным, подавляющим. На известной ступени, через которую проходят все культурные народы, он осваивается с ними путем олицетворения. Именно это стремление к олицетворению создало повсюду богов...» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 639). Олицетворяя явления и силы природы, религ. фантазия превращает их в самостоят, существа. Существ, влияние на образование религ.-фантастич. заблуждений оказывают человеч. эмоции (страх, вожделение, благодарность, умиление, любовь, ненависть и т. д.). Раскрывая механизм образования фетишистских фантазий, Маркс писал: «Распалённая вожделением фантазия создаёт у фетишиста иллюзию, будто „бесчувственная вещь" может изменить свои естественные свойства для того только, чтобы удовлетворить его прихоть» (там же, т. 1, с. 98). Страх оказывает особое влияние на возникновение религ. представлений. Как степень интенсивности этого чувства, так и формы его проявления обусловливаются в значит, степени социальными условиями. В первобытном обществе это страх перед непонятными силами природы, в классовом обществе к нему присоединяется страх перед стихийными социальными силами. «Страх перед слепой силой капитала, которая слепа, ибо не может быть предусмотрена массами народа, которая на каждом шагу жизни пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему и приносит „внезапное", „неожиданное", „случайное" разорение, гибель, превращение в нищего, в паупера, в проститутку, голодную смерть,— вот тот корень современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь в виду материалист, если он не хочет оставаться материалистом приготовительного класса» (Л е н и н В. И., Соч., т. 15, с. 375).
Р. есть явление историческое, неизбежно порождаемое условиями жизни общества на определ. ступени его развития и становящееся невозможным в бесклассовом коммунистич. обществе. Испытывая постоянное влияние со стороны политич. надстройки и др. форм обществ, сознания, Р. в своем развитии определяется, в конечном счете, развитием материального базиса общества. В то же время Р. обладает и относит, самостоятельностью, известной внутр. логикой своего развития. В сравнении с др. формами обществ, сознания Р., по словам Энгельса, «...всего дальше отстоит от материальной жизни и кажется наиболее чуждой ей» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21, с. 313). Как и в философии,«здесь связь представлений с их материальными условиями существования все более запутывается, все более затемняется промежуточными звеньями. Но все-таки она существует» (там же, с. 312).
Первонач. религ. представления должны были относиться к предметам ближайшего окружения чело-
века. В период развитого первобытного рода объектом религ. верований становятся многочисленные порожденные фантазией духи и боги, с течением времени все более индивидуализирующиеся, наделяющиеся личными именами; возникает политеистич. пантеон (см. Политеизм). Следующим этапом развития Р. является выделение отд. родами и племенами из всей массы богов и духов особых богов-покровителей, связанных только с данными родом или племенем. Признание существования мн. богов связано здесь с монолатрией, т. е. исключит, поклонением одному из этих богов; такое сочетание политеизма с монолатрией характерно, в частности, для древнеевр. Р. вплоть до эпохи эллинизма. В дальнейшем обнаруживается тенденция к монотеизму, находящая свое выражение в т. н. «высших религиях», но в них не достигающая своего завершения (догмат о троичности божества в христианстве, дьявол как антипод «единого бога» в иудаизме п исламе и т. д.), что делает несостоятельным традпц. теологнч. деление всех Р. по признаку единства или множественности признаваемых пмн божеств.
Депсты (см. Деизм) отделили проповедовавшуюся ими «естественную» Р. от т. н. позитивных, или дог-матич., Р. Фактически восприняв это деление, хрпст. теология придала ему апологетпч. смысл: Р. откровения якобы преподаны людям богом через его пророков, естеств. же Р., к к-рым отнесены все доиудейские и дохрист. «языческие» культы, возникли в процессе стихийных поисков людей и носят несовершенный характер по сравнению с Р. откровения.
В марксистском религиеведении принята классификация Р., к-рая исходит из масштаба охватываемых ими этнич. общностей. Выделяются след. группы Р.: племенные, национальные и межнациональные (мировые). К первой относятся Р. и культы доклассового общества, вторая охватывает как древние, так и совр. Р., распространенные преим. в рамках одной этнич. общности (народности, нации) и нередко — одного гос-ва. Межнациональными, или мировыми, являются Р., распространенные среди нескольких или мн. народов; в наст, время к ним относятся христианство, ислам и буддизм. Каждая из этих Р. в свою очередь подразделяется на вероисповедания и секты (см. Сектантство).
На всех стадиях своего развития Р. являлась выражением глубокой неудовлетворенности людей их положением, проявлением реального или кажущегося бессилия 5ггнетснных п обездоленных в борьбе за лучшую жизнь. По словам Маркса, «р е л и г и о з-н о е убожество есть в одно н то же время выражение действительного убожества п протест против этого действительного убожества» (там же, т. 1, с. 415). Однако этот протест не может быть действенным. Вырастая из придавленности человека условиями его жизни, Р. закрепляет эту придавленность, способствует ее сохранению. В этом смысле Р. является, по выражению Маркса, «опиумом народа» и протест, выражаемый Р., остается лишь пассивным «вздохом угнетенной тварн», к-рая переносит своп чаяния лучшей жизни в потусторонний мир, порожденный религ. фантазией. В те периоды истории, когда Р. безраздельно господствовала в сознании всех слоев общества, социальный протест также облекался в религ. оболочку и классовая борьба нередко развертывалась в форме борьбы религ. идеологий, обнаруживая противоречие между социальным содержанием революц. движений и религ. формой его выражения. Однако использование прогрессивными обществ. силами тех или иных религ. представлений для обоснования своих идеалов не может поставить под сомнение общую марксистскую оценку религ. мировоззрения как превратного отражения действительности.
492
РЕЛИГИЯ
 В СССР, как и в др. социалистич. странах, Р. является пережитком в сознании людей. По мере успехов строительства коммунистам, общества выкорчевываются социальные корни Р. и создаются условия для полной победы атеистич. научно-материалистич. мировоззрения во всех слоях населения. Этому способствует непрестанный подъем культурного и образоват. уровня широчайших масс народа. Поскольку релит, пережитки еще существуют, верующим предоставляется возможность свободного отправления культа, гарантированная конституцией Сов. гос-ва. Церковь отделена от- гос-ва, и последнее не вмешивается в отношения граждан к Р. и к религ. верованиям — в этом воплощен лозунг свободы совести, отстаивавшийся марксизмом-ленинизмом на всех этапах его истории. Однако социалистич. гос-во не отказывается от воспитат. воздействия на своих граждан с целью освобождения их сознания от религ. предрассудков н через школу и широкую сеть культ.-просветит, учреждений, включая библиотеки, кино, телевидение и т. д., ведет научно-атеистич. пропаганду во всех слоях населения. Программа КПСС указывает, что необходимо «...систематически вести широкую научно-атеистическую пропаганду, терпеливо разъяснять несостоятельность религиозных верований, возникших в прошлом на почве подавленности людей стихийными силами природы и социальным гнетом, из-за незнания истинных причин природных и общественных явлений» (1961, с. 122). См. Атеизм.
В СССР, как и в др. социалистич. странах, Р. является пережитком в сознании людей. По мере успехов строительства коммунистам, общества выкорчевываются социальные корни Р. и создаются условия для полной победы атеистич. научно-материалистич. мировоззрения во всех слоях населения. Этому способствует непрестанный подъем культурного и образоват. уровня широчайших масс народа. Поскольку релит, пережитки еще существуют, верующим предоставляется возможность свободного отправления культа, гарантированная конституцией Сов. гос-ва. Церковь отделена от- гос-ва, и последнее не вмешивается в отношения граждан к Р. и к религ. верованиям — в этом воплощен лозунг свободы совести, отстаивавшийся марксизмом-ленинизмом на всех этапах его истории. Однако социалистич. гос-во не отказывается от воспитат. воздействия на своих граждан с целью освобождения их сознания от религ. предрассудков н через школу и широкую сеть культ.-просветит, учреждений, включая библиотеки, кино, телевидение и т. д., ведет научно-атеистич. пропаганду во всех слоях населения. Программа КПСС указывает, что необходимо «...систематически вести широкую научно-атеистическую пропаганду, терпеливо разъяснять несостоятельность религиозных верований, возникших в прошлом на почве подавленности людей стихийными силами природы и социальным гнетом, из-за незнания истинных причин природных и общественных явлений» (1961, с. 122). См. Атеизм.
И. Крывелев, Д. Угринович. Москва.
История учений о религии. Рационалистич. взгляды на Р., противостоящие культовым и теологич. доктринам, зародились в Древней Греции. Представитель элейспой школы Ксенофан подверг критике антропоморфизм греч. Р. и провел различие между единым мировым божеством и образами богов, к-рые каждый народ создает по своему подобию (напр., боги у фракийцев и эфиопов). Первым предметом критики становится миф, к-рый выделяется из Р. как продукт человеч. фантазии; с кризисом традиц. религ. представлений в эпоху эллинизма эта критика распространяется на Р. в целом. В антич, время возник ряд теорий Р., преим. наивно-рационали-стич. характера, к-рые получили развитие уже в новое время, в частности: 1) натуралистич. теория, возводимая к Теагену Регийскому (6 в. до н. э.), к-рый рассматривал богов как аллегории внешних природных явлений; 2) антропологич. теория, восходящая к Эвгемеру, к-рый считал богов обожествленными древними царями и героями; эта идея явилась первоисточником различнв1х позднейших концепций «человеко-бошия»; 3) политич. теория Р.,или теория обмана, приписываемая Платоном (Legg., X) афинскому тирану Критию (ум. 403 до н. э.), к-рый видел в Р. орудие управления (instrumentum regni): P.— это сознат. изобретение древних законодателей, придумавших своего рода небесных надзирателей за делами людей. Вариантом ее была теория договора (Секст Эмпирик), согласно к-рой началом Р. послужил договор правителей и жрецов с народом. В антич. период зарождаются и психоло-гич. теории Р., объясняющие ее страхом перед естеств. силами [взгляд, возводимый антич. традицией к Демокриту и выраженный в известном стихе рим. поэта Стация — «Первых в мире богов создал страх» (Thebais, III, 601)]. Посидопий противопоставляет народной Р. врожденные религ. представления, предвосхищая естественную Р. деистов.
В эпоху ср. веков независимый от теологии подход к Р. становится невозможным. Однако и теология не могла избежать вопроса о соотношении Р. и разума в границах филос. истолкования христ. догмы. Если последнее еще допускалось нек-рыми «отцами церкви» (Ориген, Дионисий Ареопагит и др.), то Тертуллиан настаивал на полной несовместимости Р. и философии, утверждая «абсурдность» веры для разума. Схоластики трактовали философию как «прислужницу» теологии. Вопрос о т. н. «ложных» религиях и наличии в них общих с христианством элементов христ. апологетика пыталась объяснить, или исходя из теории предоткровения (Ориген, частично Августин), что впервые вносило во взгляды на Р. элемент историзма, или же заимствованием и искажением у языч. народов религии Моисея. Ранней попыткой частичного освобождения от пут теологии было учение о двойственной истине у номиналистов.
В 17 —18 вв. с критикой теории откровения и догматов христианства выступили англ. деисты и за ними франц. просветители, выдвинувшие идею естеств. P. (religio naturalis, аналогичной естеств. праву) или независимой от откровения Р. разума [Чербери, «Трактат об истине» («Tractatus de verita-te», P., 1624); Вольтер, «Опыт всеобщей истории о нравах и духе народов», 1756]. Вольтер отстаивал естеств. Р. «без чудес, попов и фанатизма», приближение к к-рой он находил в Р. китайцев. Деизм явился отчасти переходной ступенью к атеизму, к к-рому
ближе всего из деистов подошел Толанд. Подобную же роль сыграл и пантеизм (Дж. Бруно, Спиноза). Сильные в практич. критике церкви и христ. догматики, просветители видели в Р. продукт невежества и обмана. Теория обмана имела большой успех у свободомыслящих вплоть до 19 в. и вошла даже как нечто общепризнанное в декрет Конвента 1793 об отмене Р. во Франции («Как известно, все Р. изобретались правителями, чтобы лучше управлять народами»). Со 2-й пол. 18 в. во франц. Просвещении наметились два течения в истолковании Р.: одно из них через Гельвеция пришло к материализму и атеизму «Системы природы» (1770) Гольбаха, второе в лице Руссо провозгласило естеств. Р. проявлением не разума, а чувства («Эмиль», Amst., 1762; рус. пер., ч. 1—4,М., 1807). Англ. деизм привел в конце к сенсуализму Юма, к-рый по-новому ставит проблему происхождения Р. («Естеств. история P.», L., 1757; рус. пер., Юрьев, 1909). Юм отвергает Р. разума и дает чисто антропологич. истолкование Р.. объясняя ее склонностью человека наделять внешние природные силы человеч. свойствами. Р. возникает из жизненных забот, страхов и надежд, причины к-рых человек приписывает таинств, внешним силам, стремясь приблизить их к себе. Древнейшей Р. Юм считает идолопоклонство, или политеизм (Вольтер видел еще в нем продукт позднейшей деградации Р.), Исключит, явлением для 18 в. явилось соч. Броса («Du culte des dieux fetiches...», 17C0), где древнейшбй формой и источником Р. объявлялся фетишизм афр. негров (идеи Броса о фетишизме были через сто с лишним лет воскрешены А. Бастианом). Г. Э. Лессинг истолковывает естеств. Р. не как нечто изначально данное, а как конечную цель развития конкретных Р.
Нем. классич. философия, выступая против рационализма Просвещения, по-новому ставит вопрос о сущности Р. Кант разграничивает функции веры и разума, Р. и философии, отказываясь рассматривать вопрос о действит. существовании религ. объектов. Необходимость Р., по Канту, коренится в этич. плоскости, в сфере практич. разума: Р. нужна для обоснования нравств. принципов человеч. поведения. Бессмертие, свобода, бог — «не теоретические догматы, но предположения для необходимого практического стремления» («Критика практич. разума», СПБ, 1908, с. 137). Это неизбежно вело к субъективизации Р., что и проявилось в учении о Р. Шлейер-махера («Речи о Р.», В., 1799; рус. пер., М., 1911) как особой сфере человеч. сознания, к-рая не сводится к морали или метафизике, хотя и имеет с ними общий объект — «универсум». Однако главное в Р. не объект, а связь его с субъектом во внутр. переживании: Р. есть особое чувство — чувство зависимости от бесконечного. Поэтому Р. не нуждается ни в бытии личного бога, ни в бессмертии души, к-рое мыслится лишь как слияние с бесконечным. Конкретные Р.— это различные формы связи вечного с временным и как таковые одинаково истинны. Против учения Шлейермахера о первичности чувства в Р. выступил Гегель, к-рый вновь ввел Р. в рамки философии как предшествующую ей ступень познания абс. духа, хотя и в несовершенных формах представления и веры. Отд. религии Гегель рассматривает как необходимые стадии воплощения религ. идеи, завершающиеся возникновением христианства как «абсолютной» Р. («Лекции по философии Р.», В., 1832). После смерти Гегеля филос. развитие левых гегельянцев привело их к атеистич. выводам. Д. Ф. Штраус, Б. Баузр выступили с открытым отрицанием божеств, происхождения христианства, видя в Новом завете продукт коллективного история, мифотворчества (см. Тюбингенская школа). Фейербах перешел от гегелевского представления об абс. идее, познающей себя в человеч. сознании, к утверждению, что последняя сама есть порождение этого сознания («Сущность христианства», 1841). Источник Р. Фейербах видит в раздвоении человека с самим собой, в отчуждении от реального человека его «родовой сущности». Сведение Р. к «реальным земным основам» у Фейербаха послужило этапом на пути создания Марксом и Энгельсом научной теории Р.
С сер. 19 в. начинает формироваться религиеведение, постепенно выделяющееся из философии Р. Предпосылкой для эмпирич. изучения Р. явилось ознакомление с осн. памятниками нехрист. Р., систематич. публикация к-рых была начата основателем мифологич. школы М. Мюллером (1823—1900), выдвинувшим задачу филологич. изучения Р., реконструкции исчезнувших Р. по их памятникам и в этой связи сравнит, метод изучения Р. («Сравнит, мифология», L., 1856; рус. пер., М., 1863). Мюллер возродил натуралистич. теорию Р., считая, что в основе Р. лежат представления первобытного человека о природе; Р. оказывалась, т. о., своего рода первобытной натурфилософией. Первичным элементом Р. считался миф, а задача изучения Р. сводилась в основном к раскрытию естеств, символики мифов. Мифологич. школа господствовала в области изучения Р. до последней четверти 19 в. Отзвуки натуралистич. взглядов заметны и позже, напр. у Фрейзера («The worship of nature», L., 1926). Разновидностью натуралистической была астральная теория Р., видевшая в религ. образах и мифах отражение движений небесных тел. Основанная в 18 в. Ш. Дюпюи, она имела достаточно приверженцев еще в нач. 20 в. (Г. Винклер, Э. ГИтукен, А. Немоев-ский).
Новый этап в развитии религиеведения связан с работами англ. антропологич. школы по изучению ранних форм Р. Эти исследования привели Э. Тайлора в 1867 к концепции анимизма («Первобытная культура», v. 1—2, L., 1871; рус. пер., М., 1939). Тайлор, а также Спенсер и Леббок рассматривали
РЕЛИГИЯ
493
 Р. как плод умств. деятельности первобытного человека, как «первобытную гносеологию», выводя ее из ошибочных объяснений элементарного человеч. опыта (явлений сна, смерти и т. п.)- Культ, по Тайлору, возникает позднее как нечто производное от религ. представлений. Распространяя понятие еволюции на историю Р., Тайлор и Спенсер допускали существование дорелиг. эпохи, а в анимистич. представлениях видели тот «минимум Р.», из к-рого в дальнейшем возникли все существующие Р. Теория анимизма, основанная на обширном "этнографии, материале, заняла в последней четверти 19 в. господств, положение в изучении Р. В России ее самым крупным представителем был Л. Я. Штернберг (поем. сб. «Первобытная Р. в свете этнографии», Л., 1936). Однако в конце 19 — начале 20 вв. ряд авторов выступает с критикой анимизма. Робертсон-Смит в «Лекциях о Р. семитов» (W. Н. Smith. Lectures on the religion of the Semites, Edin., 1889) выдвинул положение о том, что древнейшие Р. представляли собой систему практич. действий или культ («религ. действия возникли раньше религ. теорий, как политич. институты — раньше политич. теорий»), а догма и миф, служившие для объяснения религ. ритуала, были вторичным образованием. В 1900 Маретт (1866—1945) высказал идею о том, что анимизму предшествовала более архаич. стадия аниматизма, когда еще отсутствовали представления о духах и личной душе. Первоначально религ.-магич. действия имели характер импульсивных реакций; идейные и догматич. формы Р.— позднейшие производные от ее эмоц. субстрата. Ко взглядам Маретта были близки нем. исследователи религии Прёйс и Фиркандт (см. Преанимизм), а также рус. ученый В. Богораз-Тан. Против идеи эволюционизма в Р. выступил А. Ланг (1844—1912), утверждавший, что Р. первобытных народов не могут быть сведены ни к мифологии, ни к анимизму (A. Lang, Myth, ritual and religion, v. 1 — 2, L., 1887). Находя уже в Р. австралийцев развитые представления об антропоморфных божествах («The making ot religion», L., 1898), Ланг близко подошел к идее прамоно-теизма, широко использованной затем клерикальной т. н. культурно-исторической школой В. Шмидта. В нач. 20 в.Вундт делает попытку пересмотреть анимистич. теорию в свете своей ассоциативной психологии («Миф и Р.»,Т1 1—2, Lpz.,1905—06; рус. пер., СПБ, 1913), возводя Р. не к мыслит, деятельности первобытного человека, а к деятельности его фантазии («персонифицирующая апперцепция» как источник Р.). Выделив наряду с религ.-мифологич. представлением «души-дыхания» (Psyche) более древнее представление о «телесной душе» (Korperseele), неотделимой от внешнего облика и способной вселяться в животного — заместителя души, Вундт видит в этом источник тотемизма как производной от анимизма древнейшей формы культа предков (развитие этих идей см. у В. Клингера, Животное в античном и совр. суеверии, К., 1911).
Р. как плод умств. деятельности первобытного человека, как «первобытную гносеологию», выводя ее из ошибочных объяснений элементарного человеч. опыта (явлений сна, смерти и т. п.)- Культ, по Тайлору, возникает позднее как нечто производное от религ. представлений. Распространяя понятие еволюции на историю Р., Тайлор и Спенсер допускали существование дорелиг. эпохи, а в анимистич. представлениях видели тот «минимум Р.», из к-рого в дальнейшем возникли все существующие Р. Теория анимизма, основанная на обширном "этнографии, материале, заняла в последней четверти 19 в. господств, положение в изучении Р. В России ее самым крупным представителем был Л. Я. Штернберг (поем. сб. «Первобытная Р. в свете этнографии», Л., 1936). Однако в конце 19 — начале 20 вв. ряд авторов выступает с критикой анимизма. Робертсон-Смит в «Лекциях о Р. семитов» (W. Н. Smith. Lectures on the religion of the Semites, Edin., 1889) выдвинул положение о том, что древнейшие Р. представляли собой систему практич. действий или культ («религ. действия возникли раньше религ. теорий, как политич. институты — раньше политич. теорий»), а догма и миф, служившие для объяснения религ. ритуала, были вторичным образованием. В 1900 Маретт (1866—1945) высказал идею о том, что анимизму предшествовала более архаич. стадия аниматизма, когда еще отсутствовали представления о духах и личной душе. Первоначально религ.-магич. действия имели характер импульсивных реакций; идейные и догматич. формы Р.— позднейшие производные от ее эмоц. субстрата. Ко взглядам Маретта были близки нем. исследователи религии Прёйс и Фиркандт (см. Преанимизм), а также рус. ученый В. Богораз-Тан. Против идеи эволюционизма в Р. выступил А. Ланг (1844—1912), утверждавший, что Р. первобытных народов не могут быть сведены ни к мифологии, ни к анимизму (A. Lang, Myth, ritual and religion, v. 1 — 2, L., 1887). Находя уже в Р. австралийцев развитые представления об антропоморфных божествах («The making ot religion», L., 1898), Ланг близко подошел к идее прамоно-теизма, широко использованной затем клерикальной т. н. культурно-исторической школой В. Шмидта. В нач. 20 в.Вундт делает попытку пересмотреть анимистич. теорию в свете своей ассоциативной психологии («Миф и Р.»,Т1 1—2, Lpz.,1905—06; рус. пер., СПБ, 1913), возводя Р. не к мыслит, деятельности первобытного человека, а к деятельности его фантазии («персонифицирующая апперцепция» как источник Р.). Выделив наряду с религ.-мифологич. представлением «души-дыхания» (Psyche) более древнее представление о «телесной душе» (Korperseele), неотделимой от внешнего облика и способной вселяться в животного — заместителя души, Вундт видит в этом источник тотемизма как производной от анимизма древнейшей формы культа предков (развитие этих идей см. у В. Клингера, Животное в античном и совр. суеверии, К., 1911).
Крупнейший представитель англ. антропологич. школы Фрейзер исходил, как и Тайлор, из чисто рационалистич. вовзрений на происхождение Р. (гл. соч. «Золотая ветвь», v. 1—2, L., 1890; рус. пер., вып. 1 — 4, М., 1928). Считая Р. одним из трех этапов духовного развития (магия —Р.— наука), Фрейзер настаивает на принципиальном различии Р. и магии. Источник собственно религии Фрейзер усматривает в обнаружении бессилия магич. действий, порождающем чувство беспомощности и стремление к персонификации не поддающихся контролю природных сил.
Позднейшие этнологич. школы выступили с критикой принципов эволюционизма и отрицанием «гносеология.» теорий Р., утверждая в разных формах примат религ. действий, ритуала над религ. теорией. Среди них особое влияние получила амер. школа культур-антропологии (Боас, Крёбер, Р. Бенедикт, Кардинер и др.) и функциональная школа Б. Малиновского И Радклифф-Брауна, выступивших как против теории эволюционизма, так и друг против друга (см. их спор о природе ритуала— В. Malinovski, Freedom and civilization, N. Y., 1944). Малиновский видит функцию Р. в преодолении чувства страха и бессилия в критич.жизненных ситуациях; напротив, Радклифф-Браун в самих религ. обрядах и связанных с ними верованиях видит источник страха (страх перед вредоносной магией, злыми духами, адом, страх божий и т. д.—A. R. Radcliffe-Brown, Structure and function in primitive society, L.,1952). Радклифф-Браун ближе к Дюркгейму, видя функцию Р. в укреплении социальных связей (Р. заставляет всех членов группы переживать общие страхи и надежды). При всем различии обе теории сходны в том, что объявляют неразрешимой и не имеющей смысла саму проблему происхождения Р., трактуя Р. как одну из обществ, функций или «зависимых переменных, возникающих спонтанно в данной обществ, структуре» (Радклифф-Браун). Источник Р. усматривается в ошибочной интерпретации социальных или естеств. сил, но это заблуждение «функционально» оправдывается как нечто полезное для человека. На рубеже 19—20 вв. расширяется сфера изучения Р. Дюр-кгейм и др. во Франции, М. Вебер, Трёльч в Германии закладывают основы социологии религии. Дюркгейм («Les formes elementaires de la vie religieuse», P., 1912) и его последователи Юбер и Мосс подвергли критике идеи англ. антропологич. школы о роли индивидуальных умств. представлений и аффективных реакций в возникновении Р. и подчеркнули определяющую роль общества. Для Дюркгейма Р.— одна из форм т. и. коллективных представлений, обладающих императивной силой для индивидуального сознания. Универсальное ядро Р. Дюркгейм видит не в представлении о божестве, но в разделении всех явлений на две сферы — священного
(sacre) и светского (profane). P.— система представлений и действий, относящихся к священному, оказывается не метафизикой природы, как у Тайлора и др., но метафизикой общества. Зевс, Яхве или клановый тотем требуют от индивида того же, что и общество — отказа от своих интересов, жертвы и подчинения. Природа и цели божества отличны от целей индивида и непонятны ему, как и цели общества. Первая и универсальная форма Р., по Дюркгейму,— тотемизм, причем предок — тотем — лишь символ единства общества, объединенного узами родства. Большое влияние на последующее изучение Р. оказали идеи Леви-Брюля о «дологическом» характере первобытного мышления («Первобытное мышление», Р., 1910; рус. пер., М., 1930). Отвергая представление о первичности к.-л. одного из компонентов Р., Леви-Брюль рассматривает ее как комплекс представлений, эмоций и практич. действий.
С развитием науч. психологии религ. явления также становятся предметом ее изучения. Возникает психология Р., из отд. ответвлений к-рой выделяются эмпирич. психология Р., глубинная психология Р., социальная психология Р. (близкая к социологии Р.) и психопатология Р. Родоначальником эмпирич. психологии Р. в плане изучения индивидуальной психологии религиозности принято считать амер. психолога Стэнли Холла (1844—1924), автора работы о религ. кризисах в юношеском возрасте (1882). Его последователи У. Джемс, 3. Д. Старбек (1866—1947), Д. А. Леба (1868—1946) и др. обратились к эмпирич. исследованию религ. явлений совр. бурж. общества, используя обильный материал, к-рый давало множество Р. и сект в США. Первоначально внимание было обращено преим. на необычные религ. феномены — переживания мистиков, «озарения» и т. п. В 1899 вышла «Психология Р.»Старбека (Е. D. Starbuck, The psychology of religion), построенная на статистич. обработке анкетных данных. Леба стремился доказать, что религ. переживания подчинены тем же естеств. законам, что и др. психич. явления. В фундаментальной работе о мистицизме (J. H. Leuba, Psychology of religious mysticism, L., 1925) он пытался объяснить самые странные мистич. феномены с помощью физиологич. психологии; христ. мистики, согласно Леба, это истерики и неврастеники, занимающиеся своего рода самодеят. психотерапией. При этом Леба постоянно биологизирует Р.
Самым крупным представителем амер. психологии Р. является Джемс, сочетавший эмпирич. метод с идеализмом и даже мистицизмом. В своем «Многообразии религиозного опыта» (L.,1902; рус. пер., М., 1910) он сделал предметом психоло-гич. изучения, помимо анкет Старбека, интимные дневники, исповеди, жития святых и др. религ. документы. Основой Р. Джемс считал не догму или ритуал, а непосредств. переживание или религ. опыт, к-рый индивидуален и иррационален и не может быть ни адекватно выражен, ни передан другому. Поэтому Р. фактически столько же, сколько разновидностей религ. опыта, источником к-рого служит бессознат. сфера человеч. личности, якобы вступающая в соприкосновение с «иным миром» и служащая источником знаний о нем. Стремясь доказать истинность религ. опыта, Джемс на деле выявлял лишь эмоц. элементы Р. в человеч. психологии. Значение Р. он видит не в ее истинности, а в практич. пользе — эта праг-матич. апология Р. стала после Джемса весьма популярной в амер. бурж. психологии Р., к-рая до сих пор испытывает сильное влияние Джемса ( llpamm , Олпорт, Кларк и др.).
Возможности психология, изучения Р. расширились с развитием т. н. глубинной психологии, к-рая перешла от внешних наблюдений к изучению бессознат. механизмов возникновения религ. эмоций. В ранних работах по глубинной психологии особое внимание уделялось близости религ. феноменов к явлениям гипнотизма, истерич. внушения, раздвоения личности и др. (Шарко и его школа, Жане, обобщивший идеи франц. психиатров в кн. «Между тревогой и экстазом» — P. Janet, De 1'angoisse a. 1'extase, v. 1—2, P., 1926—28). Фрейд в работе «Навязчивые дейстзия и религ. обряды» (Р., 1907; рус. пер. в кн.: Психологич. этюды, М., 1912) устанавливает близость психологич. структуры невроза навязчивости и религ. церемониала, отмечая общий в обоих случаях импульсивный характер действий, наличие чувства внутр. принуждения, интенсивный страх как следствие отступления от невротич. или религ. церемониала. Фрейд полагает, что в основе религ. действий и невротич. симптомов лежит общий бессознат. субстрат в виде подавленных влечений, к-рые в неврозе имеют лишь более личный характер, а в Р.— общий для многих людей в данное время. Р. и невроз представляют собой защитное образование против чувства внутр. неуверенности и страха, порожденного этими влечениями, и одновременно компромисс — такую форму символич. удовлетворения запретных желаний, в к-рой они могут ассимилироваться сознанием. Фрейд определял Р. как универсальный невроз навязчивости, а невроз — как личную Р. индивида («Будущность одной иллюзии», W., 1927; рус. пер., М —Л., 1930). Позднее Т. Рейк рассматривал и религ. догматы как коллективные навязчивые идеи (Т. Reik, Dogma und Zwangsidee, W., 1927).
В работе «Тотем и табу» (Lpz.—W., 1913; рус. пер., П.—М., 1923) Фрейд выдвинул иную теорию возникновения Р., основанную на данных этнологии (Фрейзер, Робертсон-Смит), а также наблюдениях психоанализа над детскими фобиями, в к-рых животное символизирует отца или иной вызывающий страх внешний авторитет. Священные звери — тотемы — рассматриваются как символич. объекты перенесения бессознат. влечений, вытесненных в результате запретов (табу) в перво-
494
РЕЛИГИЯ РЕЛЯТИВИЗМ
 битном обществе. Г. Рохейм (1891 —1953) применил эту теорию Фрейда к изучению австрал. тотемизма (G. Roheim, Australian totemism, L., 1925), Т. Рейк— к объяснению обрядов кувады и инициации.
битном обществе. Г. Рохейм (1891 —1953) применил эту теорию Фрейда к изучению австрал. тотемизма (G. Roheim, Australian totemism, L., 1925), Т. Рейк— к объяснению обрядов кувады и инициации.
К. Юнг, вначале последователь Фрейда, порвал с ним из-за отрицания Фрейдом религии. Выдвинув идею третьей пси-хич. модальности — коллективного бессознательного, Юнг разработал на ее основе новый подход к Р., стремясь к переосмыслению архаич. и эзотерич. культов и мистерий, содержащих, по мнению Юнга, наиболее глубокий общечеловеч. опыт. Первичным элементом Р. в индивидуальной психике у Юнга выступает образ-символ (архетип). Архетипы проявляются в человеке спонтанно, изнутри, наподобие внутр. откровения, будучи выявлением «родовой памяти» человечества. Такова, напр., буддийская мандала, выражающая идею интеграции, внутр. завершения личности (С. Jung, Mandala symbolism, Coll. Papers, 1959, v. 9, № 2). Защитой от напора коллективного бессознательного, стремящегося как бы затопить сознание, служит религ.-магич. ритуал, своеобразная компенсаторная деятельность, направленная на поддержание внутрипси-хич. баланса. Эта задача Р. совпадает с задачей психотерапии, а конкретные формы Р. истолковываются Юнгом как различные психотерапевтич. методы. Учение Юнга вызвало заметный интерес среди теологов, один из к-рых, православный священник Г. Захариас, даже истолковал в духе Юнга евангелия (G. Zacharias, Psyche und Mysterium, Z., 1954). Под влиянием Юнга находится группа исследователей Р. и мифологии, объединенная вокруг ежегодника «Eranos» (1933— 1964, 32 тт.) (К. Кереньи, Дж. Кэмпбелл, М. Франц и др.), оно сказывается также в работах по символике Р. у М. Элиаде (р. 1907) (М. Eliade, Ewige Bilder und Sinnbilder, Olten-Frei-burg, 1958).
Видное место в бурж. науке о Р. с конца 19 в. занимает протестантское религиеведение (см. Протестантизм), получив-пес, помимо Германии, особое развитие в Голландии и Швеции. Основателем историч. направления в протестантском религиеведении явился голл. историк К. Тиле (1830—1902), автор первого курса всеобщей истории Р. (1876), получившего позднее широкое распространение в переработке швед, религиеведа Сёдерблома (1866—1931) (С. Tiele, N. Soderblom, Kompendium tier Religionsgeschichte, 1931). Развитие Р. истолковывается Тиле как внутр. автономное движение Р. от низших форм к высшим. Тиле проводил различие между развитием Р. и конкретными формами Р. Позднейшие религиеведы, не занимающие конфессиональных позиций, выступили против этой идеи прогресса в Р., отмечая, что для эмпирич. религиеведения отсутствует к.-л. объективный масштаб для оценки прогрессивности "или отсталости Р. и предпочитая говорить не о развитии, а о процессах расчленения внутри отдельных Р. (И. Вах). Продолжателем Тиле во многом был Сёдер-блом, утверждавший, что в основе Р. лежит не идея бога, но представление о святости. Источник Р. для Сёдерблома, как и для Джемса, — в психич. жизни индивида. В связи с этим он считал невозможным объяснить Р. через понятие сверхъестественного, отмечая, что различие между природным и метафизическим появляется сравнительно поздно и не составляет сущности P. (N. Soderblom, The living god, L., 1933). Рассматривая историю Р. как смену форм откровения, Сёдер-блом устанавливает на этой основе этапы развития P. («Das Werden des Gottesglaubens», Lpz., 1916): первая стадия — народные традиц. Р., тесно связанные с конкретными формами данной культуры и обществ, организации (из совр. Р.— синтоизм), на второй стадии появляются акосмич. Р., исходящие из «мистики бесконечности»: из коллективного дела Р. становится делом личного и вместе с тем универс. спасения. Противоположность между священным и земным отождествляется с противоположностью духа и материи, мета-физич. дуализм порождает аскетизм и бегство от мира; концепция божества на этой стадии отсутствует (буддизм). Наконец, на третьей стадии — стадии пророческой Р.— устанавливается связь между миром и божеством. Р. Отто (1869—1937) критикует как рационалистич. и либеральную, так и ортодокс, теологию как вторую — метафизич. форму рационализма и выдвигает идею иррациональности Р. Вслед за Сёдербломом он считает основой Р. «священное», являющееся иррациональной величиной (R. Otto, Das Heilige, Breslau, 1917). В основе переживания священного или первичного религ. чувства лежит mysterium tremendum, «ужасающая тайна», вызывающая ощущение человеком своей греховности, ничтожества, рядом с к-рым возникает мистич. чувство «благодати», близости к божеству; догматическая же сторона Р., представления о божестве — вторичное явление, попытка рацион, переработки внутр. религ. опыта.
Основателем феноменологии, метода в религиеведении явился М. Шелер, применивший к Р. принципы феноменологии (М. Scheler, Vom Ewigen im Menschen, Bd 1, Lpz., 1921) и проведший резкое различие между общим религиеведением и философией Р. Задачу феноменологии Р. Шелер видит в описании «чистых форм» религ. акта, его «внутр. жизни». Разработка т. н. общей феноменологии Р. принадлежит Герарду ван дер Леэву (G. von der Leeuw, Phanomenologie der Religion, Tubingen, 1933, 2 Aufl., Tubingen, 1956). Представители феноменологии, школы Р. Петтаццони группируются вокруг журнала «Numen». Методы структурного анализа были применены при изучении Р. в «структурной антропологии» Леви-Строса.
В целом для совр. бурж. религиеведения характерны разрыв в изучении субъективной и объективной стороны Р., находящий выражение в противопоставлении социологич. и психологии, теорий Р., эклектич. смешение различных концепций и подходов к Р., отказ от объяснения происхождения Р. (Р. Отто: «Р. возникает из себя самой»; Т. Андре: «Происхождение Р.— не исторический, а метафизический вопрос»), а также усиление фидеистич. тенденций (призыв к сотрудничеству с теологией у Леэва и др.). В большинстве направлений совр. бурж. психологии и социологии Р. осталось по существу непреодоленным противопоставление индивида и общества, свойственное еще просветит, теориям Р. 18—19 вв. Если субъективно-психологич. теории Р. выводят ее из особых состояний психики отд. индивида (Джемс, Фрейд и т. д.), игнорируя социально-историч. контекст их проявления, то позитивистская социология (Дюркгейм и его школа и др.), фиксируя внимание лишь на независимости и принудительности социальных, в частности религ. норм и институтов по отношению к отд. индивидам, также оказывается не в состоянии понять их происхождение и роль в обществе как целостной саморазвивающейся системе.
Д. Ляликов. Москва.
Марксистская лит-ра о Р.: Маркс К. и Энгельс Ф., О Р., М., 1955; Ленин В. И., О Р., М., 1954; Вопросы идеологич. работы, М., 1961, с. 72—76, 61—65: Л а-ф а р г П., Р. и капитал, М., 1937; Бон ч-Б руевич В. Д., Избр. соч., т. 1, М., 1959; К р ы в е л е в И. А., Ленин о Р., М., 1960; Шахнович М. И., Ленин и проблемы атеизма, М.—Л., 1961; Сухов А. Д., Социальные и гносеологии, корни Р., М., 1961; У г р и н о в и ч Д. М., О специфике Р., М., 1961; Д о ни ни А., Люди, идолы и боги, пер. с итал., М., 1962; Феди и Ю., О совр. попытках обновления Р., М., 1962; Филос. проблемы атеизма, М., 1963; Крупская Н. К., Из атеистич. наследия, М., 1964; К р ы в е л е в И. А.. Маркс и Энгельс о Р., М., 1964; Токарев С. А., Р. в истории народов мира, М., 1964; его же, Ранние формы Р. и их развитие, М., 1964; Вопр. истории Р. и атеизма. Сб. ст., [т.] 1 —12, М., 1950—64; Левада Ю. А., Социальная природа Р., М., 1965.
История учений о P.: Pflcidercr D. О., Ge-schichte der Religionsphilosophie von Spinoza bis auf die Gegenwart, 3 Aufl., В., 1893 (есть рус. пер.); Flournoy Т h., Lee principes de la psychologic religieuse, [Gen.], 1903 (рус. пер., К., 1909); Wach J., Religionswissenschalt. Prolegomena zu ihrer wissenschaftstheoretischen Grundlegung, Lpz., 1924; его же, The comparative study ot religions, N. Y., 1958; MenschingG., Geschichte der Religionswissenschalt, Bonn, 1948; его же, Die Religion. Erscheinungsformen, Strukturtypen und Lebensgesetze, Stuttg., 1959; Hascnfufl J., Der Soziologismus in der modernen Religionswissenschaft, Wilrzburg, 1955; Lessa W. et Vogt E., [ed.], Reader in comparative religion, Evanston (III.), [1958]; The historyeof religions, ed. by M. Eliade and J. M. Kitagawa, Chi., 1959; Readings in the psychology of religion, ed. by O. Strunk, N. Y.—Nashville, 1959; H e i 1 e r P., Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Stuttg., [196Ц; Wells D. A., God, man and the thinker: philosophies of religion, N. Y., [1962]; Classical and contemporary readings in the philosophy of religion, N. Y., 1964; Eliade M., Traite d'histoire des religions, P., 1964; Symposium on new approaches to the study of religion, Pittsburgh, 1964; International bibliography of the history of religions, Leiden, 1952.
Журналы по религиеведению: Zeitschrift fur Religionswissenschaft, 1898—; Revue d'Histoire des Religions, P., 1880—; Numen, Leyden, 1954—; Euhemer, Wars., 1957—; Kairos. Zeitschrift fur Religionswissenschaft und Theologie, Salzburg, 1959—, Symbolon, Basel, 1960—; Journal for the scientific Study of Religion, New Haven, 1961 — .
Энциклопедии: Encyclopaedia of religion and ethics, v. 1 —13, N. Y., 1951—55; Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3 Aufl., Bd 1 — 6, Tiibinger, 1957—62; Lexikon fiir Theologie und Kirche, Bd 1 — 10, Freib., 1957—65. См. также лит. при ст. Атеизм, Мифология.
РЕЛЯТИВИЗМ (от лат. relativus — относительный) — возведенный в ранг теоретич. концепции принцип, согласно к-рому все в мире только относительно. Из такого подхода вытекает отрицание к.-л. абс. субстанциональных моментов, сторон в вещах, науч. теориях, моральных нормах и т. д. В зависимости от предметных областей, где реализуется .этот принцип, различают:
Р. метафизический (онтологический), т. е. утверждение, что вещи и их свойства существуют только в отношениях к другому (обычно под ним понимается дух, воспринимающий субъект). Крайним выражением такой т. зр. является, напр., позиция Беркли: «То, что говорится о безусловном существовании немыслящих вещей без какого-либо отношения к их воспринимаемости, для меня совершенно непонятно. Их esse есть р е г с i p i, и невозможно, чтобы они имели ка-
РЕЛЯТИВИЗМ РЕМКЕ
495
 кое-либо существование вне духов или воспринимающих их мыслящих вещей» («Трактат о началах че-ловеч. знания», СПБ, 1905, с. 62). Концепцию, утверждающую, что существуют только отношения, иногда наз. реляционизмом.
кое-либо существование вне духов или воспринимающих их мыслящих вещей» («Трактат о началах че-ловеч. знания», СПБ, 1905, с. 62). Концепцию, утверждающую, что существуют только отношения, иногда наз. реляционизмом.
Р. гносеологический — концепции, объединяемые принципом: все наши знания относительны, они обладают значимостью лишь для определ. т. зр., а поэтому необъективны. Такой принцип обосновывается по-разному. В философии эмпиризма Р. с ло-гич. неизбежностью вытекает из признания индивидуального опыта единств, источником знания: если различные индивиды устроены по-разному, обладают различным опытом, то и их знания об одном и том же различны. Первым представителем этой т. зр. в истории философии был, по-видимому, Протагор, утверждавший, что человек есть мера всех вещей. В этом же смысле Р. был свойствен софистам, скептицизму. Др. предпосылкой для принятия принципа Р. в гносеологии является апелляция к тому, что познаваемая нами действительность находится в постоянном изменении, поэтому наши знания всегда относительны в том смысле, что истинны только в данный момент. В такой т. зр., во-первых, не учитывается относит, устойчивость вещей и явлений, к-рая и делает возможным их познание, а во-вторых, вопрос о соответствии наших представлений объекту подменяется вопросом о неизменности этих представлений. Иногда обоснованием Р. служит ссылка на то бесспорное обстоятельство, что объект не может быть познан сразу весь и целиком, что поэтому знания о нем со временем изменяются и иногда довольно радикально. Как показали Энгельс (см. «Анти-Дюринг», 1966, с. 81 — 92) и Ленин (см. «Материализми эмпириокритицизм», в кн.: Соч., т. 14, с. 181—299), здесь смешивается вопрос об объективности наших знаний с вопросом об их полноте, т. е. объективным считается лишь окончательное, абс. знание, но поскольку таковое невозможно, факт изменения знаний рассматривается как доказательство их неистинности. Как филос. концепция Р. стал особенно модным на рубеже 19 и 20 вв., когда физики и философы, придерживающиеся старых, наивно-материа-листич. представлений о веществе (к-рое отождествлялось с материей), о массе и т. д., столкнулись с новыми физич. теориями; их правильное филос. осмысление требовало иных, диалектико-материалистич. представлений, с т. зр. к-рых наши знания относительны не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле историч. условности приближения их к этой истине (см. В. И. Ленин, Соч., т. 14, с. 124). Неумение же или. нежелание стать на эту т. зр. приводило к утверждениям об абс. относительности знаний (Мах, Авенариус), о полной их условности (Пуанкаре, см. Конвенционализм).
Р. этический — результат распространения принципа Р. на область нравств. отношений — отрицает объективный характер моральных норм, их объективную значимость. Такого рода Р. является попыткой «оправдать» теоретически аморализм и беспринципность в самом широком смысле.
Р. может иметь место и в эстетике, где он связан с отрицанием общечеловеческого содержания в истинных произведениях иск-ва, отрицанием преемственности между различными направлениями иск-ва. В СССР такой Р. был характерен для Пролеткульта, Лефа и т. д.
В зарубежной историографии распространен Р. в понимании истории. Суть его состоит в отрицании возможности объективного познания и оценки тех или иных историч. событий, поскольку якобы все определяется господствующими в наст, время «политич. страстями» (как говорил Ницше, мы пользуемся историей лишь постольку, поскольку она нам служит).
В разных историч. условиях Р. как принцип имеет разное социальное звучание. Иногда он является выражением и следствием загнивания общества, попыткой оправдать утрату историч. перспективы в его развитии. В др. случаях Р. объективно способствует расшатыванию и разрушению отживших социальных порядков, догматич. мышления и косности.
Р. философский не следует смешивать с физич. Р., к-рый означает признание т. зр. относительности теории.
Лит.: Пуанкаре А., Наука и гипотеза, М., 1904, с. 60—61; его же, Последние мысли, П., 1923; Кузне-ц о в И. В., Принцип соответствия в совр. физике и его филос. значение, М.—Л., 1948; Франк Ф., Философия науки, пер. с англ., М., 1960; НарскийИ. С., Совр. позитивизм. Критич. очерк, М., 1961; Troeltsch E., Der Historismus und seme Oberwlndung, В., 1924; Spiegelberg H., Antirelativismus, Z.—Lpz., 1935. H . Французова. Москва.
РЁМКЕ (Rehmke), Иоханнес (1 февр. 1848—23 дек. 1930)—нем. философ, представитель имманентной философии. Проф. философии в Грейфсвальде(1885—1921). Ученик теолога А. Бидермана (1819—85) и Шуппе.
Защищал субъективно-идеалистич. т. зр. гносеоло-гич. монизма, согласно к-рой познаваемое находится в сфере сознания, т. е. имманентно ему. По мнению Р.,, до сих пор философия исходила из незаконного — дуалистического — противоположения субъекта объекту, души — внешнему миру, из мнимой дилеммы: или причина наших восприятий в нас, или она вне нас. На самом деле, по мысли Р., это рассуждение покоится на догматич. предпосылке о познающей душе как существующей отдельно от внешнего мира, что приводит к полной невозможности понять, «...каким образом душа, которой внешний мир противостоит, как что-то чуждое, может составить себе понятие о нем, если она как познающая... с самого начала ограничена сама собою» («О достоверности внешнего мира для нас», 1892, в сб.: «Новые идеи в философии», № 6, СПБ, 1913, с. 81). Для того чтобы согласовать между собой эти два предварительно разъединенных мира, философы, пишет Р., «...так долго исправляли обычное понятие о< внешнем мире, пока не отняли у него всего, что некогда облекало его остов, даже пространственность...» (там же, с. 80). Но если у внешнего мира отняли все его атрибуты, то душе, напротив, приписали свойства внешнего мира, ибо считать, что мир «в ней» или что она «внутри» мира, значит представлять ее пространственной, т. е. материальной. В действительности, утверждает Р., душа имматериальна. Она не «находится» в мире, а «обладает» им. Т. о., понятие нематериальности души Р. стремится использовать в качестве логич. аргумента для доказательства имманентности мира, однако из этого понимания души вовсе не следует представление о перасчлененности души и материи. Против субъективного идеализма Р. выдвигает довод непосредственной данности мира: «...внешний мир вообще, как непосредственно достоверное, имеет то-общее с душой, что его реальность также не может быть „доказана" и потому именно не может,что, будучи непосредственной достоверностью, стоит выше всякого доказательства, как и реальность мыслящей души» (там же, с. 88). Однако критика Р. субъективизма, утверждающая существование трансцендентного — объективной реальности, содержит отрицание его> собств. позиции. «Гармония» душп и внешнего мира, познающего и познаваемого достигается у Р. путем их отождествления, эклектич. объединения, к-рое освобождает от трудностей познания, но именно благодаря тому, что фактически упраздняет само познаваемое. При этом, правда, оказывается бессмысленным, а потому и неразрешимым вопрос об объективности знания, на к-рый Р. не может дать последовательный с т. зр. своей философии ответ. Столь же трудна для него и проблема «множественности сознаний», от решения к-рой, но его же собств. словам, зависит
496
РЕНАН —РЕНУВЬЕ
 признание нравств. жизни. Впадая в противоречие с самим собой, Р. защищал персоналистич. тезис об индивидуумах как вечных сущностях (см. «Душа человека», СПБ, 1906, с. 38—39). Филос. позиция Р. была подвергнута резкой критике в работе В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (см. Соч., т. 14, с. 168, 187, 199, 264, 333 и др.).
признание нравств. жизни. Впадая в противоречие с самим собой, Р. защищал персоналистич. тезис об индивидуумах как вечных сущностях (см. «Душа человека», СПБ, 1906, с. 38—39). Филос. позиция Р. была подвергнута резкой критике в работе В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (см. Соч., т. 14, с. 168, 187, 199, 264, 333 и др.).
Последователи Р. в 1918 создали об-во его имени и издавали журнал «Grundwissenschaft» (1919—37).
Соч.: Die "Welt als Wahrnehmung und Begriff, В., 1880; Logik Oder Philosophie als Wissenslehre, 2 Aufl., Lpz., 1923; Lehrbuch der allgemeinen Psychologie, 3 Aufl., Lpz., 1926; Philosophie als Grundwissenschaft, 2 Aufl., Lpz., 1929; Grun-driss der Geschichte der Philosophie, Bonn, 1960.
Лит .: Бакрадзе К. С, Очерки по истории новейшей
и совр. буржуазной философии, Тб., 1960, с. 136—42;
Hochfeld S., J. Rehmke, Munch.—Lpz., 1923; Wissen
und Denken. Festschrift zu J. Rehmkes 75. Geburtstag, Lpz.,
1923; Troberg G., Kritik der Grundwissenschaft J. Reh
mkes, В., 1941; Schneider F., Die geschichtliche Stel-
!ung der Philosophie J. Rehmkes, «Z. philos. Forschung», 1951,
Bd 5, H. 2, S. 253—72. P. Галъцева . Москва.
РЕНАН (Renan), Жозеф Эрнест (27 февр. 1823— 2 окт. 1892) — франц. философ, историк религии, семитолог, член Франц. академии (с 1879). Учился в духовных семинариях. Познакомившись в процессе богословских занятий с критикой Библии представителями тюбингенской школы, Р. в 1845 покинул семинарию и отказался от духовной карьеры. Задумав создать критич. историю раннего христианства, Р. осуществил свой замысел в «Истории происхождения христианства» («Histoire des origines du christianisme», v. 1—8, P., 1863—83, в рус. пер.— «Р1стория первых веков христианства», т. 1—7, СПБ, [б. г.]), принесшей ему огромную известность во всей Европе. «Очищая» Новый завет от всего сверхъестественного, Р. изобразил Иисуса Христа лишь исторически существовавшим проповедником, что вызвало резкие нападки со стороны клерик. кругов, увидевших в Р. «эхо старого Вольтера». Считая, что искусство историка состоит в том, чтобы из полудостоверных частностей начертать достоверное целое и что в работу надо включать не только то, что было, но и то, «что вероятно могло быть», Р. допускал в своих соч. крайний субъективизм в оценках и произвольные реконструкции, причудливо переплетенные с исторически достоверными свидетельствами. Все это, при сенти-мент. идеализации осн. персонажа (Иисуса Христа) придавало историч. работам Р. характер не столько науч. исследования, сколько художеств, повествования, что и побудило критиков оценить его соч. как «церковно-исторический роман» (см. Ф. Энгельс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 22, с. 469; см. также с. 473).
Филос. воззрения Р. эклектичны. Будучи позитивистом, он считал, что развитие природы и общества детерминировано и следует объективным законам, не содержащим в себе ничего сверхъестественного. Но наряду с этим он говорил о некоей идеальной цели мирового процесса. Делая своей исходной позицией принцип «благожелательного скептицизма», Р. утверждал возможность одновременного приятия мыслителем всех филос. систем. «Время абсолютных систем прошло... Прежде каждый имел систему; он ею жил; он умирал за нее. Теперь мы последовательно проходим через все системы, или, что значительно лучше, постигаем их все одновременно» («Dialogues et fragments philosophiques», P., 1876, p. VIII—IX). Признавая нравств. значение религии, Р. видел в ней целительную, утешающую иллюзию и рассматривал ее в целом как выражение нравств. и духовных особенностей народа.
С о ч.: Histoire generate et systeme compare des langues se-mitiques, P., 1855; Histoire du peuple d'Israel, t. 1—5, P., 1887—93; в рус. пер.—Собр. соч., т. 1—12, К., [1902]; История израильского народа, т. 1—2, СПБ, 1908—11.
Лит.: Дрондое Г., Франц. позитивизм второй поп.
XIX в. (Ипполит Тэн и Эрнест Жозеф Ренан), Л., 1962 (Авто-
реф. дисс). М. Кубланов. Ленинград.
РЁННЕР (Renner), Карл (14 дек. 1870—31 дек. 1950) — лидер и теоретик австр. с.-д-тии, представитель австромарксизма. В 1919—20 — канцлер Австрии, в 1934—45 проживал в качестве частного лица в г. Глогниц. В апр. 1945 избран канцлером, в 1945—50 — президент Австрии.
В кн. «Человек и общество» («Mensch und Gesell-schaft. Grundriss einer Soziologie», в кн.: «Nachgelas-sene Werke», Bd 1, W., 1952; не завершена, опубл. посмертно) Р. рассматривал отношения человека п природы, роль труда, сознания, проблемы социологии права и гос-ва и др. Для методологии Р. характерны эмпиризм, принижение значения философии, теории вообще. Критикуя диалектич. метод Маркса как «дедуктивный», он противопоставлял ему индукцию как метод совр. науки, исходящей из фактов опыта (см. «Теория капиталистического х-ва. Марксизм и проблема социализирования», М.—Л., 1926, с. XVIII). Р. утверждал, что «каждая страна имеет свой "собственный марксизм» («Die neue Welt und der Sozialismus», Salzburg, 1946, S. 12), объявлял идеалом «эмпирический социализм» (см. «Mensch und Gesell-schaft...», S. 372). Взгляды Р. по нац. вопросу (теория культурно-нац. автономии и др.) были подвергнуты критике Лениным (см. Соч., т. 19, т. 20). Переход от капитализма к социализму Р. понимал прежде всего как постепенную замену старой организации распределения новой (см. «Теория капиталистич. х-ва...», с. 321, 322, 326). Все это служило для обоснования Р. реформистской идеи мирного врастания капитализма в социализм, для отрицания марксистского учения о диктатуре пролетариата. Задачей социализма Р. считал создание экономич. и политич. «Интернационала» совр. гос-в, начало воплощения к-рого он видел в ООН. После 2-й мировой войны Р. выступал с пропагандой идей «демократич. социализма».
С о ч.: Marxismus, Krieg und Internationale, 2 Aufl., Stuttg., 1918; Wege der Verwirklichung. Betrachtungen uber po-litische Demokratie, Wirtschaftsdemokratie und Sozialismus..., В., 1929; An der Wende zweier Zeiten. Lebenserinnerungen..., 2 Aufl., W., 1946; Fur Recht und Frieden. Eine Auswahl der Reden..., [s. 1., 1950]; Das Weltbild der Moderne, W. — [u. a.], 1954; рус. пер.—Нац. проблема (Борьба национальностей в Австрии), СПБ, 1909 (изд. под псевд,— Р. Шпрингер).
Лит.: Турок В. М., От австромарксизма к еовр. ревизионизму, «Новая и новейшая история», 1958, № 4.
Я. Иориш. Москва.
РЕНУВЬЁ (Renouvier), Шарль (1 янв. 1815— 25 авг. 1903) — франц. бурж. философ, глава т. н. неокритицизма. В лице Р. филос. мысль обратилась к кантианской философии за 10 лет до появления лозунга «Назад к Канту!», возвестившего о рождении нем. неокантианства. В юности Р. испытал влияние сенсимонизма; в дальнейшем проделал эволюцию от эклектизма (усвоенного под влиянием Кузена) к Канту и неокритицизму, а позже — к персонализму.
Исходя из кантовского понимания философии как критики принципов познания, Р. ставит вопрос о необходимости предпосылок познания. Исходным пунктом философии должно быть самоочевидное. В качестве такового Р. выдвигает реальность состояний сознания и строит субъективно-идеалистич. теорию познания. Осн. тезис гносеологии Р.— нет объекта без субъекта и нет субъекта без объекта — в дальнейшем развивают представители имманентной философии и эмпириокритицизма. Т. о., Р. отказывается от «вещи в себе» и возвращается к феноменализму Юма. Однако от Канта Р. наследует принцип априори. Ленин характеризовал философию Р. как «...соединение феноменализма Юма с априоризмом Канта» (Соч., т. 14, с. 198). Под влиянием Канта же Р. строит таблицу категорий, в ранг к-рых с упразднением «вещи в себе» Р. производит пространство и время,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ —РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА 497
 выступавшие у Канта как формы чувственности. Главные среди категорий Р.— отношение и число. Категории призваны объединить и придать логич. связность миру, к-рый представляется Р. как мир множественных, конечных по числу элементов, не подчиненных необходимости. Т. о., от субстанции Р. отказывается только на словах. Противоречиво с т. зр. феноменализма и само стремление Р. построить образ мира как такового и постулировать тезисы реальности: 1) Тождество личного «Я». 2) Тождество внешнего мира. 3) Тождество других «Я». 4) Соответствие законов мира законам познания.
выступавшие у Канта как формы чувственности. Главные среди категорий Р.— отношение и число. Категории призваны объединить и придать логич. связность миру, к-рый представляется Р. как мир множественных, конечных по числу элементов, не подчиненных необходимости. Т. о., от субстанции Р. отказывается только на словах. Противоречиво с т. зр. феноменализма и само стремление Р. построить образ мира как такового и постулировать тезисы реальности: 1) Тождество личного «Я». 2) Тождество внешнего мира. 3) Тождество других «Я». 4) Соответствие законов мира законам познания.
С занятой Р. позиции имманентизма истина неотличима от заблуждения. Р. принимает психологич. и волюнтаристич. трактовку истины, впоследствии развитую прагматистом Джемсом.
Сложные филос. построения Р., к-рые зиждятся на понятиях финитизма, плюрализма, индетерминизма, могут быть усвоены в связи с гл. задачей Р.— «оправдание такого миропонимания, где бы было место для свободы и творчества множественности духовных существ» и где «... нравственная ответственность возможна, ибо в мире нет никакой dura necessitas (необходимости.— Ред.), мы не только составляем его, но в известной мере мы и д е л а е м его» (Лапшин И. И., «Неокритицизм Шарля Ренувье», см. в сб. «Новые идеи в философии»,№ 13, СПБ, 1914, с. 106,см. также с. 94). Эта персоналистич. интуиция руководила Р. при «решении» кантовских антиномий, в к-рых он принимает тезисы. Философия Р. представляет собой то ответвление послекантианской мысли, к-рое находит центр тяжести в практич. разуме, т. е. в нравственности. Причем, если для Канта нравств. закон — предмет веры, то в интерпретации Р.он может быть понят как факт, ибо свобода воли для него является фактом. Вместе с тем, если у Канта практич. разум может служить основанием для реконструкции теории познания, то у Р., объявившего об упразднении «вещи в себе», он конструктивно бессилен.
Р. не только создал школу (О. Гамелен, Пиллон, Рабье, Дориак, Брошар и др.), он оказал заметное влияние на ряд филос. иррационалистич. направлений: прагматизм, персонализм, интуитивизм и др. В частности, идея Бергсона о мире как сложной пульсации ведет свою родословную от философии Р. В целом, несмотря на стремление продолжить дело Канта и совершенствовать критицизм, Р. оказался автором метафизич. системы догматич. типа.
Соч.: Manuel de philosophie moderne, P., 1842; Manuel de philosophie ancienne, v. 1—2, P., 1844; Essais de critique generale, v. 1 — 4, P., 1854—64; Science de la morale, v. 1—2, P., 1869; Esquisse d'une classification systematique des doctrines philosophiques, v. 1—2, P.,1885—86; La nouvelle mona-dologie. P., 1899; Le personnalisme, P., 1903.
Лит .: Введенский А., Очерк совр. франц. философии, X., 1894; История философии, т. 3, М., 1959, с. 481 — 85; Janssens E., Le neo-criticisme de Ch. Renouvier, Lou-vain, 1904; S ё a i 1 1 e s G., La philosophie de Ch. Renouvier, P., 1905; В r i d e 1 P., Ch. Renouvier (1818—1903) et sa philosophie, Lausanne, 1905; P r a t L., Ch. Renouvier, philosophie, Poitiers—Ariege, 1937; "Verneaux R., L'idealisme de Renouvier, P., 1945; e г о ж e, Renouvier, disciple et critique de Kant, P., 1945; e г о ж e, Esquisse d'une theorie de la connais-sance. Critique du neo-criticisme, P., 1955; Laberthon-n i e r e (le pere), Critique des la'icisme, P., 1948; Hansen V., Ch. Renouvier, Kbh, 1962.
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ (от франц. representa-tif —представляющий собой что-либо) — свойство выборочной совокупности, к-рое позволяет с нек-рой ошибкой — наперед заданной или вычисленной на материалах фактич. выборки — отождествлять распределение изучаемого признака в выборке с распределением этого признака в генеральной совокупности. Р. есть представительность выборки по отношению к генеральной совокупности по нек-рым заданным конкретным признакам. Р. зависит от субъективных и от объективных факторов. Так, соответствие метода отбора целям
исследования, строгость соблюдения процедуры отбора, правильность метода сбора информации, влияющие на Р., не достигаются никакими формальными средствами и полностью зависят от добросовестности и подготовленности исследователей. Особенно велика опасность субъективных ошибок при социологич. исследованиях, в к-рых выборочные данные получаются путем опроса. Объективные ошибки связаны с выборочным характером исследования (ошибки выборки). Эти ошибки поддаются формальному расчету и зависят от колеблемости изучаемого признака, объема выборки, способа отбора, характера генеральной совокупности. Методы вычисления ошибок развиты соответствующими разделами математич. статистики.
Ошибки выборки либо могут задаваться до проведения обследования с целью определения объема выборки, гарантирующего ошибки, не превосходящие заданных, либо могут рассчитываться по результатам обследования для определения обоснованности их распространения на генеральную совокупность.
Лит.: Романовский В. И., Элементарный курс математич. статистики, 2 изд., М.—Л., 1939; Крамер Г., Математич. методы статистики, пер. с англ., М.,1948; М и л л с Ф., Статистич. методы, пер. с англ., М., 1958; В а и - д е р-ВарденБ.Л., Математич. статистика, пер. с нем., М.( 1960; К) л Д ж. Э., К е н д э л М. Д ж., Теория статистики, пер. с англ., 14 изд., М., 1960. Ф. Бородпин. Новосибирск.
РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА (от англ. to refer — относить) — понятие в социологии, социальной психологии и психологии, обозначающее социальную (экономич., политич., проф., культурную и др.)груп-пу, к к-рой индивид себя сознательно относит. Р. г. ость явление обыденного сознания членов общества. Понятие Р. г. было введено в амер. социальной психологии в 30-х гг. 20 в. в связи с установлением факта, что индивиды, принадлежащие к определ. социальной группе, строят свое поведение (в труде, быту) в соответствии с нормами, ценностями, принятыми в другой социальной группе, к к-рой они себя относят. Поэтому первоначально термин Р. г. использовался для обозначения таких представлений индивида о своей социальнойпринадлежности, к-рые не совпадают с его действит. социальным положением. Он помогал, по утверждению Г. Хаймена, разъяснить тот «парадокс, почему некоторые индивиды не ассимилируют позиции групп, в которые они непосредственно включены» («Reflections on reference group», в журн.: «The Public Opinion Quartery», 1960, v. 25, p. 385). В дальнейшем было установлено, что деятельность и поведение индивида определяются не только его принадлежностью к группе, но и его представлениями о своей социальной принадлежности. Теория Р. г. изучает условия и факторы их образования, типы Р. г. Различают «реальные» и «вымышленные» Р. г. (в первом случае индивид, напр., относит себя к «инженерам», во втором — к «духовной элите», к-poii как группы реально не существует). Р. г. может совпадать с действит. группой индивида (инженер относит себя к технич. интеллигенции) или не совпадать (капиталист относит себя к рабочим).
Для бурж. социологов характерна фетишизация субъективного отнесения индивидами себя в ту или иную группу .Вместе с тем понятие Р.г. может служить инструментом для изучения механизма взаимодействия объективного социального положения и субъективно ощущаемого (Р. г.) как факторов формирования поведения личности. Теория Р. г. находит применение в анализе различных явлений общества. Социологи-функционалисты (в частности, Мертон) используют ее для объяснения отклоняющегося поведения (deviant behavior). Она используется также при создании систем социальной стратификации общества. Понятие Р. г. имеет большое значение для понимания явлений антиобществ, преступного поведения. Оно
498
РЕФЛЕКС
 применяется в психологии (для объяснения внутр. конфликтов личности), в психиатрии (прежде всего в форме концепции «конфликта социальных ролей»). Понятие Р. г. имеет большое значение в практике вос-питат. работы (в школе, прежде всего): учет того, к какой группе относит себя ученик (к способным, неспособным, активу и т. д.). Учет обыденных представлений индивидов имеет важное значение для эффективности пропаганды. В сов. социологии термин «Р. г.» иногда переводится как «эталонная группа».
применяется в психологии (для объяснения внутр. конфликтов личности), в психиатрии (прежде всего в форме концепции «конфликта социальных ролей»). Понятие Р. г. имеет большое значение в практике вос-питат. работы (в школе, прежде всего): учет того, к какой группе относит себя ученик (к способным, неспособным, активу и т. д.). Учет обыденных представлений индивидов имеет важное значение для эффективности пропаганды. В сов. социологии термин «Р. г.» иногда переводится как «эталонная группа».
Г. Андреева, Н. Новиков. Москва.
РЕФЛЕКС (от лат. reflexus — обращение назад; в переносном значении — отражение) — общий принцип регуляции поведения живых систем; двигат. (или секреторный) акт, имеющий приспособит, значение, детерминированный воздействием сигналов на рецепторы и опосредствованный нервными центрами.
Понятие Р. было введено Декартом и служило задаче детерминистически объяснить, в рамках ме-ханистич. картины мира, поведение организмов на основе общих законов физич. взаимодействия макротел. Декарт отклонил душу как объяснит, принцип двигат. активности животного и описал эту активность как результат строго закономерного ответа «машины-тела» на внешние воздействия. Основываясь на механистически понимаемом принципе Р., Декарт пытался объяснить и нек-рые психич. функции, в частности обучаемость и эмоции.
Вся последующая нервно-мышечная физиология находилась под определяющим воздействием учения о Р. Нек-рые последователи этого учения (Дилли, Сваммердам) еще в 17 в. высказывали догадку о рефлекторном характере всего поведения человека. Эту линию завершил в 18 в. Ламетри. Гл. противником детерминистич. взгляда на Р. выступил витализм (Шталь и др.), утверждавший, что ни одна органич. функция не осуществляется автоматически, но все управляется и контролируется чувствующей душой.
В 18 в. Витт открыл, что отд. сегмент спинного мозга достаточен для осуществления непроизвольной мышечной реакции, но ее детерминантой он считал особый «чувствительный принцип». Проблеме зависимости движения от ощущения, использованной Вит-том для доказательства первичности чувствования по отношению к работе мышцы, материалистич. истолкование дал Гартли, указавший, что ощущение действительно предшествует движению, но само оно обусловлено изменением состояния движущейся материи.
Открытие специфич. признаков нервно-мышечной активности побудило натуралистов ввести понятие о «силах», присущих организму и отличающих его от др. природных тел («мышечная и нервная сила» Гал-лера, «нервная сила» Унцера и Прохаски), причем трактовка силы являлась материалистической. Существ, вклад в дальнейшее развитие учения о Р. внес Прохаска, предложивший биологич. объяснение Р. как целесообразного акта, регулируемого чувством самосохранения, под влиянием к-рого организм оценивает внешние раздражения.
Развитие анатомии нервной системы привело к открытию механизма простейшей рефлекторной дуги (закон Белла — Мажанди). Возникает схема локализации рефлекторных путей, на основе к-рой в 30-х гг. 19 в. созревает классич. учение о Р. как принципе работы спинномозговых центров, в отличие от высших отделов головного мозга. Его обосновали Маршалл Холл и И. Мюллер. Это чисто физиологич. учение исчерпывающе объясняло определ. категорию нервных актов воздействием внешнего раздражителя на специфич. анатомич. структуру. Но представление о Р. как механич. «слепом» движении, предопределенном анатомич. строением организма и не зависящем от того, что происходит во внешней среде, вынуждало
прибегнуть к представлению о силе, выбирающей из набора рефлекторных дуг нужные в данных обстоятельствах и синтезирующей их в целостный акт соответственно объекту или ситуации действия. Эта концепция была подвергнута резкой эксперимент.-теоретич. критике с материалистич. позиций Пфлюгером (1853), доказавшим, что низшие позвоночные, лишенные головного мозга, не являются чисто рефлекторными автоматами, а с изменением условий варьируют свое поведение, что наряду с рефлекторной функцией имеется сенсорная. Слабой стороной позиции Пфлюгера было противопоставление Р. сенсорной функции, превращение последней в конечное объяснит, понятие.
На новый путь теорию Р. вывел Сеченов. Прежнюю сугубо морфологич. схему Р. он преобразовал в ней-родинамическую, выдвинув на передний план соединение центр, процессов в естеств. группы. Регулятором движения было признано чувствование различной степени организации и интеграции — от простейшего ощущения до расчлененного чувственного, а затем и умств. образа, воспроизводящего предметные характеристики среды. Соответственно афферентная фаза взаимодействия организма со средой мыслилась не как механич. контакт, а как приобретение информации, детерминирующей последующий ход процесса. Функция центров трактовалась в широком плане биологич. адаптации. Двигат. активность выступила как фактор, оказывающий обратное влияние на построение поведения—внешнего и внутреннего (принцип обратной связи).
В дальнейшем крупный вклад в развитие физиологич. представлений о механизме Р. внес Шеррингтон, изучивший интегративное и адаптивное своеобразие нервных актов. Однако в понимании психич. функций мозга он придерживался дуалистич. взглядов. И. П. Павлов, продолжая линию Сеченова, экспериментально установил различие между безусловным и условным Р. и открыл законы и механизмы рефлекторной работы головного мозга, образующей физиологич. базис психич. деятельности. Последующее изучение сложных приспособит, актов дополнило общую схему Р. рядом новых представлений о механизме саморегуляции (Н. А. Бернштейн, П. К. Анохин и др.).
Лит.: Сеченов И. М., Физиология нервной системы,
СПБ, 1866; Бессмертный Б. С, Сто лет доктрины Белл-
Мажанди, в кн.: Архив биол. наук, т. 49, вып. 1, М., 1938;
К о н р а д и Г. П., К истории развития учения о Р., там же,
т. 59, вып. 3, М., 1940; А н о х и н П. К., От Декарта до Пав
лова, М., 1945; Павлов И. П., Избр. труды, М., 1951;
ЯрошевскийМ. Г., История психологии, М., 1966;
Грей Уолтер У., Живой мозг, пер. с англ., М., 1966;
Eckhard С, Geschichte der Entwicklung der Lehre von
den Reflexerscheinungen, «Beitrage zur Anatomie und Physio-
logie», 1881, Bd 9; Fulton J. P., Muscular contraction and
the reflex control ot movement, L., 1926; Fearing F., Reflex
action. A study in the history of physiological psychology, L.,
1930; Bast holm E., The history of muscle physiology,
Copenhagen, 1950. M . Ярошевский. Ленинград.
Современное состояние учения о Р. Успехи физиологии нервной системы и тесный контакт общей нейрофизиологии и физиологии высшей нервной деятельности с биофизикой и кибернетикой чрезвычайно расширили и углубили представление о Р. на физико-химическом, нейронном и системном уровнях.
Ф и з и к о-х и м и ч. уровень. Электронный микроскоп показал тонкий механизм химич. передачи возбуждения от нейрона к нейрону путем опорожнения пузырьков медиатора в синаптич. щели (Э. де Робертис, 1959). Вместе с тем природа волны возбуждения в нерве определяется, как и 100 лет тому назад Л. Германом (1868), в виде физич. тока действия, кратковрем. электрич. импульса (Б. Катц, 1961). Но наряду с электрическими учитываются метаболич. компоненты возбуждения, напр. «натриевый насос», генерирующий электрич. ток (А. Ходж-кин и А. Хаксли, 1952).
РЕФЛЕКС — РЕФЛЕКСИЯ
499
 Нейронный уровень. Еще Ч. Шерринг-топ (1947) связывал нек-рые св-ва простых спинномозговых Р., напр. реципрокность возбуждения и торможения, с гипотетич. схемами соединения нейронов. И. С. Бериташвили (1956) на основании цитоар-хитектонич. данных высказал ряд предположений о различных формах организации нейронов коры мозга, в частности о воспроизведении образов внешнего мира системой звездчатых клеток зрит, анализатора низших животных. Общую теорию нейронной организации рефлекторных центров предложили У. Мак-Каллок и В. Пите (1943), использовавшие аппарат математич. логики для моделирования функций нервных цепей в жестко-детерминиров. сетях формальных нейронов. Однако мн. св-ва высшей нервной деятельности не укладываются в теорию фиксированных нервных сетей. Исходя из результатов элек-трофизиологич. и морфологич. изучения взаимосвязи нейронов в высших отделах мозга, развивается гипотеза вероятностно-статистической их организации. По этой гипотезе закономерность протекания рефлекторной реакции обеспечивается не однозначностью пути сигналов по фиксированным межнейронньтм связям, а вероятностным распределением их потоков по множеств, путям и статистич. способом достижения конечного результата. Случайность во взаимодействии нейронов предполагали Д. Хебб (1949), А. Фессар (1962) и др. исследователи, а У. Грей Уолтер (1962) показал статистич. характер условных Р. Часто нервные сети с фиксированными связями называют детерминистскими, противопоставляя их сетям со случайными связями как индетерминистским. Однако сто-хастичность не означает индетерминизма, а, наоборот, обеспечивает высшую, наиболее гибкую форму детерминизма, по-видимому, лежащую в основе св-ва исключит, пластичности Р.
Нейронный уровень. Еще Ч. Шерринг-топ (1947) связывал нек-рые св-ва простых спинномозговых Р., напр. реципрокность возбуждения и торможения, с гипотетич. схемами соединения нейронов. И. С. Бериташвили (1956) на основании цитоар-хитектонич. данных высказал ряд предположений о различных формах организации нейронов коры мозга, в частности о воспроизведении образов внешнего мира системой звездчатых клеток зрит, анализатора низших животных. Общую теорию нейронной организации рефлекторных центров предложили У. Мак-Каллок и В. Пите (1943), использовавшие аппарат математич. логики для моделирования функций нервных цепей в жестко-детерминиров. сетях формальных нейронов. Однако мн. св-ва высшей нервной деятельности не укладываются в теорию фиксированных нервных сетей. Исходя из результатов элек-трофизиологич. и морфологич. изучения взаимосвязи нейронов в высших отделах мозга, развивается гипотеза вероятностно-статистической их организации. По этой гипотезе закономерность протекания рефлекторной реакции обеспечивается не однозначностью пути сигналов по фиксированным межнейронньтм связям, а вероятностным распределением их потоков по множеств, путям и статистич. способом достижения конечного результата. Случайность во взаимодействии нейронов предполагали Д. Хебб (1949), А. Фессар (1962) и др. исследователи, а У. Грей Уолтер (1962) показал статистич. характер условных Р. Часто нервные сети с фиксированными связями называют детерминистскими, противопоставляя их сетям со случайными связями как индетерминистским. Однако сто-хастичность не означает индетерминизма, а, наоборот, обеспечивает высшую, наиболее гибкую форму детерминизма, по-видимому, лежащую в основе св-ва исключит, пластичности Р.
Системный уровень. Система даже простого безусловного Р., напр. зрачкового, состоит из ряда саморегулирующихся подсистем с линейными и нелинейными операторами (М. Клайнс, 1963). Оценка соответствия действующих раздражителей и «нервной модели стимула» (Е. Н. Соколов, 1959) оказалась важным фактором биологически целесообразной организации Р. С учетом механизмов саморегуляции путем обратных связей, о наличии к-рых писал еще Сеченов (1863), структуру Р. в совр. кибернетич. аспекте стали представлять не в виде открытой рефлекторной дуги, а по типу замкнутого рефлекторного кольца (Н. А. Бернштейн, 1963). В последнее время развернулись дискуссии о содержании понятий сигнальное™, подкрепления и временных связей условного Р. Так, П. К. Анохин (1963) рассматривает сигналь-ность как проявление работы механизма «прогнозирования» событий внешнего мира, а подкрепление — как формирование циклич. структур контроля результатов действия. Э. А. Асратян (1963) подчеркивает качеств, отличия связей условного Р. от кратко-врем. реакций типа проторения и доминанты.
Лит.: Бериташвили И. С, Морфологич. и физио-логич. основания временных связей в коре больших полушарий, «Тр. Ин-та физиологии им. И. С. Бериташвили», 1956, т. 10; Мак-КаллокУ. С. иПиттс В., Логич. исчисление идей, относящихся к нервной активности, [пер. с англ.], веб.: Автоматы, М., 1956; Соколове. Н., Нервная модель стимула, «Докл. АПН РСФСР», 1959, N» 4; К а т ц В., Природа нервного импульса, в сб.: Совр. проблемы биофизики, т. 2, М., 1961; Хартлайн X., Рецепторные механизмы и интеграция сенсорной информации в сетчатке глаза, там же; Уолтер Г. У., Статистич. подход к теории условных Р., в кн.: Электроэнцефалографич. исследование высшей нервной деятельности, М., 1962; Фессар А., Анализ замыкания временных связей на уровне нейронов, там же; Смирнов Г.Д., Нейроны и функцион. организация нервного центра, в сб.: Гагрские беседы, т. 4, Тб., 1963;Филос. вопр. физиологии высшей нервной деятельности и психологии, М-, 1963 (см. ст. П. К. Анохина, Э. А. Асратяна и Н. А. Бернштейна); Коган А. Б., Вероятностно-статистич. принцип нейронной организации функциональных систем мозга, «ДАН СССР»,
1964, т. 154, № 5; Sherrington Ch. S., The Integra
tive action ot the nervous system, [Camb.], 1947; H о d g k i n
A. L.,HuxleyA. P.,A quantitative description of membrane
current and its application to conduction and excitation in
nerve, «J. physiol.», 1952, v. 117, № 4; H e b b D. O., The
organisation of behavior, N. Y.— L., [1955]; R о b e r t i s Ed.
de, Submicroscopic morphology of the synapse, «Intern. Rev.
Cytol.», 1959, v. 8, p. 61—96. А. Коган. Ростов н/Д.
РЕФЛЕКСИВНОСТЬ (в математике ил о-
г и к е) — свойство бинарных (двуместных, двучлен
ных) отношений. Отношение R , определенное на
нек-ром множестве (классе), наз. рефлекс и в-
н ы м, если для любого элемента х этого множества
имеет место xRx ( т. е. х находится в отношении R
к самому себе). Примером рефлексивного отношения
служит любое отношение типа равенства (тождества,
эквивалентности). Р. равенства (х = х) обычно даже
фиксируется в качестве одной из аксиом при аксиома-
тич. определении равенства. Др. примеры — отно
шения: sg; (меньше или равно) между числами, s
(«включается») между множествами и вообще любые
порядка отношения (в широком смысле). Отношение
Л, такое, что для любого х неверно, что xRx , наз.
иррефлексивным. Таковы, напр., отноше
ния неравенства Ф или отношение < (строго
меньше) между числами. Иррефлексивное отношение
не является, разумеется, рефлексивным, но не реф
лексивное отношение может и не быть иррефлексив
ным. Примером отношения, не являющегося пи реф
лексивным, ни иррефлексивным, служит отношение
•v>, определяемое как делимость на 3 суммы двух
натуральных чисел: i (2 <> 2) (ч — знак отрицания),
НО 3 <^> 3. Ю. Гастее. Москва.
РЕФЛЕКСИЯ — форма теоретической деятельности общественно-развитого человека, направленная на осмысление своих собств. действий и их законов; деятельность самопознания, раскрывающая специфику духовного мира человека. Содержание Р. определено предметно-чувств. деятельностью: Р. в конечном счете есть осознание практики, предметного мира культуры. В этом смысле Р. есть способ определения и метод философии, а диалектика — Р. разума. Р. мышления о законах формирования социально-историч. действительности, о предельных основаниях знания и поведения человека составляет собственно предмет философии. Изменение предмета философии выражалось и в изменении трактовки Р.
Проблема Р. впервые возникла у Сократа, согласно к-рому предметом знания может быть лишь то, что уже освоено, а т. к. наиболее подвластна человеку деятельность его собств. души, самопознание есть наиболее важная задача человека. Платон раскрывает важность самопознания в связи с такой добродетелью, как благоразумие, к-рое и есть знание самого себя (см. Хармид, 164 Д, 165С, 171 Е); существует какое-то единое познание, к-рое не имеет никакого другого предмета, кроме себя самого и прочих познаний (см. там же, 167 С). Теоретич. умозрение, филос. Р. оценивается как высшая добродетель. У Аристотеля Р. рассматривается как атрибут божеств, разума, к-рый в своей чистой теоретич. деятельности полагает себя в качестве предмета и тем самым обнаруживает единство предмета знания и знания, мыслимого и мысли, их тождество (см. Met. XII, 7 1072 в 20; рус. пер., М.— Л., 1934). В философии Плотина самопознание было методом построения метафизики; различив в душе ощущение и рассудок, он полагал самопознание атрибутом только последнего: только ум может мыслить тождество самого себя и мыслимого, ибо здесь едины мысль и мысль о мысли, т. к. мыслимое есть живая и мыслящая активность, т. е. сама активная мысль (см. П. П. Блонский, Философия Плотина, М., 1918, с. 189). Самопознание есть единств, функция ума, Р. противоположна практике
500
РЕФЛЕКСИЯ
 (см. там же, с. 190): «... Нужно перенести объект внутрь субъекта и созерцать его как нечто единое, процесс созерцания должен быть аналогичным процессу самосозерцания» (Эннеады, V, кн. 8; цит. по кн.: Браш М., Классики философии, т. 1, СПБ, 1913, с. 479). Лишь погрузившись в недра собств. духа, человек может слиться воедино и с объектом созерцания, и с «приблизившимся в тиши божеством» (там же, с. 480).
(см. там же, с. 190): «... Нужно перенести объект внутрь субъекта и созерцать его как нечто единое, процесс созерцания должен быть аналогичным процессу самосозерцания» (Эннеады, V, кн. 8; цит. по кн.: Браш М., Классики философии, т. 1, СПБ, 1913, с. 479). Лишь погрузившись в недра собств. духа, человек может слиться воедино и с объектом созерцания, и с «приблизившимся в тиши божеством» (там же, с. 480).
В ср.-век. философии Р. рассматривалась как способ существования божеств, разума, как форма его реализации: дух познает истину постольку, поскольку возвращается к самому себе. Напр., Августин полагал, что наиболее достоверное знание — это знание человека о собств. бытии и сознании. Углубляясь в свое сознание, человек достигает истины, заключенной в душе, а тем самым приходит к богу. Согласно Иоанну Скоту Эриугене, созерцание своей сущности богом и есть акт творения.
Мыслители Возрождения, выдвигая идею человека как микрокосма, в к-ром в концентрированной форме выражаются все силы макрокосма, исходили из того, что познание природных сил есть вместе с тем и самопознание человека, и наоборот.
Изменения в трактовке Р. в новое время связаны с выдвижением на первый план проблем обоснования знания. В «Метафизич. размышлениях» Декарта рассуждение основывалось на методич. сомнении: достоверным и не поддающимся сомнению является лишь одно — мое собств. сомнение и мышление, а тем самым — и мое существование (см. Избр. произв., М., 1950, с. 342). Добытое с помощью Р. сознание о самом себе — единств, достоверное положение — является основанием для последующих заключений о существовании бога, физич. тел и т. д.
Локк, отвергая концепцию врожденных идей Декарта, проводит мысль об опытном происхождении знания и в этой связи различает два вида опыта — чувств, опыт и Р. (внутр. опыт). Последняя есть «...наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность и способы ее проявления, вследствие чего в разуме возникают идеи этой деятельности» (Избр. филос. произв., т. 1, М., 1960, с. 129). Обладая самостоятельностью по отношению к внешнему опыту, Р. тем не менее основывается на нем.
Лейбниц, критикуя различение Локка, показывает, что «... для нас невозможно рефлектировать постоянно и явным образом над всеми нашими мыслями, в противном случае наш разум рефлектировал бы над каждой рефлексией до бесконечности, не будучи в состоянии перейти к какой-нибудь новой мысли» («Новые опыты о человеч. разуме», М., 1936, с. 107). В собств. концепции Лейбница Р. получает полную самостоятельность, выступая как способность монад к апперцепции, т. е. к осознанию представлением своего собств. содержания; за этим фактически стоит иное истолкование рефлектирующей активности человеч. разума.
Кант рассматривает Р. в связи с исследованием оснований познават. способности, априорных условий знания и толкует ее как неотъемлемое свойство «рефлектирующей способности суждения». Если определяющая способность суждения выступает, когда под общее подводится частное, то рефлектирующая способность нужна в том случае, если дано только частное, а общее еще надо найти (см. «Критика способности суждения», в кн.: Соч., т. 5,М., 1966, с. 117). Именно благодаря Р. производится образование понятий. Р. «...не имеет дела с самими предметами, чтобы получать понятия прямо от них», она есть «... осознание отношения данных представлений к различным нашим источникам познания, и только благодаря ей отношение их друг к другу может быть правильно определено» («Кри-
тика чистого разума», см. там же, т. 3, М., 1964, с. 314). Кант различал логич. Р., при к-рой представления просто сравниваются друг с другом, и трансцендентальную Р., при к-рой сравниваемые представления связываются с той или иной познават. способностью — с чувственностью или рассудком. Именно трансцендентальная Р. «... содержит основание возможности объективного сравнения представлений друг с другом» (там же, с. 316). Отношения между представлениями или понятиями фиксируются в «рефлективных понятиях» (тождество и различие, совместимость и противоречие, внутреннее и внешнее, определяемое и определение), в к-рых каждый из членов пары рефлектирует другой член и вместе с тем рефлектиро-ван им. Рассудочное знание, основывающееся на рефлективных понятиях, приводит к амфиболиям — двусмысленностям в применении понятий к объектам, если не произвести его методологич. анализа, не выявить его формы и границы. Такой анализ и совершается в трансцендентальной Р., связывающей понятия с априорными формами чувственности и рассудка и конструирующей объект науки.
У Фихте Р. совпадает с философией, трактуемой как наукоучение, т. е. как Р. науч. знания о самом себе. Шеллинг противопоставляет созидание и Р. (размышление). Он делает акцент на непосредств. постижении сущности, интеллектуальной интуиции. Из различных типов Р. Шеллинг выводил различные категории.
В философии Гегеля Р. фактически представляет собой движущую силу развития духа. Рассматривая рассудочную Р. как необходимый момент познават. процесса и критикуя в этой связи романтиков, Гегель вместе с тем выявляет ее ограниченность: фиксируя абстрактные определения, Р. рассудка не в состоянии выявить их единство, однако претендует на окончательное, абс. знание. В «Феноменологии духа» Р. духа о самом себе выступает как форма саморазвертывания духа, как основание, позволяющее переходить от одной формы духа к другой. Гегель прослеживает здесь специфику движения Р. на каждой из трех ступеней развития духа. Логич. формы Р. соответствуют история, формам самосознания, развитие к-рых завершается в «несчастном сознании», раздвоенном внутри себя и потому фиксирующем абстрактные моменты действительности в их обособленности друг от друга (см. Соч., т. 4, М., 1959, с. 112, 118—19). Будучи объективным идеалистом, Гегель полагает, что в предмете воплощается дух, к-рый обнаруживает в нем самого себя (по выражению Гегеля, сам предмет рефлектирует в самого себя, см. там же, с. 13). Эта идея, материалистически переосмысленная, была использована Марксом для выражения того факта, что стороны или моменты материального предмета, ставшего товаром, взаимно отражаются друг в друге и в самих себе (см. «Капитал», в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 121; «Das Kapital», В., 1961, S. 116). Существо Р. в логически обобщенной форме рассматривается Гегелем в «Науке логики» в связи с анализом сущности и видимости; в отличие от категорий бытия, для к-рых характерен переход от одного к другому, и от категорий понятия, где речь идет об их развитии, в учении о сущности фиксируется взаимоотношение парных категорий, каждая из к-рых рефлектируется — отражается, светится в другой (см. Соч., т. 1, М.—Л., 1929, с. 195). Гегель выделяет три типа Р.: полагающую, к-рая соответствует описат. наукам, внешнюю, или сравнивающую, к-рая отражает господство в науке метода сравнения, и определяющую, к-рая фиксирует моменты сущности в их самостоятельности и обособленности друг от друга. В целом гегелевское учение о Р. раскрывает категориальную структуру той пауки, к-рая фиксирует тождество, различие и противоположность, но не
РЕФЛЕКСИЯ
501
 постигает противоречия, науки, к-рая противопоставляет субъекту вещь как свой предмет и не вскрывает их единства, данного в практике.
постигает противоречия, науки, к-рая противопоставляет субъекту вещь как свой предмет и не вскрывает их единства, данного в практике.
В марксизме разработка проблемы Р. осуществлялась двумя взаимосвязанными путями: по линии критики метафизич. понимания Р. и по линии анализа филос. знания как Р. о культуре человечества, о его социальной истории. Отринат. отношение к Р. как к специфически рассудочному способу выявления особенностей не предмета, а обыденного сознания, сопровождалось исследованием обусловленности Р. практикой, всей деятельностью человека. Ужо в «Святом семействе» основоположники марксизма показали, что идеализм сводит реального, действит. человека к самосознанию, а его практич. деяния — к мыслит, критике своего собств. сознания (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 2, с. 43, 58). В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс раскрывают классовый смысл призывов к интенсификации Р., характерных для бурж. философии 19 в.: он заключается в том, чтобы интериоризировать институциональный контроль, сделать его делом совести каждого человека, чтобы деспотизм гос-ва был дополнен цензурой совести; тем самым в человеке убивается активно-творч. отношение к действительности, разжигается ипохондрич. самоконтроль и бездеятельное самокопание в глубинах своей души. Критикуя рассудочную Р., противопоставляющую себя практике, Маркс и Энгельс показывают, что в действительности рефлектирующие индивиды никогда не возвышаются над Р. (см. там же, т. 3, с. 248). Принципиальная ограниченность рассудочной Р., ее неспособность проникнуть в существо исследуемого предмета убедительно раскрыта Марксом в связи с критикой вульгарной политэкономии, к-рая закоснела в рефлективных определениях и потому была неспособна схватить бурж. произ-во как целое. Критика Марксом и Энгельсом рассудочного понимания Р. была по сути дела критикой принципов, на к-рых зиждилась наука, использующая метафизич. метод. Эта критика сливалась с методологич. исследованием категориальной структуры метафизич., рассудочного мышления, с теоретич. осмыслением объективно-практич. базиса этой превращенной формы мышления.
Пороки метафизически-рассудочной рефлексии Маркс и Энгельс связывают со спецификой развития человека в условиях разделения труда и отчуждения, когда человек превращается в частичного человека, а одностороннее развитие его способностей приводит к тому, что частичная социальная функция становится его жизненным призванием. Именно в таких условиях Р. мышления о самом себе становится призванием философа и противопоставляется практике. Эта ограниченность преодолевается развитием универ-сально-практич. отношения к миру, в результате чего разум предстает как Р. практики в ее универсальности и целостности. Можно выделить различные уровни филос. Р.: 1) Р. о содержании знания, данного в различных формах культуры (языке, науке и др.), и 2) Р. о процессе мышления — анализ способов формирования этич. норм, логич. оснований и методов образования категориального аппарата науки. По своему существу Р. критична, ибо она, формируя новые ценности, «разламывает» сложившиеся нормы поведения и знания.
Позитивный смысл Р. заключается в том, что с ее помощью достигается освоение мира культуры, продуктивных способностей человека. Мышление может сделать себя предметом теоретич. анализа только в том случае, если оно опредмечено в реальных, предметных формах, т. е. вынесено вовне и может относиться к самому себе опосредованно. Отвергая сведение Р. к уяснению предрассудков обыденного созна-
ния, диалектич. материализм видит в философии самопознание всемирно-историч. практики человечества, в к-рой просвечиваются универс. характеристики природного мира. Марксистская философия является диалектич. Р. о мышлении, предметно воплощающемся не только в языке, но и в продуктах труда, в достижениях науки, во всей культуре человечества.
Р. становится центр, понятием в бурж. философии 19—20 вв., выражая своеобразие предмета философии в системе наук и специфику филос. метода. Поскольку философия всегда истолковывалась как Р. о знании, как мышление о мышлении, акцент на проблеме Р. у совр. философов выражает стремление отстоять обособленность философии от предметно-чувств. деятельности, ограничить ее предмет самосознанием знания. Эта линия в чистом виде проводится в неокантианстве (Коген, Наторп, Нельсон и др.). Вместе с тем Нельсон специально выделяет психологич. Р. как средство осознания непосредственного знания (разновидность этой Р.— самонаблюдение — явилась гл. методом интроспективной психологии).
Гуссерль специально выделяет Р. среди всеобщих сущностных особенностей чистой сферы переживания (см. «Ideen zu einer reinen Phanomenologie und pha-nomenologischen Philosophie», Bd 1, Haag, 1950, S. 177). Он придает Р. универсальную методологич. функцию. Сама возможность феноменологии обосновывается с помощью Р.: реализация феноменологии опирается на «продуктивную способность» Р. (см. там же). Р. есть для Гуссерля «название для актов, в которых поток переживания со всеми его разнообразными событиями ... становится ясно постигаемым и анализируемым» (там же, S. 181). Иными словами, Р. есть название метода для познания сознания. Феноменология призвана расчленить различные виды Р. и анализировать их в различном порядке. Сообразно с общим расчленением феноменологии Гуссерль выделяет три формы Р., считая их атрибутом лишь трансцендентального, а не эмпирич. субъекта. Первая форма — осознание индивидом содержания восприятий, образных представлений, постижение самого акта восприятия; возвышаясь к чистому сознанию, трансцендентальному опыту, индивидуальный поток переживаний переходит ко второй форме рефлексии — Р. о Р.; высшей формой Р. является трансцендентально-эйдетическая, к-рая обосновывает феноменологию в ее чистоте, позволяет открыть сущность вещи.
Обращение человека к своей собств. экзистенции является одним из гл. лозунгов экзистенциализма. Экзистенция человека может быть выявлена только тогда, когда он остается один на один с безмолвным голосом своей совести, в страхе перед ничто. Требуя интенсифицировать Р., экзистенциализм обращает осн. внимание на инквизицию совести, не оставляя в душе ни одного уголка, не растравленного Р. Т. о., здесь речь идет не о гносеологич. Р., как в неокантианстве и феноменологии, а об этич. Р., к-рая должна будить в человеке чувство вины, определять его нравств. позицию в мире (см., напр., G. Marcel, Homo Viator, P., 1944, p. 224, а также Heidegger M., Sein und Zeit, Halle, 1927, S. 273). Такая трактовка Р. крайне близка проповедуемой христианством идее греховности человека и постоянного напоминания об этом.
Неотомизм в понимании Р. возвращается к докан-товской философии. Обосновывая возможность метафизики, неотомисты и католич. философы различают психологич. и трансцендентальную Р. Первая (область стремлений и чувств) определяет возможность антропологии и психологии. Вторая, в свою очередь, подразделяется на логическую (абстрактно-дискурсивное познание) и онтологическую (направленность на бытие), с помощью к-рой обос-
502
РЕФЛЕКСОЛОГИЯ — РЕФОРМА
 новывается возможность собственно философии, излагаемой по всем канонам докантовской метафизики. В неопозитивизме понятие Р. фактически (но без употребления термина) используется при различении вещного языка и метаязыка, т. к. предмет филос. и логич. анализа ограничивается лишь реальностью языка.
новывается возможность собственно философии, излагаемой по всем канонам докантовской метафизики. В неопозитивизме понятие Р. фактически (но без употребления термина) используется при различении вещного языка и метаязыка, т. к. предмет филос. и логич. анализа ограничивается лишь реальностью языка.
Лит .: Webert J., Reflexion. Etude sur les operations
reflexions dans la psychologie de St. Thomas, «Melanges Mandon-
net»,1930, v.l , p. 285—325; G tt n t h e r H., Das Problem des
Slchselbstverstehens, В., 1934; D r i e s с h H., Selbstbesinnung
und Selbsterkenntnis, 2 Aufl., Lpz., 1942; De Finance J.,
Cogito cartesien et reflexion thomiste, P., 1946; Li tt Th.,
Die Selbsterkenntnis des Menschen, 2 Aufl., Hamb., 1948;
Marc A., Psychologie reflexive, v. 1—2, Bruges—Brux.,
1948—49; e г о ж e, Dialectique de l'affirmation. Essai du me-
taphysique reflexive, Bruges—Brux., 1952; Madinier G.,
Conscience et signification. Essai sur la reflexion, P., 1953;
Hoeres W., Sein und Reflexion, Wurzburg, 1956; Wag
ner H., Philosophie und Reflexion, Munch.—Basel, 1959;
S с li u 1 z W., Das Problem der absoluten Reflexion, Pr./M.,
1963; Apel К. О., Reflexion und materialle Praxis. Zur Er-
kenntnis anthropologischen Begriindung der Dialektlk zwischen
Hegel und Marx, «Hegel. Studien», Bonn, 1964, Beiheft 1;
Etcheverry A., L'homme dans le monde, Bruges—P.,
1964, ch. VIII. А. Огурцов. Москва.
РЕФЛЕКСОЛОГИЯ — естественнонауч. направление в психологии, получившее развитие в период 1900—30, гл. обр. в России, и связанное с деятельностью Бехтерева. Следуя за Сеченовым, Р. исходила из того, что нет ни одного процесса мысли, к-рый не выражался бы объективными проявлениями. В связи с этим изучались все рефлексы, протекающие с участием головного мозга («соотносительная деятельность»). Р. стремилась использовать исключительно объективные методы как «твердую точку опоры» для науч. выводов. Она рассматривала психич. деятельность в связи с нервными процессами, привлекая для объяснения материалы физиологии высшей нервной деятельности. Возникнув в области психологии, Р. затем проникла в педагогику, психиатрию, социологию, искусствоведение.
Несмотря на ряд достижений, Р. не смогла преодолеть механистич. трактовку психич. процессов как эпифеноменов актов поведения.
К концу 20-х гг. усилилась марксистская критика
Р. Значит, часть рефлексологов осознала ограни
ченность Р. и пересмотрела прежние позиции. Лит.
СМ. при СТ. Психология. А - Петровский. Москва.
РЕФОРМА (от лат. reformo — преобразовываю) — преобразование, изменение, переустройство к.-л. стороны обществ, жизни (порядков, институтов, учреждений), не уничтожающее основ существующей социальной структуры. С формальной т. зр. под Р. подразумевается нововведение любого содержания. Однако в политич. практике и политич. теории Р. обычно называют более или менее прогрессивное преобразование (см. В. И. Ленин, Соч., т. 12, с. 205).
В условиях антагонистич. общества Р., поскольку она имеет вынужденный характер (уступка со стороны господствующего класса своему классовому противнику), двойственна и по содержанию и по влиянию, к-рое она оказывает на ход социальных процессов. С одной стороны, Р. есть реальный шаг вперед, улучшающий в том или ином отношении положение трудящихся, предпосылка для дальнейшей борьбы, с другой— Р. является «... предохранительной реакцией, т. е. предохраняющей правящие классы от падения мерою...» (там же, т. 6, с. 322); правящие классы соглашаются на Р., чтобы ослабить напор революц. сил, направить его в русло реформистских иллюзий и сохранить свое господство. Противоречивый характер Р. подтверждается всей историей социального законодательства капитализма. В развитых бурж. странах организованная борьба рабочего класса привела к серии Р., улучшивших положение трудящихся, создавших новые возможности для борьбы против
империализма. Вместе с тем частичные успехи рабочего движения сопровождались ростом реформистских иллюзий, распространением влияния социал-демократов. Коммунистич. партии, поддерживая непосредственные, ближайшие требования трудящихся, решительно выступают за доведение борьбы до революц. переустройства общества.
Соотношение Р. и революции — одна из важнейших теоретич. и практич. проблем междунар. рабочего движения. Принципиальное отличие реформистского пути от революционного заключается в том, что при первом власть остается в руках прежнего правящего класса — буржуазии, а при втором — власть переходит в руки нового класса. Имея в виду указанное различие, Ленин писал: «Понятие реформы, несомненно, противоположно понятию революции; забвение этой противоположности, забвение той грани, которая разделяет оба понятия, постоянно приводит к самым серьезным ошибкам во всех исторических рассуждениях. Но эта противоположность не абсолютна, эта грань не мертвая, а живая, подвижная грань, которую надо уметь определить в каждом отдельном конкретном случае» (там же, т. 17, с. 89—90).
Ленин боролся как против реформистов, ревизионистов, к-рые «забывают» об этой грани, так и против доктринеров, сектантов, к-рые, прикрываясь революц. фразой, метафизически противопоставляют Р. революции и принижают значение борьбы за Р.
Соотношение Р. и революции определяется слож-ным сплетением объективных и субъективных факторов, среди к-рых первое место занимает соотношение классовых сил как в междунар. масштабе, так и в рамках каждой страны. В зависимости от этого соотношения возможны два осн. пути к социализму: мирный и немирный. В свою очередь, в зависимости от того, по какому пути пойдет революция, Р. играют существенно различную роль.
В первое столетие существования марксизма (примерно до сер. 20 в.) осн. стратегия, установка коммунистов, не исключая в принципе и мирного завоевания власти рабочим классом, исходила из немирного развития революции. «... Стачка и восстание — единственный метод решающей борьбы между трудом и капиталом», — говорилось в циркулярном письме ИККИ «Парламентаризм и борьба за Советы» («Коммунистич. Интернационал», 1919, № 5, с. 707). В рамках такой концепции роль и значение Р. совершенно точно описывались формулой Ленина: «...реформа,— как побочный продукт революционной классовой борьбы пролетариата» (Соч., т. 12, с. 206). Практически это означало, что рабочий класс и его революц. партия берут курс на непосредств. осуществление радикальных политич., а затем и социально-экономич. преобразований. В этих условиях борьба за те или иные Р. прежде всего рассматривалась как средство подготовки политич. революц. армии, создания классовых орг-ций, воспитания пролет, сознания. Вместе с тем пока власть остается в руках старых господствующих классов, они не теряют надежды при помощи разного рода частичных уступок, половинчатых мер погасить пожар революции. Такого рода Р. выступают как контррево-люц. мероприятия, а борьба с «реформистской тактикой» буржуазии становится непременной предпосылкой успешного развития революции. Если революция побеждает, Р. осуществляется как ее «побочный продукт», если же революция терпит поражение, то характер и значимость вырванных у господствующего класса уступок определяются размахом и глубиной революц. борьбы, соотношением классовых сил.
Такой подход к соотношению Р. и революции, разработанный в трудах Ленина, в документах Коминтерна и сегодня имеет практич. значение для тех стран,
РЕФОРМА — РЕФОРМАЦИЯ
503
 где наиболее вероятной является немирная перспектива развития революции. Однако в свете стратегии мирного перехода, изложенной в Декларации 1957 и в Заявлении I960, в документах братских партий и Программе КПСС, формула о Р. как «побочном продукте» уже не отражает всех особенностей совр. революц. процесса. «В новой исторической обстановке,— говорится в Программе КПСС,— рабочий класс многих стран еще до свержения капитализма может навязать буржуазии осуществление таких мер, которые, выходя за пределы обычных реформ, имеют жизненное значение как для рабочего класса и развития его дальнейшей борьбы за победу революции, за социализм, так и для большинства нации» (1961, с. 37).
где наиболее вероятной является немирная перспектива развития революции. Однако в свете стратегии мирного перехода, изложенной в Декларации 1957 и в Заявлении I960, в документах братских партий и Программе КПСС, формула о Р. как «побочном продукте» уже не отражает всех особенностей совр. революц. процесса. «В новой исторической обстановке,— говорится в Программе КПСС,— рабочий класс многих стран еще до свержения капитализма может навязать буржуазии осуществление таких мер, которые, выходя за пределы обычных реформ, имеют жизненное значение как для рабочего класса и развития его дальнейшей борьбы за победу революции, за социализм, так и для большинства нации» (1961, с. 37).
Мирный путь к социализму предполагает ряд переходных этапов, промежуточных мер и образований, «комбинированных типов» (Ленин) экономич. и поли-тич. организации, через к-рые и посредством к-рых будут ограничиваться экономич. и политич. власть буржуазии, укрепляться антимонополистич. коалиция, происходит изменение в самой структуре общества. Поэтому борьба за такие глубокие Р., получившие в документах мн. коммунистич. партий (напр., Италии, Австрии, Испании, Бразилии и др.) наименование «структурных реформ», выступает как важное средство активизации масс, постепенного подрыва позиций господствующего класса, как особая форма революц. процесса. Структурные Р.— это не отдельные и частичные изменения, это — совокупность постепенных коренных преобразований, к-рые хотя и не выводят за рамки капиталистич. строя, но уже непосредственно затрагивают его основы. Программа этих далеко идущих Р. предусматривает, в частности, общую демократизацию обществ, жизни, существ, ограничение и даже, как подчеркивается в документах нек-рых компартий, ликвидацию экономич. и политич. власти монополий, организацию различных форм рабочего контроля на капиталистич. предприятиях, в области образования и культуры и т. д. Такие Р. еще не «вводят» социализма, но они усиливают сплоченность антимонополистич. фронта и открывают социалистич. перспективу, являются практич. выражением сочетания, борьбы за демократию с борьбой за социализм.
Догматики и сектанты, называя «оппортунизмом» и «ревизионизмом» борьбу за структурные Р., за мирное развитие революции, категорически отрицают, что до взятия власти рабочим классом к.-л. Р. может иметь революц. характер, социалистич. направленность. Подобные представления — следствие упрощенного, схематичного понимания революции: вчера — диктатура буржуазии, сегодня — диктатура пролетариата. Марксисты-ленинцы исходят из того, что движение к социализму предполагает необходимость переходных форм, для к-рых нет готовой схемы, но в ходе к-рого массы в макс, степени используют демократию и осуществят революц. Р., подрывающие мощь монополистич. капитала. Целеустремленное социалистич. большинство в парламенте, поддержанное массовым движением рабочего класса и др. групп населения, может сделать парламент действенным орудием воли народа и преобразования бурж. общества. Принципиальное отличие такой позиции от реформистской заключается в том, что коммунисты не отрывают борьбу за Р. от борьбы за политич. власть и за коренные революц. преобразования при помощи этой власти. Смысл политики структурных Р. в том и состоит, чтобы не пассивно ждать революц. ситуации, а постоянно бороться за демократич. цели, достижение к-рых ведет к усилению социалистич. сил и создает почву для мирного взятия власти рабочим классом и его союзниками. В условиях мирного перехода к социализму Р.— существ, элемент самого революц.
процесса преобразования общества в социалистич. направлении.
С победой социализма противоположность Р. и революции снимается окончательно. Отсутствие классовых антагонизмов ведет к тому, что коренные революц. сдвиги в обществ, отношениях осуществляются путем более или менее постепенного изменения, реформирования существующих порядков. Глубина и эффективность Р. при социализме определяются соотношением консервативных и прогрессивных элементов социалистич. общества, точностью и полнотой социоло-гич. анализа, умением вовремя заметить и правильно сформулировать возникшую обществ, потребность, рассчитать не только ближайшие, но и отдаленные, опосредованные социальные последствия предполагаемой Р.
Все это поднимает роль обществ, науки, марксизма-ленинизма как теоретич. основы направленного, сознат. изменения структуры и учреждений социалистич. общества.
Лит.: Ленин В. И., Письмо «Северному Союзу», Соч.,
4 изд., т. 6, о. 148—49; е г о ж е, Еще о думском министерстве,
там же, т. 11, с. 54—55; его же, Итоги выборов, там же,
т. 18, с. 484; е г о ж е, Возрастающее несоответствие, там же,
с. 529; е г о ж е, Марксизм и реформизм, там же, т. 19, с. 334;
е г о ж е, О значении золота теперь и после полной победы
социализма, там же, т. 33; КПСС в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК, 7 изд., ч. 4, М., 1960;
Программа КПСС, М., 1961; Группи Л., Стратегия и
тактика Итал. коммунистич. партии на совр. этапе, в кн.:
40 лет Итал. коммунистич. партии, М., 1961; Комму
нисты и демократия. Материалы обмена мнениями, состояв
шегося в редакции журнала «Проблемы мира и социализма»,
Прага, 1964; Togliatti P., Problemi del movimento
operaio internazionale (1956—1961), Roma, 1962; E possibile in
regime capitalistico eliminare il potcre economico e politico dei
monopoli, «Critica marxista», 1963, № 3: p. 87—108 (обмен мне
ниями между Л. Лонго и Дж. Тоси). А. Бовин. Москва.
РЕФОРМАЦИЯ (от лат. reformatio — преобразование, исправление) — широкое и разнородное социальное движение в большинстве стран Европы 16— 17 вв., имевшее непосредств. целью реформу католицизма и носившее в целом антифеод, характер. Р. привела к образованию новой разновидности христианства — протестантизма. Причины Р. связаны с развитием бурж. отношений и обострением классовой антифеод, борьбы буржуазии и крестьянства, направленной в первую очередь против католич. церкви — «... наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального строя» (Э н г е лье Ф., см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 7, с. 361). В идеологич. подготовке Р. важную роль сыграли гуманизм с его рационалистич. критикой ср.-век. миросозерцания и утверждением принципов бурж. индивидуализма, ср.-век. ереси, гусизм, в Германии — нем. мистика 14 в.
Отстаивая идею о непосредств. общении человека с богом, Р. провозгласила внутр. личную веру единств, путем «спасения» (выдвинутый Лютером принцип «оправдания единственно верой» в противоположность католич. догмату о спасении путем «добрых дел»), что вело к отрицанию претензий католич. церкви на посредничество между человеком и богом, отвергла авторитет т. ы. священного предания — папских декреталий, постановлений церк. соборов и т. п. и признала Священное писание единств, источником откровения. В социальном плане эти идеи бюргерской Р. были связаны с требованиями ликвидации монашества и церк. землевладения, упрощения культа (Р. сохранила только два из церк. таинств — крещение и причастие) и демократизации богослужения, к-рому Р. придала нац. характер (мн. реформаторы переводили Библию на нац. языки).
В движении Р. выделяются два осн. течения — бюр-герско-евангелич. Р. и народная Р. Бюргерская Р. была крайне неоднородной по своим социальным устремлениям, что отразилось в специфич. особенностях веро-
504
РЕФОРМИЗМ
 учений Лютера, Цвингли, Кальвина и др. реформаторов. Для лютеранства характерно утверждение внутр. религ. свободы человека и одновременно освящение его реальной несвободы в мирской жизни. Гораздо более радикальными были цвинглианство, учение Карлштадта и в особенности кальвинизм, ставший идеологией первых бурж. революций — в Нидерландах 16 в. и Англии 17 в. Кальвинизм дал религ. оправдание нормам бурж. морали в развитых им теории предопределения и учении о «мирском призвании» и «мирском аскетизме», максимально упростили удешевил культ, упразднив все элементы магии и фетишизма, и реорганизовал церковь по респ. образцу. Народная Р. выражала интересы крест.-плебейских масс. Исходя из учений раннего христианства, она требовала равенства в обществ, отношениях, отмены крепостного права и сословных привилегий. Достигнув высшего развития в учении Мюнцера с его панте-истич. отождествлением «бога» и «мира», проповедью активного установления «царства божия на земле», идеи нар. Р. получили в дальнейшем распространение в движении анабаптистов, у англ. диггеров и др. Движение нар. Р. преследовалось как католич. церковью, так и бюргерской Р.
учений Лютера, Цвингли, Кальвина и др. реформаторов. Для лютеранства характерно утверждение внутр. религ. свободы человека и одновременно освящение его реальной несвободы в мирской жизни. Гораздо более радикальными были цвинглианство, учение Карлштадта и в особенности кальвинизм, ставший идеологией первых бурж. революций — в Нидерландах 16 в. и Англии 17 в. Кальвинизм дал религ. оправдание нормам бурж. морали в развитых им теории предопределения и учении о «мирском призвании» и «мирском аскетизме», максимально упростили удешевил культ, упразднив все элементы магии и фетишизма, и реорганизовал церковь по респ. образцу. Народная Р. выражала интересы крест.-плебейских масс. Исходя из учений раннего христианства, она требовала равенства в обществ, отношениях, отмены крепостного права и сословных привилегий. Достигнув высшего развития в учении Мюнцера с его панте-истич. отождествлением «бога» и «мира», проповедью активного установления «царства божия на земле», идеи нар. Р. получили в дальнейшем распространение в движении анабаптистов, у англ. диггеров и др. Движение нар. Р. преследовалось как католич. церковью, так и бюргерской Р.
Лит.:Э н г е л ь с Ф., Крест, война в Германии, М а р к с К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд.,т.7; Герцен А. И., Письма об изучении природы, М., 1946, с. 33—36, 194—227; Б е ц о л ь д Ф., История Р. в Германии, т. 1—2, СПБ, (900; С а в и н А. Н., Религ. история Европы эпохи Р., М., 1914; С м и р и н М. М., Нар. Р. Томаса Мюнцера и Великая крест, война, 2 изд., М., 1955; Поршнев Б. Ф., Кальвин и кальвинизм, «Вопр. истории религии и атеизма», 1958, [т.] 6; Чистозво-н о в А. Н., Реформац, движение и классовая борьба в Нидерландах в первой пол. XVI в., М., 1964; Grimm H. J., The reformation era. 1500—1650, N. Y., 1954; S с h m i d t A. M., J. Calvin et la tradition calvinienne, P., 1957. См. также лит. при ст. Кальвин, Лютер, Мюнцер.
М. Глузберг, Л. Затуловспая. Москва.
РЕФОРМИЗМ — политич. течение внутри рабочего движения, к-рое отрицает необходимость классовой борьбы, социалистич. революции и диктатуры пролетариата, выступает за сотрудничество классов и надеется с помощью серии реформ, проводимых в рамках бурж. законности, превратить капитализм в общество «всеобщего благоденствия».
История совр. Р. начинается в последней четверти 19 в., когда под влиянием успехов рабочего движения и развития бурж. демократии ряд с.-д. деятелей выступил с требованием ревизовать марксизм и взять курс не на революц. преобразование общества, а на его улучшение путем проведения реформ. Социально-экономич. основой распространения Р. явилось относит, улучшение положения верхних слоев рабочего класса, рост и обуржуазивайте с.-д. парт, и проф. чиновничества. Впервые программа Р. была изложена в ст. К. Хёхберга, Э. Бернштейна и К. Шрамма «Ретроспективный обзор социалистич. движения в Германии» («Jahrbuch fur Soziarwissenschaft und Sozialpolitik»,1879). Маркс и Энгельс подвергли эту статью резкой критике (см. Избр. письма, 1953, с. 328). В 1891 с открытой проповедью Р. выступил руководитель Баварской парт, орг-ции СДПГ, депутат рейхстага Г. Фольмар. В конце 19 в. возникло бернштейнианство — наиболее цельное и последо-ват. реформистское течение в период, предшествовавший Октябрьской революции. По мнению Бернштейна, рабочий класс еще недостаточно развит, «чтоб принять в свои руки политическую власть» («Проблемы социализма и задачи социал-демократии», М., [1901], с. 351); учреждения капиталистич. общества настолько «гибки, изменчивы и способны к развитию», что «они не требуют своего искоренения, но лишь дальнейшего развития» (там же, с. 272). Поэтому нет необходимости в революц. диктатуре рабочего класса. Первое крупное практич. применение идей Бернштейна связано с именем лидера франц. «независимых со-
циалистов» А. Мильерана, к-рый в 1899 занял пост министра в реакц. бурж. пр-ве Вальдека-Руссо. Бернштейнианство в теории и мильеранизм в политике вскоре стали идейно-полнтич. платформой оппортуниста, элементов в рабочем движении. В Англии их поддержали фабианцы, мн. лидеры Независимой рабочей партии и тред-юнионов, в Бельгии — Ансель и Ваидер-вельде, в Швеции — Брантинг и Дальберг, в Голландии — Ван Кол, в Австрии — Пернсторфер и Герц, в России — Прокопович, Кускова и др. В конце 19 — нач. 20 вв. Р. превратился в междунар. явление и стал гл. опасностью внутри рабочего и с.-д. движения.
Несмотря на упорную, хотя и не всегда последовательную, борьбу против бернштейнианства, к-рую вели Люксембург, Меринг, Цеткин, К. Либкнехт в Германии, Лафарг и Гед во Франции, Лабриола в Италии, Благоев в Болгарии, Гортер в Голландии, в европ. с.-д. партиях сдача позиций реформизму приобрела широкий хотя зачастую и не явно выраженный, характер. Все больше сближался с бернштейнианством центризм каутскианского толка, хотя Каутский вначале выступил с критикой взглядов Бернштейна. Подточенный изнутри оппортунизмом 2-й Интернационал развалился с началом 1-й мировой войны. Из крупных и политически оформленных орг-цпй, входивших во 2-й Интернационал, только руководимая Лениным большевистская партия отстаивала революц. интернационалистскую линию в рабочем движении.
После Октябрьской революции и окончания 1-й мировой войны борьба марксизма и Р. перестала быть борьбой внутри политич. партий рабочего класса и стала борьбой между двумя политич. течениями рабочего движения. В февр. 1919 в Берне представители правых с.-д. партий 26 стран воскресили 2-й Интернационал. В марте 1919 представители 35 левых партий и групп учредили Коммунистич. Интернационал. В февр. 1921 в Вене представители 13 центристских социалистич. партий образовали Междунар. рабочее объединение социалистич. партий (21/2-й Интернационал). В мае 1923 в Гамбурге произошло слияние 2-го и 21/2-го Интернационалов; новая орг-ция получила название Социалистич. рабочий интернационал (Социнтерн — существовал до 1933), объединявший в то время 6,7 млн. чел. из 43 партий в 30 странах. Раскол рабочего движения, вызванный лидерами Р., стал фактом и привел к серьезному ослаблению анти-империалистич. сил.
Эволюция Социнтерна в период между мировыми войнами — это непрекращающееся движение от марксизма к антимарксизму. Левое крыло Социнтерна — представители т. н. австромарксизма (О. Бауэр, Фридрих, Виктор и Макс Адлеры, К. Реннер) — шаг за шагом сдавало позиции откровенному Р. Антикоммунизм, антисоветизм занимали все большее место в идейных концепциях с.-д. теоретиков, перерастая в открытый призыв к свержению Сов. власти. Несмотря на откровенно антикоммунистич. характер межвоен. Р. в целом, он не был однороден. Как внутри реформистских партий, так и между ними существовали заметные идейно-политич. различия, не прекращалась борьба между левыми и правыми элементами. Отражая настроение нар. масс, сознавая нарастание фашистской угрозы, ряд с.-д. лидеров вынужден был пойти на широкие контакты с коммунистами. Победа нар. фронтов в Испании и Франции показала перспективность политики единых действий. Однако успехи такой политики оказались непрочными. В с.-д. партиях взяли верх силы, видящие главного врага не справа, а слева. Сказались и сектантские настроения в Коминтерне, к-рый рассматривал с.-д-тию как «главный фактор междунар. контрреволюции» и соответственно ориен-
РЕФОРМИЗМ
505
 тировал свои секции. Как показал опыт, такой подход не способствовал дифференциации внутри с.-д-тии, а, напротив, облегчал ее правым лидерам консолидацию сил на антикоммунистич. платформе.
тировал свои секции. Как показал опыт, такой подход не способствовал дифференциации внутри с.-д-тии, а, напротив, облегчал ее правым лидерам консолидацию сил на антикоммунистич. платформе.
После 2-й мировой войны были предприняты усилия для воссоздания междунар. реформистского союза под названием Социалистич. Интернационал, к-рый был организован в 1951. Послевоен. история Р. характеризуется окончательным и полным разрывом с марксизмом, зафиксированным в новых программах ведущих европ. с.-д. партий (1958—1961). Совр. Р. официально объявил, что его идеология не является марксистской. «Маркс один из наших великих предшественников, не больше, не меньше,— писал идеолог франц. социалистов П. Боннель.— Считать его сегодня нашим единственным вдохновителем будет идолопоклонством и ослеплением... Он — великий момент социализма, его влияние было (и еще есть) громадным, но это превзойденный момент и отныне, думаю, пагубное влияние. Марксизм — позади нас» («Le marxisme est derriere nous», см. «La Revue socialiste», 1960, Avril, № 132, p. 436). Офиц. доктрина совр. Р., провозглашенная в декларации Франкфуртского (1951) конгресса Социалистич. Интернационала и противопоставляемая науч. коммунизму, марксизму-ленинизму,— «демократич. социализм». Теоретпч. корни «демократического социализма» восходят к неокантианству с его проповедью «этич. социализма». С т. зр. теоретиков совр. Р. (В. Эйхлер, А. Филип, О. Поллак и др.), социализм не закономерный продукт естеств.-историч. развития, а нравств. идеал, равно доступный представителям всех слоев общества. Следовательно, социалистич. преобразование общества — это прежде всего моральная проблема, проблема воспитания людей на основе «вечных» духовных ценностей социализма. Социалистич. воспитание (в капиталистич. обществе), по мысли Эйхлера, должно развивать дружбу, любовь, товарищество, солидарность и, главное, терпимость. «Воспитание в духе терпимости,— писал он,— относится не только к инаковерующим, но оно точно также необходимо по отношению к политически инакомыслящим, к другому полу и, не в последнюю очередь, к людям иного социального происхождения» («Der Weg in die Freiheit», Hannover, [1955], S. 31). P. отвергает революц. методы воздействия на обществ, развитие. Реформа как антитеза революции остается альфой и омегой реформистского мышления. Социализм может возникнуть только «демократически», т. е. в результате суммы политико-экономич. и (особенно) культурно-воспитат. мероприятий, осуществляемых с.-д. и даже бурж. пр-вами; социализм может существовать только как «демократия», т. е. как гармонич. единство всех социальных слоев и групп, включая капиталистов,— таково кредо Р. Социализм, создаваемый в союзе с капиталистами, естественно, не может обойтись без капитализма в экономике. Формулируя с.-д. экономич. политику, программа с.-д. партии Германии признает «свободную конкуренцию и свободную предпринимательскую инициативу», выдвигает лозунг: «конкуренция — насколько возможно, планирование — насколько необходимо».
Эклектич. стремлению соединить воедино «кусочки» социализма и «кусочки» капитализма соответствует и филос. эклектика. Р. не имеет цельной, единой миро-воззренч. основы. «Социализм является международным движением, которое отнюдь не требует застывшего единообразия воззрений,— говорится во Франкфуртской декларации.— Безразлично, черпают ли социалисты свои убеждения в результате марксистского или какого-либо иного социального анализа, или же в религиозных и гуманных принципах, все они стремятся к общей цели...». Философия Р. включает неокантианство, позитивизм, прагматизм, экзистен-
циализм, антропологизм и др. направления, к-рые признаются совместимыми с социализмом и используются для опровержения марксизма. Диалектика и материализм объявляются устарелыми, их место занял плоский эволюционизм. Естественноисторич. неизбежность социализма объявлена мифом; социализм «выводится» из сферы духа, из вневременных и внеклассовых этич. представлений индивидуума. Атеизм тоже считается устарелым: союз с клерикализмом, примирение науки и религии стали программными требованиями с.-д-тии. «Партия считает,— говорится, напр., в декларации Голландской партии труда,— что религиозные убеждения и жизненная философия чрезвычайно важны для воспитания и умственного развития».
Откровенно проимпериалистич. позиции, занятые мн. лидерами с.-д-тии, невыполнение ими своих предвыборных обещаний после прихода к власти, привели к концу 50-х гг. к нек-рому падению политич. влияния междунар. Р. Если в 1945 социал-демократы занимали министерские посты в пр-вах 22 стран, то в 1964 они входили только в 12 кабинетов. Вместе с тем Р. сохраняет значит, политич. влияние. К июлю 1963 Социнтерн состоял из 42 партий — членов п наблюдателей,— объединяющих 11,8 млн. чел., за партии реформистского интернационала голосует ок. 65 млн. чел.
Реформистские политич. партии и реформистские профсоюзы, несмотря на немалое количество непривлекательных страниц в их истории, сыграли и определ. положит, роль в борьбе за улучшение жизни рабочего класса; во мн. зап.-европ. странах социал демократы пользуются массовой поддержкой трудящихся. В этих условиях успешное продвижение к социализму невозможно без преодоления раскола рабочего движения,без единства действий коммунистов и социалистов. Критикуя правооппортунистич. практику и идеологию Р., коммунистам, партии выступают за конструктивный, свободный от предубеждений и наслоений прошлого, диалог между коммунистами и социалистами, за широкое сотрудничество с социал-демократами в борьбе за мир, демократию и социализм. Коммунисты не отбрасывают многие лозунги и требования социал-демократов, но они показывают ограниченный, переходный характер этих требований, настаивают на бескомпромиссном признании главного — необходимости уничтожить капитализм, создать социализм.
Осн. препятствием для единства действий революц. и реформистского крыла рабочего движения служит ныне антикоммунизм той части лидеров междунар. социал-демократии, для к-рой гл. врагом продолжает оставаться не империализм, а коммунизм. Ослепленные ненавистью к коммунизму, вожди и идеологи правого крыла междунар. Р. не хотят видеть, что антикоммунизм изолирует с.-д-тию от самых прогрессивных сил современности. «Антикоммунизм завел социал-реформизм в идейно-политический тупик» (Программа КПСС, 1961, с. 55). Понимание этого стимулирует активность левых групп и элементов, трезво мыслящих деятелей в руководстве социалистич. партий. Все сильнее становится стремление социал-демократов отказаться от антикоммунистич. шаблонов. Способствовать этому процессу — одна из гл. задач коммунистич. движения.
Лит.: Map к с К. и Энгельс Ф.,Циркулярное письмо А. Бебелю, В. Либкнехту, В. Браккеи др., Соч., 2 изд., т. 19; Ленин В. И., Марксизм и ревизионизм, Соч., 4 изд., т. 15; его же, Реформизм в русской социал-демократии, там же, т. 17; е г о ж е, О некоторых особенностях исторического развития марксизма, там же; его же, Марксизм и реформизм, там же, т. 19; е г о ж е, Крах II Интернационала, там же, т. 21; его ж е, Пролетарская революция и ренегат Каутский, там же, т. 28; Программа КПСС, М., 1961; Д в о р к и н И. Н.,Критика экономич.теорий правых социалистов (западногерманских и австрийских), М., 1959; Зедер Г., Очерк правосоциалистич. идеологии, пер. с нем., М., 1959; Правые
506
РЕЦЕПТОРЫ — РЕЧЬ
 социалисты—против социализма, под ред. Л. А. Леонтьева, М., 1960; Б о л ь ш о в Д. Г., Мидцев В. В., Яковлева Л. А., Кризис реформистских иллюзий «демократич. социализма», М., 1961; Ирибад Жаков Н., Совр. критики марксизма, пер. с болг., М., 1962; Ситковский Е. П., «Социалисты» без социализма, «ВФ», 1962, М i0; Черняев А. С, Совр. Р. в рабочем движении Зап. Европы, «Вопр. истории КПСС», 1962, № 1; Попов СИ., Идейное банкротство совр. Р. (Критика (j-илос. и социологич. концепций западно-герм. правых социалистов), М., 1963; Мили бен д Р., Парламентский социализм, пер. с англ., М., 1964.
социалисты—против социализма, под ред. Л. А. Леонтьева, М., 1960; Б о л ь ш о в Д. Г., Мидцев В. В., Яковлева Л. А., Кризис реформистских иллюзий «демократич. социализма», М., 1961; Ирибад Жаков Н., Совр. критики марксизма, пер. с болг., М., 1962; Ситковский Е. П., «Социалисты» без социализма, «ВФ», 1962, М i0; Черняев А. С, Совр. Р. в рабочем движении Зап. Европы, «Вопр. истории КПСС», 1962, № 1; Попов СИ., Идейное банкротство совр. Р. (Критика (j-илос. и социологич. концепций западно-герм. правых социалистов), М., 1963; Мили бен д Р., Парламентский социализм, пер. с англ., М., 1964.
А. Бовин. Москва.
РЕЦЕПТОРЫ (от лат. receptor — принимающий) — см. Органы чувств.
РЕЧЬ (более узко — речевая деятельность) — один из видов специфически человеч. деятельности, под к-рым понимается обычно коммуникативная деятельность, опосредованная знаками языка. Термин «Р.» не имеет твердо установл. значения. В психологии он иногда понимается расширительно — в объем Р. включается не только деятельность, но в известной мере и система средств общения и вообще осуществления этой деятельности, т. е. язык. В языкознании термин «Р.» общепринят для обозначения категории, коррелятивной категории «язык», т. е. для перевода введенного Соссюром термина «parole», тогда как термином «речевая деятельность» иногда пользуются для перевода соссюровского термина «langage».
В науч. лит-ре существуют различные, зачастую прямо противоречащие друг другу взгляды на с у щ -ность и функции Р. Так, Б. Кроче трактует Р. как средство эмоц. выражения; О. Дитрих, К. Яберг и К. Фосслер приписывают языку (Р.) две осн. функции — выражение и коммуникация. Для А. Марти и П. Вегенера Р. есть только средство воздействия. Наконец, существуют попытки (П. Демпе) интерпретировать Р. только как средство выразить нек-рое объективное содержание. Наиболее распространена в наст, время концепция К. Бюлера, в к-рой язык характеризуется функциями выражения (Aus-druck), обращения (Appel) и сообщения (Darstellung), реализуемыми в речевой деятельности. Согласно Ф. Кайнцу и К. Аммеру, членение, предложенное Бюлером, соответствует лишь системе «первичных» функций языка или Р. («диалогич. функции»); наряду с ними в Р. могут реализоваться и «вторичные» («ади-алогические») функции: этическая (выражение опре-дел. отношения к собеседнику), магическо-мифиче-ская и логико-алетическая (выражение мировоззрения). Близко к этому понимание Р. Якобсоном, выделяющим соответственно 6 компонентам акта Р. (отправитель, адресат, контекст, код, контакт и сообщение) след. функции Р.: эмотивную (выражение чувств и воли говорящего); конативную или вокатив-но-императивную (направленность и модульность Р.); референтную (обозначение предметов внешнего мира); метаязык овую, дающую возможность говорить о языке; фатическую (установление контакта) и поэтическую (организация сообщения).
Согласно пониманию, распространенному в сов. психологии (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн), язык (Р.) имеет две осн. функции; средства общения, орудия коммуникации и функцию средства обобщения, орудия мышления. Сов. психологи выделяют у Р. также функции выражения, воздействия, указательную и др. В отличие от Бюлера и др., рассматривающих функции Р. как самостоятельные и приписывающих их различным речевым элементам, сов. психология склонна трактовать их как включенные в одно единство (внутри к-рого они друг друга определяют и опосредствуют), не считая возможным атрибутировать эти функции отд. единицам Р.
Р. как средство общения. В нек-рых сообществах животных существуют развитые системы коммуникации, функционально сходные с Р., напр. «язык» пчел, используемый для передачи ин-
формации о найденном источнике пищи. Однако все подобные системы служат для осуществления только биологич. функций (питание, размножение); они передаются генетич. путем, а не через посредство обучения. Существенно ограничены и их содержат, возможности. Человеч. Р. могла возникнуть лишь в трудовом коллективе, как средство координации специфически трудовой деятельности и как форма существования возникающего в этом же контексте сознания. В этом процессе речевые средства постепенно теряют свой «естеств.» характер и становятся системой искусств, сигналов. При этом они уже не просто тем или иным образом организуют в принципе не зависимую от них деятельность, как это было ранее, а вносят в нее новое объективное содержание и этим перестраивают ее структуру: в знаке фиксируются не только внешние, природные связи объектов, но и связи самой деятельности.
Наряду со звуковой Р. для коммуникации могут служить и другие (визуальные, тактильные и т. д.) формы Р.
С коммуникативной функцией Р. связана ее членораздельность (артикулированность), т. е. особая внутр. организация речевого сообщения, соответствующая иерархически организованным в языке и реализующимся в Р. кодовым системам (семантич. артикуляция — распадение потока Р. на слова; мор-фологич. артикуляция — морфемы; фонетич. артикуляция — фонемы).
Р. как средство обобщения. В языковой форме общество опредмечивает многообразные результаты и формы (способы) деятельности. Каждый индивид в процессе обучения распредмечивает эти результаты и формы и т. о. формирует различные способности. При этом усвоение языка и формирование соответствующих ему способностей является необходимым условием для усвоения др. элементов обществ.-историч. опыта человечества, существующих в языковой форме, и формирования на этой основе др. деятельных способностей. Т. о., язык есть орудие сознания, а речевая деятельность — форма процесса, в к-ром сознание отражает действительность и в к-ром оно реализуется. В известном смысле можно сказать, что Р. есть процесс, а язык — способ осуществления сознания. Это относится и к внутр. Р., т. е. такой, внешняя (звуковая) сторона к-рой редуцирована или совсем свернута и обычно выступает в виде микродвижений речевых органов.
Виды Р. выделяются в зависимости от ее функ-цион. направленности и обстоятельств протекания. Наиболее общо деление Р. на диалогическую и монологическую. В совр. науке специально рассматривают массовую коммуникацию, объединяя в ней все виды Р., служащие задаче воздействия на массовую аудиторию, но не предполагающие с ней непосредств. контакта (пресса, радио, телевидение). По др. основанию Р. делится на письм. и устную. Существуют и многие другие принципы классификации видов Р.
Р. как объект языкознания и др. наук. Языкознание изучает Р. гл. обр. как реализацию системы языка, а также отд. виды Р. Эти последние рассматриваются также поэтикой, теорией массовой коммуникации и нек-рыми др. науками. Логика изучает Р. как одну из форм осуществления человеч. мышления. Психология исследует механизмы онтогенеза Р. и ее функции в психич. деятельности. Механизмы и патология Р. изучаются также в физиологии. Звучание Р. безотносительно к ее содержанию и функциям исследует речевая акустика как часть физики. Наконец, в последние годы начался интенсивный анализ Р. с т. зр. теории связи и прежде всего теории разборчивости речевых сигналов, а также механизмов их опознавания и условий синтеза
РИБО —РИД 507
 искусств. Р. В наст, время все эти дисциплины, исторически сложившиеся как самостоят, отрасли знания, располагают собств. системами понятий и терминов и действуют в известной изоляции друг от друга. Между тем существует ряд задач, вызывающих необходимость комплексного междисциплинарного исследования Р. и разработки пограничных вопросов. Это обусловило появление направлений типа «психолингвистики» (США), пытающихся синтезировать различные подходы к исследованию Р.
искусств. Р. В наст, время все эти дисциплины, исторически сложившиеся как самостоят, отрасли знания, располагают собств. системами понятий и терминов и действуют в известной изоляции друг от друга. Между тем существует ряд задач, вызывающих необходимость комплексного междисциплинарного исследования Р. и разработки пограничных вопросов. Это обусловило появление направлений типа «психолингвистики» (США), пытающихся синтезировать различные подходы к исследованию Р.
Лит.: МарксК., Замечания на книгу А. Вагнера «Учеб
ник политич. экономии», Марко К. и Энгельс Ф.,
Соч., 2 изд., т. 19; П о т е б н я А. А., Из записок по рус.
грамматике, 2 изд., т. 1—2, X., 1888; его же, Мысль и язык,
3 изд., X., 1913; С о с с ю р Ф., Курс общей лингвистики, пер.
с франц., М., 1933; М о р о з о в а Н. Г., О понимании текс
та, «Изв. АПН РСФСР», 1947, вып. 7; Происхождение чело
века и древнее расселение человечества, М., 1951; Выгот
ский Л. С, Избр. психологич. исследования, М., 1956;
«гоже, Развитие высш. психич. функций, М., 1960; Щ е д-
ровицкий Г. П., «Языковое мышление» и его анализ,
«Вопр. языкознания», 1957, № 1; Э л ь к о и и н Д. Б., Раз
витие речи в дошкольном возрасте, М., 1958; Жинкин
Н. И., Механизмы Р., М., 1958; Л у р и я А. Р., Развитие Р.
и формирование психич. процессов, в сб.: Психологич. наука
в СССР, т. 1, М., 1959; Новое в лингвистике, [пер. с англ. и
франц.], вып. 1 — 3, М., 1960—63; Ананьев Б. Г., К тео
рии внутр. Р. в психологии, в его кн.: Психология чувств,
познания, М., 1960; ДукельскийН. И., Принципы сег
ментации речевого потока, М.—Л., 1962; Леонтьев А. А.,
Возникновение и первонач. развитие языка, М., 1963; Л у р и я
А. Р., О нарушении динамики речевого мышления, в его кн.:
Мозг человека и психич. процессы, М., 1963; Розенгарт-
П у п к о Г. Л., Формирование Р. у детей раннего возраста,
М., 1963; У истоков человечества, М., 1964; Леонтьев
А. Н., Проблемы развития психики, 2 изд., М., 1965; Hum
boldt W., fiber die Verschiedenheit des menschlichen Sprach-
baues und ihren Einfluss auf die geistige Bntwlckelung des
Menschengeschlechts, Gesammelte Werke, Bd 6, В., 1848;
Steinthal H., Grammatik, Logik und Psychologie. Hire Prin-
zipien und ihr Verhaltniss zu einander, В., 1855: В il h 1 e r
K., Sprachtheorie, Jena, 1934; Bio omfieldL., Language,
L., 1935; H j e 1 m s 1 e v L., Langue et parole, Cahiers F. de
Saussure, t. 2, Geneve, 1942; Skinner В., Verbal behavior,
N. Y., 1957; Y n g v e V., A model and an hypothesis tor lan
guage structure, «Proceedings of the American Philosophical
Society», 1960, v. 104, J4i 5; M a 1 i n о w s k i В., The prob
lem ot meaning in primitive language, в кн.: О g d e n С. К.
and Richards I.Y.,The meaning of meaning..., 10 ed.,N.Y.,
1959; Pike K. L., Language in relation to a unified theory
of the structure of human behaviour.pt 1—3, Glendale, 1954—60;
Psycholinguistics: a book of readings, N. Y., 1961; S 1 a m a-
Cazacu Т., Langagc et contexte, 's-Gravenhage, 1961;
Psycholinguistics. A survey of theory and research problems,
2 ed., Bloomington, 1965. А . А . Леонтьев . Москва.
РИБО (Ribot), Теодюль Арман (18 дек. 1839—9 дек. 1916) — франц. психолог, философ; основоположник французской научной психологии, представитель мате-риалистич. направления ассоциационизма. Проф. философии в лицеях Везуля и Л аваля, а затем проф. общей и эксперимент, психологии в Сорбонне и Коллеж де Франс; основатель (1876) первого во Франции психологич. журнала «Revue philosophique» («Филос. обозрение»). Согласно Р., психология должна быть наукой объективной, генетической, патологической и сравнительной, ее предметом является изучение конкретных фактов психич. жизни в процессе ее развития в норме и патологии. На основе изучения расстройств памяти, воли, внимания Р. установил ряд закономерностей психич. жизни человека и положил начало всемирно известной франц. психопатологич. школе (А. Вине, Ш. Фере, П. Жане, Ж. Дюма, Ш. Влондель, А. Валлон и др.). Важное место в психологич. взглядах Р. занимает принцип социальной обусловленности психич. процессов и качеств человека. Особенно значительны заслуги Р. в области психологии чувств и эмоций, хотя иногда у него проявлялись биологизаторские тенденции. Он впервые в истории психологии развил науч. положения об эмоц. памяти, о логике чувств и непроизвольном внимании, объясняя развитие эмоций и чувств условиями существования, социальными отношениями и обществ, опытом людей. Ряд положений и закономерностей, установленных Р. в области психологии
чувств, памяти, мышления, внимания, воображения, имеют науч. ценность и для совр. психологии.
Соч.: Essai sur les passions, P., 1907; La vie inconsciente et les mouvements, P., 1914; в рус. пер.— Совр. англ. психология (Опытная школа), М., 1881; Болезни памяти, СПБ, 1881; Наследственность душевных свойств, СПБ, 1884; Болезни воли, СПБ, [1884]; Болезни личности, СПБ,[1886]; Совр. герм, психология (Опытная школа), СПБ, 1895; Исследования аффективной памяти, СПБ, 1895; О чувственной памяти, Каз., 1895; Психология внимания, К,—X.,1897; Психология чувств, СПБ, 1898; Эволюция общих идей, К.—X., 1898; Характер, СПБ, 1899; Философия Шопенгауера, СПБ, 1899; Опыт исследования творч. воображения, СПБ, 1901; Логика чувств, СПБ, [1905].
Лит.: Тутунджян О. М., Жизнь и психологич. концепция Т. Р., в кн.: Сб. науч. тр. научно-исслед. психологич. лаборатории (Ереванский гос. пед. ин-т им. X. Абовя-па), т. 3, Ереван, 1961; его же, Т. Рибо (1839—1916), «Вопр. психологии», 1961, №2; JanetP,, L'oeuvre psycholo-gique de Th. Ribot, «Journal de Psychologie normale et pat-hologique», 1915, an. 12, № 4; Dugas L., Le philosophe Th. Ribot, P., 1924; Centenaire de Th. Ribot. Jubile de la psychologie scientifique franfaise, Agen, 1939.
О. Тутунджян. Ереван. РИГЕР (Rieger), Ладислав (17 мая 1890—30 апр. 1958) — чехословацкий философ, проф. Пражского ун-та, первый директор Ин-та философии АН ЧССР (1953—58), чл. КПЧ (с 1945). Занимался в основном гносеологией и психологией. Находился под влиянием Нельсона и Фриза. В 30-х гг. Р. проявляет интерес к неопозитивизму и феноменологии Гуссерля, в дальнейшем приходит к экзистенциализму и к концу 2-й мировой войны пишет труд «Метафизика чело-веч, существования» («Metafysika lidske existence», не издано). После окончания войны Р. занимался вопросами диалектич. материализма, принимал активное участие в научной жизни народной Чехословакии.
Соч.: Problem poznani skutecnostl se stanoviska Kantova a Friesova kriticismu a empirlcke psychologie..., Praha, 1930; Idea filosofie, Praha, 1939; в рус. пер.— Введение в космологию, М., 1959.
РИД (Read), Герберт (р. 17 дек. 1889) —англ. эстетик, искусствовед, критик. В 1915 окончил ун-т в Лидсе. Издатель «Burlington Magazine for Connoisseurs» (1933—39). Президент об-ва «Воспитание средствами искусства», Британского эстетич. об-ва, директор Ип-та совр. иск-ва в Лондоне. Р.— эклектик, «плюралист», соединяющий в своих работах различные т. зр. и концепции совр. зап. философии. «... Я плюралист, готовый оставить на свободе множество истин без всякого желания тащить их в исправительный дом, без всякой жажды свести их к некоторой „унифицированной формуле"» («The tenth muse. Essays in criticism», L., 1957, p. 4). В области иск-ва Р. признает одновременно и реализм, и крайние формы абстракционизма; из совр. художеств, направлений он отрицает только академизм и классицизм, поскольку они строятся на заранее предписанных художнику правилах и нормах, лишая творч. акт ого непосредственности, а тем самым — и познават. ценности. Р. стремится возродить романтич. представление об иск-ве как высшей форме познания, как непосредств. созерцании истины. Художеств, образ, согласно Р., синтезирует в себе человеч. опыт и оказывается необходимой предпосылкой для формирования науч., филос. и религ. представлений. Напр., представления о пространстве, прежде чем подвергнуться науч. или филос. переработке, кристаллизуются в пластич. иск-вах. Точно так же иск-во необходимо для развития знаний человека о самом себе, поскольку через художеств, деятельность объективируется человеч. субъективность, душа, самость. Р. во многом примыкает к учению Кассирера о символич. характере всех форм познания, к символизму Уайт-хеда, развивает взгляды Фрейда о роли «бессознательного» в процессе художеств, творчества. Утверждая, что реальность есть лишь результат индивидуального творч. акта, Р. доходит до полного реляти-
508
РИД —РИККЕРТ
 визма. «Мы достигли теперь такого уровня релятивизма в философии, когда возможно утверждать, что реальность является практически субъективностью, и это означает, что индивид не имеет иного выбора, как конструировать свою собственную реальность, как бы это ни казалось произвольным и даже „абсурдным"» («The philosophy of modern art», L., [1952J, p. 21). В этом пункте Р. смыкается с экзистенциализмом, рассматривая иск-во не как отражение мира, а как выражение духовной личностной ситуации. Изучение различных направлений в совр. иск-ве и творчества различных художников оказывается для Р. единств, способом обнаружения совр. реальности, а эстетич. воспитание — путем разрешения всех социальных проблем современности.
визма. «Мы достигли теперь такого уровня релятивизма в философии, когда возможно утверждать, что реальность является практически субъективностью, и это означает, что индивид не имеет иного выбора, как конструировать свою собственную реальность, как бы это ни казалось произвольным и даже „абсурдным"» («The philosophy of modern art», L., [1952J, p. 21). В этом пункте Р. смыкается с экзистенциализмом, рассматривая иск-во не как отражение мира, а как выражение духовной личностной ситуации. Изучение различных направлений в совр. иск-ве и творчества различных художников оказывается для Р. единств, способом обнаружения совр. реальности, а эстетич. воспитание — путем разрешения всех социальных проблем современности.
Некритич. подход к совр. иск-ву не позволяет Р. вскрыть его действительные социальные истоки. Поэтому Р. вынужден в конечном счете лишь описывать и классифицировать явления совр. художеств, культуры, переходя в этом отношении на позиции позитивизма.
Соч.: Art now..., L., [1933]; Art and industry, L., 1934; Art and society, N. Y., 1936; The future of industrial design, L., 1943; Education through art, L., 1943; The grass roots of art, [L.], 1947; Education for peace, L., 1950; Art and the evolution of man, L,, 1951; Icon and idea, Camb., 1955; A concise his-torv of modern painting, N. Y., [1959]; The form of things unknown, L., 1960, The meaning of art, Bait., 1963.
Б. Шрагин. Москва.
РИД (Reid), Томас (26 аир. 1710—7 окт. 1796) — англ. философ-идеалист, основатель шотландской школы. Профессор Абердипского ун-та (1752—64) и ун-та в Глазго (1764—80). Исходя из критики скептицизма Юма, распространяемого на категории субстанции и причинности, Р. выступал против всей линии англ. эмпиризма и сенсуализма с их утверждением опытного происхождения всякого знания. Согласно Р., неприемлемые скептич. выводы Юма, последовательно вытекающие из посылок эмпиризма, доказывают несостоятельность этих посылок. Наряду со знаниями, приобретаемыми опытным путем, Р. признавал присущие всякому здравому рассудку изначальные суждения, к-рые являются самоочевидными и непреложными истинами, познаваемыми интуитивно. Р. насчитывал 12 таких осн. принципов, независимых от опыта и предшествующих ему, служащих основоположениями всего теоретич. познания. К их числу Р. относил веру в существование внешнего мира, души, причинной обусловленности. Такое решение вопроса позволяло Р. осуществить свою гл. филос. задачу — доказательство того, что вера в бога покоится на не менее прочном фундаменте, чем все науч. постулаты. Кроме интуитивных теоретич. суждений, Р. признавал интуицию нравств. чувства и эстетич. вкуса как основы этич. и эстетич. суждений. Критикуя Юма, Р. направлял острие этой критики не против идеализма, а прежде всего против скептич. выводов по отношению к религ. вере и духовной субстанции. «Реализм» Р. выполнял при этом подсобную функцию. «Изначальные суждения» используются им не столько в интересах здравого рассудка, сколько для защиты распространенных предрассудков.
Соч.; An inquiry into the human mind, on the principles of Common Sense, Edin., 1764; Essays on the intellectual powers of man, Edin., 1785; Essays on the active powers of man, Edin., 1788; Works, 6 ed., v. 1—2, Edin., 1863.
Лит .: История философии, т. 2, [М.], 1941, с. 269—72; D a u r i а с L., Le realisme de Reid, P., 1889; F r a s e г А. С, Т. Reid, Edin,—L., [1898]; L a u r i e H., Scottish philosophy in its national development, Glasgow, 1902; Sciacca M. P., La filosofia di T. Reid, Napoli, 1935; Robinson D. S., The story of Scottish philosophy, N. Y., 1961.
Б. Быховский. Москва.
РИЖСКИЙ, Иван Степанович [7 (18) сент. 1759— 15 (27) марта 1811] — рус. логик, автор одного из первых в России учебников по логике. Учился в Псков-
|
|
ской, затем в Троице-Сергиевой лавры семинарии, в к-рой с 1778 преподавал философию и др. предметы. С 1786— преподаватель в Горном училище. Проф. (1803) и первый ректор (1805) ун-та в Харькове, чл. Российской академии (1802). Изложением логич. взглядов Р. является «Умословие, или Умственная философия, написанная в с.-петербургском Горном училище в пользу обучающегося в нем юношества» (СПБ, 1790), представляющее собой критич. переработку трудов Баумейсте-ра, X. Вольфа, Гольмана и др. По мнению Р., целью логики («умословия») является изучение правил, к-рые обеспечивают достижение истины и ее распространение. Р. рассматривает понятия (он относил к понятиям и чувств, формы познания), суждения и умозаключения преим. как «действия разума». Связь понятий (терминов) в суждении и в умозаключении рассматривалась им как содержательная, или генетическая, в основе к-рой лежит связь признаков вещей. Умозаключения Р. не сводит лишь к силлогистическим, к-рым он отводит второстепенное место. Из фигур силлогизма Р. выделяет три, считая, что четвертая может быть сведена к первой. В «Умословии» и нек-рых др. работах Р. подробно анализирует активную роль языка и слова в процессе познания, подчеркивая, что если бы человек но мог посредством языка сообщать другим свои мысли, то для него «почти все бы равно было, иметь их, или не иметь» («Введение в круг словесности», X., 1806, с. 17). Кроме «Умословия», Р. написана по логике неопубликованная работа, две части к-рой хранятся в Архиве АН СССР в Ленинграде.
Лит.: Известие о жизни и смерти профессора И. С. Р.,
X., 1811; Историко-филологич. факультет Харьковского ун-та
за первые 100 лет его существования, под ред. М. Г. Халанского
и Д. И. Багалея, X., 1908. Л. Смирнов. Ленинград.
|
|
РИККЕРТ (Rickert), Генрих (25 мая 1863-28 июля 1936) — представитель нем. неокантианства, один из основателей баденской школы, непосредств. преемник Виндельбанда. Род. в Данциге; С 1894— проф. Фрейбургского, а с 1916—Гейдельбергского ун-тов. Можно различить три периода в филос. деятельности Р.: в первом он разрабатывает осн. проблему гносеологии («Предмет познания», изд. 1913), а также исследует гносеологич. основы методологии истории как науки; во втором — пытается наметить осн. линии системы философии; в третьем — центр, место занимают дискуссии с феноменологией, философией жизни и экзистенциализмом, в ходе к-рых у Р. все больше обнаруживаются тенденции к идеалистич. гносеологии. В общем для неокантианства духе Р. отвергает кантовскую «вещь в себе» (объективную реальность), сводя бытие к человеч. сознанию, к-рое, однако, характеризуется Р. не как сознание определ. единичных индивидов, а как некое всеобщее безличное сознание, в сущности тождественное у всех людей (см. «Введение в трансцендентальную философию. Предмет познания», К., 1904, с. 85). Это понятие безличного сознания представляет собой идеалистич. абсолютизацию обществ, сознания, к-рое по своему содержанию независимо от каж-
РИККЕРТ
509
 дого отдельного человеч. индивида. С этой т. зр., к-рую Р. именует трансцендентальным, или гносеоло-гич., идеализмом, все объекты (предметы) суть лишь представления, восприятия, чувства, обнаружения воли.
дого отдельного человеч. индивида. С этой т. зр., к-рую Р. именует трансцендентальным, или гносеоло-гич., идеализмом, все объекты (предметы) суть лишь представления, восприятия, чувства, обнаружения воли.
На вопрос о существовании чего-либо за пределами сознания Р. отвечает след. образом: все познаваемое имманентно сознанию и не существует вне сознания; независимой от сознания реальностью может обладать лишь недоступное познанию трансцендентное, допущение к-рого является гпосеологич. необходимостью. Т. о., Р. сочетает субъективный идеализм с допущением реальности трансцендентного, из чего он делает вывод, что религия «выше всякой науки» (см. «Границы естественно-научного образования понятий», СПБ, 1903, с. 613).
Как и для др. неокантианцев, для Р. все реальное (исключая трансцендентное, составляющее предмет веры) представляет собой не объективное отражение действительности, а результат творч. работы сознания, к-рое посредством присущих ему априорных логич. форм конструирует, формирует познаваемую нами действительность из бессвязной массы чувств, данных. Естествознание конструирует определ. реальность, к-рая познается нами как природа; науки о культуре формируют культуру; философия вырабатывает понятие космоса. Хотя Р. и утверждает, что науки могут быть классифицированы исходя из объектов их исследования, по т. к. предмет любой науки, по его мнению, представляет собой продукт конструирующей способности сознания, то первонач. основой классификации наук должна быть классификация самих логич. способностей или методов исследования. Вслед за Виндельбандом, считавшим осн. логич. формами сознания номотетич. и идеография, методы (первый обобщает, конструирует общее, законы; второй дает понимание индивидуального), Р. утверждает, что генерализирующий метод создает естествознание, а индивидуализирующий метод — науки о культуре. Отношение между естествознанием и природой, с одной стороны, и наукой о культуре и самой культурой — с другой, по Р., представляется следующим: поскольку априорные формы лишь организуют, формируют хаос переживаний, следовательно, ни природа, ни история не могут быть сведены к тому, что дают естествознание и науки о культуре, рациональное содержание к-рых совершенно отлично от того, что представляет собой природа и общество как иррац. потоки переживаний. Т. о., в рамках гпосеологич. субъективизма Р. пытается провести различие между познанием и действительностью. Это значит, что различие между субъективным и объективным (так же как различие между психическим и физическим) рассматривается как существующее лишь в пределах сознания: по сути дела, все сводится к разграничению рационального (наука, логич. формы) и иррационального (переживания). Отсюда следует парадоксальный вывод: «...чем большее совершенство мы придаем нашим естественно-научным теориям, тем более мы удаляемся от действительности...» (там же, с. 209). Науки о культуре, ст. зр. Р., гораздо ближе к действительности, в к-рой не существует ничего общего, но всегда имеется индивидуальное, непосредственное, переживаемое. Превосходство наук о культуре над науками о природе заключается, по Р., также и в том, что они соотносят рассматриваемые явления не с законами (представляющими собой лишь априорные правила рассудка), а с ценностями, совокупность к-рых образует идеальный, независимый от человека вечный мир. Эстетич., этич., религ., логич. ценности представляют собой критерии для отбора фактов в истории человечества. Эти ценности, образующие «...совершенно самостоятельное царство,
лежащее по ту сторону субъекта и объекта» («О поня
тии философии», в журн.: «Логос», 1910, кн. 1, с. 33),
делают, согласно Р., историю подлинной наукой о дей
ствительности. История, с его т. зр., не изучает разви
тия общества, не постигает никаких закономерностей и
должна объявить решит, войну принципу историзма;
задачей этой науки является лишь описание единич
ных событий с т. зр. неизменных метафизич. ценнос
тей. Это истолкование истории как науки направлено
против материалистич. понимания истории, к-рое, по
словам Р., «...обязано своим существованием полити
ческим точкам зрения ценности» («Философия исто
рии», СПБ, 1908, С. XIV). т. Ойзерман. Москва.
В конце жизни Р. пытается построить систему философии, истолковывая ее как учение о мировоззрении, к-рое должно понять смысл и ценность жизни и основываться на теории мира как некоего целого (см. «System der Philosophie», Bd 1, Tubingen, 1921). Философия, в понимании Р., имеет дело не с конкретной действительностью (в таком случае она растворилась бы в отд. науках), она должна постигнуть мир как некую тотальность, при этом мышление, постигающее целостность мира, преодолевает расколотость его в процессе познания на субъект и объект. Задача философии — установление отношений между тремя сферами: миром действительности, понимаемым как целостное образование, миром трансцендентных, объективно значимых ценностей, лежащих по ту сторону субъекта и объекта, и царством имманентного смысла, к-рое объединяет два предшеств. царства. Этому расчленению соответствуют три различных способа овладения человеком этих сфер — объяснение, понимание и истолкование. Рассматривая истинность как ценность, Р. развивает трансцендентную теорию суждения, согласно к-рой масштаб суждения — в нормативном и трансцендентном долженствовании. Р. различает психич. акт суждения, смысл суждения и трансцендентный предмет познания, на к-рый указывает этот смысл. Долженствование придает истинность суждению. Т. о., проблема ценности оказывается в центре всей философии: философия исследует царство ценностей, устанавливает определ. иерархию между ними.
В неокантианском учении Р. явственно обнаруживается переход к иррационалистич. идеализму, становящемуся одной из наиболее влият. форм бурж. философии: «...Одному мы действительно можем научиться у философии жизни, если мы поймем ее лучше, чем она сама себя понимает: мы никогда не должны думать, что понятиями философии мы поймали саму живую жизнь, но, в качестве философов, можем только ставить себе задачу приближаться к жизни настолько, насколько это совместимо с сущностью философствования в понятиях» («Философия жизни». П., 1922, с. 155). В работах последнего периода Р. соотносит свое учение о мировоззрении с попыткой построить новую онтологию. В кн. «Логика предикатов и проблема онтологии» («Die Logik des Pradikates und das Problem der Ontologie», Hdlb., 1930), критикуя Н. Гарпгмана и Хейдеггера, он обосновывает возможность онтологич. положений; исходя из этого, Р. вновь возвращается к проблемам теории познания (в 1924 он читает курс «Наукоучения») и философии истории. В ст. «Основные проблемы философии» («Grundprobleme der Philosophie», Tubingen, 1934) P. по-новому расчленяет систему философии: методология как теоретико-познават. пропедевтика, онтология как учение о видах бытия мирового целого и антропология, где рассматриваются отношения между формальным учением о смысле и конкретными смысловыми образованиями человеч. культуры. В конце жизни Р. проявляет интерес к неогегельянству, усваивая его нек-рые принципиальные идеи, и к
510
РИЛЬ — РИМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
 проблеме обоснования и сущности метафизики (см. ст. «Die Erkenntnis der intelligiblen Welt und das Problem der Methaphysik», «Logos», 1927, Bd 16, H. 2; 1929, Bd 18, H. 1).
проблеме обоснования и сущности метафизики (см. ст. «Die Erkenntnis der intelligiblen Welt und das Problem der Methaphysik», «Logos», 1927, Bd 16, H. 2; 1929, Bd 18, H. 1).
Соч.: Fichtes Atheismusstreit und die Kantische Philosop-hie, В., 1899; Psychophysische Causalitat und psychophysischer Parallelismus, Tubingen, 1900; Yom Begriff der Philosophic, «Logos», 1910/11, Bd 1; System der Werte, там же, 1914, Bd 4; Das Eine, die Einheit und die Eins. Bemerkungen zur Logik des Zahlbegriffs, 2 Aufl., Tubingen, 1924; Kant als Philosoph der modernen Kultur. Em geschichtsphilosophischer Versuch, Tubingen, 1924; Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 3 Aufl., Hdlb., 1924; Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffs-bildung, 5 Aufl., Tubingen, 1929; Unmittelbarkeit und Sinn-deutung. Aufsatze zur Ausgestaltung des Systems der Philoso-phie, Tubingen, 1939; в рус. пер.—Введение в трансцендентальную философию. Предмет познания, 2 изд., К., 1904; Науки о природе и науки о культуре, СПБ, 1911.
Лит.: Софронов Ф., Г. Р. И его книга «Границы ес-тественно-науч. образования понятий», «Вопр. философии и психологии», 1905, кн. 78, [вып. 6]; Рубинштейн М., Г. Р., там же, 1907, кн. 86, [вып. 2J; П е р ц о в П., Гносеологич. недоразумения. (По поводу классификации наук Г. Р.), там же, 1909, кн. 96, [вып. 2]; А с м у с В. Ф., Маркс и буржуазный историзм, М.—Л., 1933; Г р и г о р ь я и Б. Т., Неокантианство. Критические очерки, М., 1962; Б а к р а д з е К. С, Очерки по истории новейшей и совр. бурж. философии, Тб., 1960; ТевзадзеГ. В., Теория познания нем. неокантианства, Тб., 1863 (на груз, яз.); Faust A.,H. Rickert uad seine Stellung innerhalb der deutschen Philosophic der Gegenwart, Tubingen, 1927; Reines С h.-W., Werttheorie und Kultur-philosophie zur Kritik von H. Rickerts «Grundlegung der Philo-sophie», В., [1930]; К a u f m a n n F., Geschichtsphilosophie der Gegenwart, В., 1931; F e d e r i с i F., La filosofia dei va-lori di H. Rickert, Firenze, 1933; Zocher R., H. Rickert's philosophische Entwicklung. Bemerkungen zum Problem der ptiilosopmschen Grundlehre, «Z. fur deutsche Kulturphilosophie», 1937, Bd 4, H. 1; R a m m i n g G., K. Jaspers und H. Rickert, Bern, 1948; Lukacs G., Die Zerstbrung der Vernunft, В., 1955; Mi lie r-R ostowska A., Das Individuelle als Gegenstand der Erkenntnis. Eine Studie zur Geschichtsmetho-dologie H. Rickerts, Winterthur, 1955. А . Огурцов . Москва.
РИЛЬ (Riehl), Алоиз (27 аир. 1844 — 21 нояб. 1924) — представитель т. н. критического реализма и реалистич. направления в неокантианстве; профессор ун-та в Граце (Австрия) и ряда герм, ун-тов, в т. ч. Берлинского (1905—19). Критикуя характерное для философии жизни противопоставление философии науке, Р. отстаивает неокантианский взгляд на философию. Вместе с тем он расходится с неокантианцами баденской школы, противопоставляющими науки о природе наукам о духе. Несмотря на то, что Р. в духе позитивизма критикует «метафизику» (к к-рой причисляет и материализм) за догматизм ее исходных позиций, он сам принимает т. зр. реализма — признает существование реальных вещей, к-рые составляют основу нашего знания, дают опыту человека содержание и образуют материал его знания и действия (см. «Теория науки и метафизика с т. зр. филос. критицизма», М., 1887, с. 203—04). Отвергая как наивный реализм, так и материалистич. теорию отражения, Р. вслед за Гелъмголъцем считает, что «чувственные впечатления и ощущения суть не изображения объектов, а знаки их» («Введение в совр. философию», М., 1903, с. 50). Опыт, согласно Р., есть психофизич. единство. Когда выдвигают в качестве исходной объективную сторону этого единства, то превращают мир в совокупность количественно измеряемых начал, а создание — лишь в функцию мозга; исходя же из субъективного аспекта, превращают мир в продукт сознания. Критикуя панпсихизм за веру в фетиши (см. «Теория науки...», с. 227) и материализм за превращение явления в самую реальность, Р. развивает концепцию психофизического параллелизма. Философия, согласно Р., есть не только самопознание науки (познание сущего), но и осмысление ценностей жизни человека (познание должного); к области ее относится «...то возможное, чтб человек должен еще создать своей волею и энергией» (там же, с. 23). Философия, т. о., включает область «практического разума», анализ проблем добра, нравственно-справедливого, свободного деяния человека.
Этика Р. основывается на кантианском понимании свободы воли и нравств. закона как «универсального закона» всех разумных существ, источником к-рого является самосознание.
С оч.: Moral und Dogma, W., 1871; Ober Begriff und Form der Philosophie, В., 1872; Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung fur die positive Wissenschaft., Bd 1—2, Lpz.,. 1876—87; Der Beruf der Philosophie in der Gegenwart, «Internal Monatsschrift», 1914, Bd 8, M» 10; в рус. нер. —Введение в совр. философию, СПБ, 1904; Философия в систематич. изложении..., СПБ, 1909.
Лит .: Siegel К., A. Riehl, Graz, 1932.
А. Огурцов. Москва.
РИМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ — антич. философия периода эллинизма (3—2 вв. до н. э.— 5—6 вв.). Можно говорить о выделении из этой эллинпетнч. философии собственно римской, связанной с теми философами, к-рые имели специальное отношение к самому Риму.
Западная Рим. империя развивалась на почве крупного рабовладения и землевладения, завоевания обширных территорий, приведшего к подчинению ми. национальностей, что вызвало необходимость создания огромного чиновничьего аппарата и разработки изощренных политич. методов управления. Для осуществления этих политич. задач необходима была тонко развитая личность, синтез небывалого универсализма и небывалого субъективизма. Для римлян было характерно соединение максимального практицизма и теоретич. устремлений, что вылилось в создание большого количества исследований в разных областях науки. Р. ф. отразила это соединение практицизма и логич. изощренности, универсализма п прихотливого субъективизма.
Осн. периоды Р. ф. выделяются соответственно этапам развития Рима. Пока римское рабовладение и землевладение росло чисто количественно, рим. филос. сознание стремилось выйти за узкие горизонты классич. полиса и связанной с ним полу религиозной, полусветской мифологии, стремилось отойти от старых религиозно-мифологических форм мысли. Но когда римская рабовладельческая империя стала мировой, она потребовала религиозно-мифологического освящения. Отсюда возникает и соответствующая периодизация Р. ф.
Первый период (3—1 вв. до н. э.) можно назвать просветительским или периодом секуляризации, т. е. освобождения науч. мысли от подчинения религии и мифологии. Возраставший субъект требовал для себя прав и хотел всячески охранить себя от тех обществ.-политич. катастроф, к-рыми сопровождался рост как Рим. республики, так и Рим. империи. Уже среди первых представителей рим. лит-ры был, напр., писатель Квинт Энний, к-рый составил не дошедшее до нас соч. под именем «Эвгемер», сохранившиеся фрагменты к-рого свидетельствуют о большой популярности в Риме греч. просветителя Эвгемера. В этот период на рим. почве развился стоицизм, ставший вскоре почти офиц. доктриной рим. государства, со своими требованиями освободить личность от всякой зависимости, со своим материализмом, провиденциализмом и фатализмом — кружок Сципиона Младшего (2-я половина 2 в. до н. э.), к к-рому принадлежали сатирик Гай Луцилий, Цицерон. Учителем этих сципионовс-ких стоиков был крупнейший греч. стоик Панеций. Панеций и его многочисленные ученики [кроме упомянутых — Квинт Туберон, Муций Сцевола, Ру-тилий Руф, Элий Стилон (учитель Варрона)} приблизили стоицизм к жизненным потребностям растущей Римской республики и вместо морали полной апатии прежних стоиков признавали живые чувства в человеке. Эпикуреизм был представлен, кроме Си-рона и Филодема, Лукрецием. В его философии Р. ф. охватывала весь мир во всей его универсальности и
РИМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
511
 глубоко понимала тончайшие потребности субъекта на путях его полного освобождения от страхов здешнего и загробного миров. Наконец, скептицизм, третья школа раннего эллинизма, нашедшая для себя место в Средней Академии, равно как и эклектизм Новой Академии, также имел в Риме таких приверженцев, как Варрон, представители школы Сек-стиев. Варрон оказал в дальнейшем плодотворное влияние на архитектора Витрувия, писателя и ученого Плиния Старшего. Многие шли от эпикурейства к стоицизму, как, например, поэты Вергилий и Гораций.
глубоко понимала тончайшие потребности субъекта на путях его полного освобождения от страхов здешнего и загробного миров. Наконец, скептицизм, третья школа раннего эллинизма, нашедшая для себя место в Средней Академии, равно как и эклектизм Новой Академии, также имел в Риме таких приверженцев, как Варрон, представители школы Сек-стиев. Варрон оказал в дальнейшем плодотворное влияние на архитектора Витрувия, писателя и ученого Плиния Старшего. Многие шли от эпикурейства к стоицизму, как, например, поэты Вергилий и Гораций.
Второй период (1 в. до н. э.—2 в.). В связи с концом республики в Риме и зарождением империи Р. ф. уже не могла оставаться только на просветительских позициях. Это был период начальной сакрализации, т. е. обратного секуляризации процесса подчинения науч. мысли религии и мифологии.
Образование огромной мировой рабовладельческой державы способствовало установлению абсолютистского управления, организации огромных людских масс и прежде всего неимоверно разросшегося рабского населения. В условиях античного мира такой абсолютизм получал религиозное освящение и оформление. Установился культ императора, и вся философия с тех пор чем дальше, тем больше приобретала не только цезареанский, но и теологич. характер. Уже Вергилий, в молодости эпикуреец, в дальнейшем, переходя к воспеванию Рим. империи, определенно стал на этот путь социально-политич. сакрализации, этим же кончил и Овидий, вначале вольнодумец, высланный из Рима. В 1 в. до н. э. выступил другой известный представитель греч. Средней Стой — Посидоний, к-рый реформировал стоицизм в религ.-мифологич., платонич. направлении, в результате чего и появилось целое течение стоич. платонизма, или Средняя Стоя, в ее более позднем виде получившая в Риме огромное распространение. Пифагорейски-пла-тонич. элементы можно предполагать еще у таких рхгм. стоиков 1 в. до и. э., как Секстий, Сотион, Ниги-дий Фигул. Крупнейшими представителями Р. ф. в этом отношении явились Сенека, Эпиктет и Аврелий. Учителем Сенеки был Аттал, а учителем Эпик-тета — Музоний Руф. Сакрализация была здесь не настолько сильна, чтобы заглушить др. филос. течения. Еще оставалась живой такая несакрализованная философия, как киническая, к к-рой в 1 в. н. э. нужно отнести Деметрия, Эномая, Демонакса, Перегрина, Феагена, Диона Хрисостома. Стоицизм этого времени легко объединялся и с науч.-астрономич. исследованиями — Манилий, Германии, и с аллегорич. мифоло-гич. толкованиями — Корнут, и с поэтич. творчеством — ученики Корнута Персии и Лукан, с историографией — Тацит, и доходил до проповеди честной простоты нравов, как, напр., у Колумеллы. Чисто практич. направление стоицизма этого времени представляли Катоы Утический, Пет Тразея и Гельвидий Приск. Можно отметить также и влияние позднего скептицизма (Энесидем, Секст Эмпирик и его ученик италиец Сатурнин), позднего эпикуреизма (Диоген из Эноанды), а также и перипатетической школы.
Третий период (2—3 вв.) — период развитой сакрализации философии. Орудием ее оставался платонизм. Однако теперь платонизм начал решит, борьбу со стоицизмом, с к-рым он еще недавно объединялся. Чтобы изгнать стоич. элементы из платонизма, рим. философы этого времени использовали Аристотеля (заменяя его концепциями материализм древних стоиков), а также пифагореизм, вместе с к-рым вводились в философию не только мистич. числовые операции, но также интен-
сивная религ. практика. Это вело к эклектизму, но с сильно выраженной сакрализованной тенденцией, к-рая подготавливала неоплатонизм следующего периода Р. ф. Теперь учились уже не у стоиков, но у пи-фагорействующих платоников типа Плутарха. Учениками Плутарха были Гай (к-рого не нужно принимать за знаменитого юриста Гая) и Фаворин, учениками же Гая были Альбин (к-рого слушал рим. врач и логик Гален) и Апулей из Мадавры. Апулей разрабатывал сакрализацию этого периода не только философскими, но и художеств, методами. К школе Гая принадлежал также анонимный комментатор «Теэтета» Платона. К платоникам относятся Кальвисий Тавр (учитель Авла Геллия, а также его ученик и друг Ирод Аттик и их современник Нигрин). К этому кругу принадлежали также Никострат, Аттик и его ученик Гарпократион, известный критик христианства Цельс, Север — комментатор «Тимея» Платона и грамматик Цензорин. Неопифагорейцами были Моде-рат, Секст («Флорилегий»), Секунд (личный знакомый ими. Адриана). Из христ. литературы к этому периоду относятся соч. Мануция Феликса, Тертуллиана, Цецилия, Киприана, Новациана, Коммодиана. Нек-рые гностики (см. Гностицизм), напр. Валентин, тоже были связаны с Римом.
Четвертый период Р. ф. (3—4 вв.)
представляет собой кульминацию сакра
лизованной философии — господство
неоплатонизма. В неоплатонизме на абсолютной
идеалистич. основе восторжествовал синтез универса
лизма и субъективизма. Основатель неоплатонизма
Плотин со своими учениками Амелием и Порфирием
жил и работал именно в Риме, так что эта начальная
стадия неоплатонизма так и носит название рим.
неоплатонизма. Последующие антич. школы неопла
тонизма развивались уже в Малой Азии, Афинах и
Александрии. Но печать рим. универсализма лежит
и на них. Традиции рим. неоплатонизма продолжили
христ. философ Августин и рим. имп. Юлиан, отступ
ник от христианства. В 4 в. Арнобий и Лактанций
доводят сакрализацию философии до полной отмены
самой философии, о чем особенно откровенно заявлял
Лактанций.
Пятый период Р. ф. (4—5 вв., хотя нек-рые деятели, относимые к этому периоду, жили и в 6 в.) характеризуется некоторым ослаблением неоплатонич. сакрализации философии, что характерно также для афинского и александрийского неоплатонизма. Эти философы больше переводили греков на лат. яз., больше комментировали Платона и Аристотеля и больше занимались собиранием историко-филос. и историко-религ. материалов, чем выработкой собств. концепции. К ним относятся неоплатоники лат. Запада: Корнелий Ла-беон, Халкидий, Марий Викторин, Веттий, Агорий Претекстат, Макробий, Фавоний, Эвлогий, из христ. мыслителей, богословов и поэтов — Пруденций, Павлин, Фирмик Матерн, Иероним Стридонский, Амвросий Медиоланский.
Шестой период (5—6 вв.) представляет собой уже переход к ср. векам. К этому периоду относятся неоплатоники Боэций и Марциан Капелла. Сакрализованная Р. ф. оказалась настолько сильной, что она пережила даже и падение Рим. империи, и падение всего греко-рим. язычества. Она легла в основу теократич. идеологии ср. веков, в тех или др. формах не раз выступала и в новое время. В эпоху Возрождения и в последующие века рим. неоплатонизм в борьбе со ср.-век. монотеизмом принял просветительские формы. Рим. мыслители Лукреций, Цицерон, Сенека, Марк Аврелий, Апулей становились властителями дум не меньше, а иной раз даже и больше, чем Платон и Аристотель.
512 РИСМЕН —РИТУАЛ
 Лит.: Маркс К., Тетради по истории эпикурейской, стоической и скептической философии, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Из ранних произведений, М.,1956;История философии, т. 1,[М.], 1940, разд. 4; История философии, т.1, М., 1957, гл. 2, разд. 5; Древнерим. мыслители. Свидетельства, тексты, фрагменты, сост. А. А. Аветисьян, [К.], 1958; Harder R., Die Einburgerung der Philosophie in Rom, в кн.: Die Antike, Bd 5, B.—Lpz., 1929; К a e r s t J., Scipio Amilianus, die Stoa und der Prinzipat, «Neue Jahrbiicher fur Wissenschaft und Jugendbildung», 1929, Jg. 5, H. 6, S. 653—75; Heine-m a n n I., Die griechische Weltanschauungslehre bei Juden und Romern, В., 1932; Seel O., Romische Denker und romischer Staat, Lpz., 1937; H eu er К. Н., Comitas, (acilitas, liberali-tas. Studien zur gesellschaftlichen Kultur der ciceronischen Zeit, Lengerich, 1941; Bracher K. D., Verfall und Fort-schritt im Denken der friihen romischen Kaiserzeit. Studien zur Zeitgefuhl und GeschichtsbewuBtsein des Jahrhunderts nach Augustus, Tubingen, 1949; Clarke M. L., The roman mind; studies in the history of thought from Cicero to Marcus Aurelius, Camb., 1956; [BeauJeuJ.,Itard J.], La science hellenistique et romaine, в кн.: La science antique et medie-vale, P., 1957, S. 301—413; G igon O., Die Erneuerung der Philosophie in der Zeit Ciceros, в кн.: Entretiens sur l'antiquite classique, t. 3, Gen., 1955, S. 23—61; H e i n z e R., Vom Geist des Romertums, 3 Aufl., Darmstadt, 1960; К г о 1 1 W., Die Kultur der ciceronischen Zeit, Bd 1—2, Lpz., 1963.
Лит.: Маркс К., Тетради по истории эпикурейской, стоической и скептической философии, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Из ранних произведений, М.,1956;История философии, т. 1,[М.], 1940, разд. 4; История философии, т.1, М., 1957, гл. 2, разд. 5; Древнерим. мыслители. Свидетельства, тексты, фрагменты, сост. А. А. Аветисьян, [К.], 1958; Harder R., Die Einburgerung der Philosophie in Rom, в кн.: Die Antike, Bd 5, B.—Lpz., 1929; К a e r s t J., Scipio Amilianus, die Stoa und der Prinzipat, «Neue Jahrbiicher fur Wissenschaft und Jugendbildung», 1929, Jg. 5, H. 6, S. 653—75; Heine-m a n n I., Die griechische Weltanschauungslehre bei Juden und Romern, В., 1932; Seel O., Romische Denker und romischer Staat, Lpz., 1937; H eu er К. Н., Comitas, (acilitas, liberali-tas. Studien zur gesellschaftlichen Kultur der ciceronischen Zeit, Lengerich, 1941; Bracher K. D., Verfall und Fort-schritt im Denken der friihen romischen Kaiserzeit. Studien zur Zeitgefuhl und GeschichtsbewuBtsein des Jahrhunderts nach Augustus, Tubingen, 1949; Clarke M. L., The roman mind; studies in the history of thought from Cicero to Marcus Aurelius, Camb., 1956; [BeauJeuJ.,Itard J.], La science hellenistique et romaine, в кн.: La science antique et medie-vale, P., 1957, S. 301—413; G igon O., Die Erneuerung der Philosophie in der Zeit Ciceros, в кн.: Entretiens sur l'antiquite classique, t. 3, Gen., 1955, S. 23—61; H e i n z e R., Vom Geist des Romertums, 3 Aufl., Darmstadt, 1960; К г о 1 1 W., Die Kultur der ciceronischen Zeit, Bd 1—2, Lpz., 1963.
А. Лосев. Москва.
РЙСМЕН (Riesman), Дейвид (р. 22 сент. 1909) — амер. социолог. По образованию юрист, с 1949 преподавал социальные науки в Чикагском ун-те, с 1958 — проф. социальных наук в Гарвардском ун-те.
Р. приобрел известность после выхода кн. «Одинокая толпа» («The lonely crowd», 1950, совм. с N. Gla-zer and R. Denney). В книге характеризуются процессы, происходящие в 20 в. в сфере обществ, психологии и культуры в США. В центре — переход от типа личности, к-рую Р. называет «личностью, ориентированной изнутри», к новому типу «личности, ориентированной извне». Первый тип — это бурж. личность эпохи свободного предпринимательства, руководствующаяся индивидуалистич. мотивами, демонстрирующая частнособственнич. инициативу и выступающая активным субъектом в конкретной борьбе. «Личность, ориентированная извне»,— личность бурж. индивидуума, попавшего в полное подчинение крупной бюрократия, орг-ции: корпорации, гос-ва, армии. Ее действия регулируются правилами (экономич., адм., идеологич.), устанавливаемыми этой орг-цией. Эта личность — объект внешнего авторитарного принуждения и манипуляции. Р. констатирует, что подобная эволюция «социального характера» сопровождается уродливыми и болезненными явлениями. Человек утрачивает внутр. цельность, внутр. источник энергии, переживает различные формы отчуждения и самоотчуждения («утраты самого себя»). Результатом часто является социальная аппатия, пессимизм, цинизм, ощущение душевной опустошенности. Р. подробно и ярко рисует различные формы и стороны этих болезненных процессов, проявляющихся в сфере политики, образования, науч. деятельности, в «популярной» лит-ре и иск-ве, в семье и быту людей в США. Конкретизации и документальному подтверждению своих общих концепций Р. посвятил широкое эмпирич. исследование, обобщенное в кн. «Лица в толпе» («Faces in the crowd», New Haven, 1952).
В работе «Социальные проблемы и дезорганизация в сфере труда» [«Social problems and disorganization in the world of work» (совм. с R. Weiss), в сб.: Contemporary social problems, ed. by R. K. Merton and R. A. Nisbet, N. Y.— Burlingame, 1961] P. описывает распадение традиционной психологии «амер. деловитости» в связи с кризисом стимулов, порожденных эпохой свободного предпринимательства в США, и распространение «потребительской психологии» — психологии обывателя, поклоняющегося «идолам потребления и развлечения». Р., однако, неправильно истолковывает природу и причины этих процессов, отрывая их от объективной логики бурж. производств, отношений, от логики перерастания капитализма
19 в. в гос.-монополистич. капитализм. Р. пытается представить эти процессы как всеобщие и связанные либо с ростом населения (впрочем, от этой т. зр., выраженной в кн. «Одинокая толпа», он позднее отказался), либо с развитием техники, с усложнением пром. произ-ва и урбанизацией. Резко критикуя бюрократия, тоталитаризм в США, он не понимает связи последнего с социально-классовой структурой и с задачами классового командования в условиях растущей поляризации правящих кругов и широких масс населения. Выступая против подавления, принудит, стандартизации и нивелирования личности в системе гос.-монополистич. бюрократии, Р. склонен идеализировать амер. капитализм 19 в. (особенно это проявляется в кн. «Заново пересмотренный индивидуализм» — «Individualism reconsidered», Glencoe, 1954). Т. о., его взгляд обращен скорее в прошлое, чем в будущее. Одновременно он пытается сконструировать т. н. «автономную» личность, соединяющую индивидуализм с приспособленностью к «групповой» и социально организованной деятельности, но эта схема выглядит искусственно, абстрактно и утопично.
Р. принадлежат мн. работы и статьи, направленные против маккартизма, милитаризма и антикоммунизма, написанные с позиций бурж. демократизма и гуманизма [напр., ст. «Амер. кризис» — «An American crisis» (совм. с М. Массову), в журн. «New Left Review», 1960, № 5]. Большинство работ Р. в той или иной мере выходит за рамки одностороннего социологич. эмпиризма позитивистского толка, что объясняет их большое влияние на молодых социологов США, стремящихся к более широким обобщениям и социальной критике.
С о ч.: Civil liberties in a period of transition, [s. 1.1, 1942; Thorstein Veblen, N. Y., 1960; Constraint and variety in American education, [Lincoln (Nebrasca), 1956].
Лит .: Андреева Г. М., Совр. бурш, эмпирич. социо
логия, М., 1965; Замошкин А., Кризис бурш, индивидуа
лизма и личность, М., 1966; Culture and social character. The
work ot D. Riesman reviewed, ed. by S. Lipset and L. Lowenthal,
[Glencoe, 1961]. Ю. Замошкин. Москва.
РИТУАЛ (лат. ritualis — обрядовый, от ritus — торжеств, церемония)—исторически сложившаяся или специально установленная форма поведения, в к-рой строго канонизированный способ исполнения действия лишен непосредств. целесообразности и служит лишь обозначением (символом) определ. социального отношения (существующего социального порядка, признания к.-л. ценностей или авторитетов и т. п.).
Значение и происхождение Р. отчетливо прослеживается в связи с религ. культами. Система ритуальных действий (обрядов) является, наряду с мифологией и теологией, одним из выражений отношения людей к «священным» объектам, в т. ч. к «неприкосновенным» институтам и непререкаемым социальным нормам. В религ. сознании такие действия выступают как средство мистич. воздействия на «священные» силы (магия) либо как способ закрепления наличной системы культовых отношений. В большинство древних религий Р. служит гл. выражением культовых отношений (ср. высказывание Энгельса о роли обрядности в дохрист. культах — см. К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., 2 изд., т. 19, с. 313). В дальнейшем с обособлением мифологии, а затем и религ.-филос. идей от культовой практики, создаются мифологич. комплексы, служащие объяснению древних Р., и, наоборот, ритуальные средства «драматизации» мифа. Хотя такие религии, как христианство, особенно в его протестантских формах, провозглашают примат «духовной» стороны (вероучения и чувства) перед Р., практически сохранение религ. отношений в массах обеспечивается прежде всего действием традиц. систем Р., к-рые составляют наиболее консервативный (и наименее поддающийся воздействию рацион, критики) элемент религии. Одним из моментов совр. процессов секуляризации обществ.
РИХТЕР —РИШАР СЕН-ВИКТОРСКИЙ
513
 жизни является постепенная утрата Р. своего «священного» значения.
жизни является постепенная утрата Р. своего «священного» значения.
Генезис Р. можно рассматривать и в более широком плане в связи с прогрессирующим обособлением сим-волич. действия от непосредственно целесообразного, поскольку «...ритуальный жест является не столько действием, сколько наглядным изображением действия» (Валлон А., От действия к мысли, М., 1956, с. 125). Выполняя какие-то более «вторичные» обществ, функции — трансляции трудового навыка, фиксации установившихся способов деятельности, формирования простейших обществ, представлений и т. д., Р. играет важную роль в истории общества (особенно в добурж. системах) как традиционно выработанный метод социального воспитания индивидов, приобщения их к коллективным нормам жизни. Развитие правовых норм, системы нравств. представлений, элементов рацион, поведения личности и науч. сознания вытесняет Р. на периферию обществ, жизни, гл. обр. в область церемониальных форм офиц. поведения и бытовых отношений, когда осознание индивидами усваиваемых ими обществ, норм является невозможным или излишним. Использование и создание ритз'альных форм как средства массового идеологич. насилия чрезвычайно характерно для тоталитарно-фашистских, национа-листич., расистских режимов.
Значение Р. неоднократно служило предметом острых дискуссий среди историков, этнографов (О. Э. Харрисон, Б. Малиновский, К. Клакхон), философов (Э. Кассирер), а в последнее время также лингвистов и семиотиков.
Лит.: Кагаров Е. Г., К вопросу о классификации нар. обрядов, «ДАН СССР», 1928, № 11; Пропп В. Я., Историч. корни волшебной сказки, Л., 1946; Вийдалелп Р. Я., Исполнение нар. сказок, как производственно-магич. обряд, М., 1964; MacDonald M., Ethics and the ceremonial use of language, в кн.: Philosophical analysis, ed. by M. Black, Ithaca, 1950; К г о e b e г A. L., The nature of culture, Chi., 1952; Durkheim E., Les formes elementaires de la vie religieuse, 4 ed., P., 1960. См. также лит. при ст. Ма гия, Мифология, Обычай. О. Дробницкий, Ю. Лезада. Москва.
РИХТЕР (Richter; псевдоним—Ж а н Поль, Jean Ран]), Иоганн Пауль Фридрих (21. III . 1763, Вунзн-дель, —14.XI.1825, Байрёйт) — нем. писатель и философ, автор романов «Зибенкэз», «Титан» и др. Занимает значит, место в истории нем. эстетики и педагогики. Идеи и общее направление философии Р. восходят к Гердеру: эмпиризм, сенсуализм, интерес к проблемам человеч. личности (отсюда увлеченность раннего Рихтера Руссо), понимание действительности как «орга-нич. целого», обусловившее, в частности, его взгляды на природу языка [см. «Ключи к Фихте» («Clavis Fichtiana», 1800) в приложении к роману «Титан»]. С этим сложно переплетаются идеи, заимствованные из др. источников (Р. был широко эрудирован, знаком с философией Платона, англ. и франц. деизмом, Лейбницем, нем. рационализмом, современными ему филос. системами).
Р. не проводит четкой грани между философией и художеств, творчеством: для Р. философия — целостный отклик на действительность, сочетающийся с метафоричностью изложения, но не исключающий абстракции и отвлеченной терминологии. Акцентирование первичности интуиции в познании (и свободной фантазии в творчестве) сближает Р. с «истинной», по его выражению, философией Якоби. В духе всей эпохи Р. рассматривает явления в системе противостоящих категорий, занимая срединное или примирительное — между рационализмом и романтизмом — положение в решении многих конкретных проблем (жизнь — произв. иск-ва, идеал — действительность). Так, в «Подготовительной школе эстетики» («Vorschule der Asthetik», TIamb., 1804), «Леване, или Учении о воспитании» («Levana oder Erziehungslehre», Braunschweig, 1807) P. выделяет (по степени внесения субъ-
ективного начала в реальную действительность) два полярных типа творчества — «поэтического материалиста» и «поэтического нигилиста», но видит идеал не в высшем типе, синтезирующем оба типа и преодолевающем их односторонность, а в их сочетании. Антитезы Р., т. о., оказываются непреодолимыми. Враждебность филос. систематике и незаинтересованность в абстрактных проблемах («житейский реализм» Р.: он критикует идеализм с т. зр. эмпирич. наблюдателя действительности) приводит Р. к критике философии Канта, с к-рым его сближает этич. ригоризм, и к осуждению философии Фихте с т. зр. возможных моральных последствий ее: диалектику становления «Я» у Фихте Р. (для к-рого «Я» — исходная эмпирич. данность) не принимает всерьез.
В эстетике Р. наиболее замечательным по методу является анализ комического, процесс восприятия к-рого Р. членит на три ступени: созерцающий субъект воспринимает нек-рую ситуацию («чувственное отношение»), затем он отмечает «объективный контраст» между поведением комич. субъекта и условиями ситуации и, наконец, он бессознательно сообщает комич. субъекту свое знание ситуации, приписывая ему свои желания и план поведения, и образует, т. о., внутр. «субъективный контраст» между поведением и желаниями комич. субъекта — эта интуитивная ложная подстановка и приводит к преобразованию объективной нелепости в субъективный эффект комического.
Интерес к проблеме личности с тяготением к психология, эмпиризму (поздний Р. высоко оценил за такой подход Гербарта) наиболее ясно выразился в «Леване» — соч., находящемся в русле послеруссо-пстской педагогики, но мало обязанном Руссо в деталях. Его пафосом является идея раскрытия в каждом индивиде его «идеального человека» (это и тема художеств, соч. Р.). Отстаивание права на свободное развитие каждой индивидуальности — наиболее сильная сторона обществ, убеждений Р.
Соч.: Samtliche Werke. Historisch-kritis3he Ausgabe, Abt. 1—3, Bd 1— [33], Weimar—В., 1927—64; Werke. Auswahl, hrsg. vonK. Freye, В. —[u. a.], [1908|; Werke, Bd 1—6, Miinch., 1960—63; в рус. пер.— Зибенкэз, Л., 1937.
Лит .: Сретенский Н. Н., Историч. введение в поэтику комического, ч. 1—Учение Жана-Поля о комическом, Ростов-на-Дону, 1926; А дм о ни В., Жан-Поль Рихтер, в сб.: Ранний бурж. реализм, Л., 1936; Schneider F. J., Jean-Pauls Jugend und erstes Auftreten in der Literatur, В., 1905; Munch W., Jean Paul der Verfasser der Levana, В., 1907; В e r e n d Ed., Jean Pauls Asthetik, В., 1909; его же, Jean-Paul Bibliographie, [2 Aufl.], Stuttg., [1963]; К о m-m ere 11 M., Jean Pauls Verhaltnis zu Rousseau, Marburg, 1924; его же, Jean Paul, 2 Aufl., Fr.,M., [1957]; M a r k-wardt В., Geschichte der deutschen Poctik, Bd 3, В., 1958.
Ал. В. Михайлов. Москва.
РИШАР СЕН-ВИКТОРСКИЙ (Richard de Saint-Victor) (ум. 1173)—франц. теолог, представитель реакц. ортодокс.-мистич. направления ор.-век. философии. По происхождению шотландец. Ученик Гуго Сен-Виктор-ского, прозванный «великим созерцателем». Был приором монастыря св. Виктора в Париже и преподавателем Сен-Викторской школы. Его мистико-схоластич. система, развивая идеи Бернара Клервоского и особенно Гуго Сен-Викторского, явилась глубоко противоречивой попыткой примирения веры и разума при приоритете веры. Он развил учение Гуго о ступенях «восхождения» к знанию: от эмпирической через рассудочную к созерцательной. Это учение Р. С.-В. пытался обосновать с помощью анализа человеч. психики. На первый план при этом он выдвигал самопознание, понимаемое как средство отрешения от всего чувственного и обращения к чистому созерцанию. В идее Р. С.-В. о непосредств. слиянии души с богом в мистич. созерцании, когда «часть становится не менее целого, а целое не более части», содержалась определ. идеалистич.-пантеистич. тенденция, не получившая, однако, антицерк. направленности. Ставя
514
РОБЕРТ ГРОССЕТЕСТ — РОБЕСПЬЕР
 мистич. созерцание выше логич. мышления, Р. С.-В. отвергал антич. философию и нападал на ср.-век. схоластов-«диалектиков» за то, что они «ищут какой-то иной мудрости, кроме христ. вероучения, и предпочитают следовать Аристотелю, а не Христу». Вместе с тем он сам продолжал схоластич. линию Ансельма Кентерберийского с его принципом «верую, чтобы понимать». Он отличал разум (intelligentia) от рассудка (ratio) и рассматривал разум как промежуточную ступень между рассудком и созерцанием; логич. аргументы он допускал в качестве орудия познания высшей истины, но только при сверхнатуральном «озарении» разума, опирающегося на веру. Идеи Р. С-В. оказали влияние на формирование взглядов Бонавентуры и дальнейшее развитие мистич. направления ср.-век. философии.
мистич. созерцание выше логич. мышления, Р. С.-В. отвергал антич. философию и нападал на ср.-век. схоластов-«диалектиков» за то, что они «ищут какой-то иной мудрости, кроме христ. вероучения, и предпочитают следовать Аристотелю, а не Христу». Вместе с тем он сам продолжал схоластич. линию Ансельма Кентерберийского с его принципом «верую, чтобы понимать». Он отличал разум (intelligentia) от рассудка (ratio) и рассматривал разум как промежуточную ступень между рассудком и созерцанием; логич. аргументы он допускал в качестве орудия познания высшей истины, но только при сверхнатуральном «озарении» разума, опирающегося на веру. Идеи Р. С-В. оказали влияние на формирование взглядов Бонавентуры и дальнейшее развитие мистич. направления ср.-век. философии.
Соч.: Opera omnia, P., 1855 (Migne, PL, t. 196).
Лит.: Вертеловский А., Зап. средневековая мистика и отношение ее к католичеству, вып. 1, X., 1888; Т р а х-тенберг О. В., Очерки по истории зап.-европ. средневековой философии, М., 1957; Сидорова Н. А., Очерки по истории ранней городской культуры во Франции, М., 1953; С а г m е 1 о О., Riccardo di San Vittore, Roma, 1933; L e n g-1 а г t M., La theorie de la contemplation mystique dans I'oeuv-re de Richard de Saint-Victor, P., 1935; Grabmann M., Die Geschichte der scholastischen Methodc, Bd 1—2, Freiburg im Breisgau, 1911; neue Ausg., В., 1956. С. Стаж. Саратов.
РОБЕРТ ГРОССЕТЕСТ (Robert Grosseteste) (Большеголовый) (1175 — 9 окт. 1253) — англ. естествоиспытатель и философ. Учился и преподавал в Оксфорде, с 1235— епископ Линкольнский. Как и его ученик Р. Бэкон, Р. Г. придавал исключительно важное значение математике и оптике. По Р. Г., свет, обладающий способностью распространяться во все стороны «из силового центра», является началом образования всех телесных форм, т. е. протяженности. Др. физич. силы Р. пытался объяснить на основе своего учения о свете (т. п. «световой метафизики»), т. е. по возможности геометризировать представления о них. По Р. Г., «польза изучения линий, углов и фигур — величайшая, ибо без них невозможно постичь натуральную философию» [«De luce», цит. по кн.: «Die pliilosophischen Werke des Robert Grosseteste», hrsg. von L. Baur, Miinster — W., 1912, S. 59; имеется англ. перевод этого соч.— «On light (De luce), transl. from the Latin with an introd. by С. С. Riedl», Milwaukee, 1942]. Следуя антич. образцам (Аристотель, Гален), Р. Г. формулировал осн. принципы экспериментального метода. Исследование начинается с изучения явлений, данных в опыте, и восходит к их предполагаемой причине (анализ — resolutio); из этой гипотетич. причины дедуктивно выводятся следствия (синтез — compositio), к-рые подлежат затем опытной проверке. Эти свои тезисы Р. иллюстрировал на примере теории радуги. Р. перевел с греческого и комментировал соч. Аристотеля, Дионисия Ареопагита и Иоанна Дамаскина.
С о ч.: The Hexameron (первые 12 глав 7-й части), ed. J. T. Muckle, Mediaeval Studies, v. 6, N. Y,— Toronto, 1944; The writings of R. Grosseteste, ed. by S. Harrison Thomson, Camb., 1940 (имеется библ. изданных и неизданных произв. Р.).
Лит .: В a u r L., Das Licht in der Naturphilosophie des R.
Grosseteste, в кн.: Abhandlungen aus dem Gebiete der Philoso
phic und ihrer Geschichte, eine Festgabe zum 70. Geburtstag G.
von Hertling, Freiburg im Breisgau, 1913, S. 41—55; его же,
Die Philosophie des R. Grosseteste, Miinster im Westfalen,
1917; С г о m b i e A. C, R. Grosseteste and the origins of ex
perimental science, Oxf., 1953; R. Grosseteste. Scholar and
bishop, ed. by D. A. Callus, Oxf., 1955. \ в . Зубов ]. Москва.
РОБЁРТИ — см. Де-Роберти.
РОБЕСПЬЕР (Robespierre), Максимильен Мари Изидор де (6 мая 1758—28 июля 1794) — политич. мыслитель, деятель франц. бурж. революции конца 18 в. Род. в г. Аррасе в семье адвоката. Окончив юридич. фак-т Парижского ун-та, занимался адвокатской практикой в Аррасе (1781—88), принимал деятельное участие в работе Аррасской академии в качестве ее члена (1783), а затем президента (1786). В соч.
|
|
этого периода («О бесчестящих наказаниях» и др.г см. в его кн.Революционная законность и правосудие, предисл. А. Герцензона, М., 1959) развивал мысль о> естеств. правах человека, критикуя с этой т. зр. франц. законодательство. Депутат Генеральных Штатов (1789) и Учредит, собрания. Член Конвента с сент. 1792, член Комитета обществ, спасения (июль 1793), фактич. глава якобинского пр-ва. Казнен на следующий день после контрреволюционного переворота 27 июля (9 термидора) 1794.
В своих выступлениях («О принципах революционного правительства», «О принципах политич. морали», напечатанных там же, с. 193—202 и 203— 220) Р. теоретически обосновал необходимость революционной демократической диктатуры; это было важным шагом в развитии политической теории.
Мировоззрение Р. сложилось под влиянием Ж. Ж. Руссо, с к-рым он был лично знаком. В политической области Р. отстаивал идеи нар. суверенитета и политич. равенства (нашедших выражение в конституции 1793). Р. был сторонником мелкой частной собственности, возможно более равномерно распределенной между всеми членами общества. В философ, вопросах примыкал к деизму Руссо. Р. был враждебно настроен к материализму и атеизму, утверждал, что атеизм подрывает обществ, мораль, что «атеизм аристократичен. Мысль о великом существе, бодрствующем над угнетенной невинностью и карающем торжествующее преступление, в высшей степени демократична... Если бы бога не существовало надо было бы изобрести его» (Доклад 21 ноября 1793, цит. по кн.: О л а р А., Политическая история франц. революции, М., 1938, с. 575). Отвергая христианство и все существующие религии, Р. считал практически целесообразным установить новую, «естественную» религию, основанную на вере в бога и бессмертие души. Эта религия должна освятить принятые в обществе моральные нормы. Стремясь найти в новой религии дополнит, средство сплочения народа вокруг якобинцев, Р. добился (7 мая 1794) введения Конвентом культа «верховного существа» как гражд. религии. В то же время Р. выступал против попыток адм. мерами уничтожить христ. религию («дехристианизаторское движение»), был сторонником свободы культов.
Идеологи феод, и бурж. реакции клеветали на Р., изображая его кровожадным тираном. Разоблачая эту фальсификацию, классики марксизма высоко оценивали Р. (почти во всех томах Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса содержатся их высказывания о Р.— см. именные указатели к томам). Ленин оценивал Р. как вождя «...наиболее последовательных буржуазных демократов — якобинцев эпохи великой французской революции» (Соч., т. 8, с. 399), как решит, борца против контрреволюции.
Франц. коммунисты называют Р. в числе великих представителей франц. народа.
Соч.: Oeuvres completes, v. 1 — 9, P.—Nancy, 1910—1958 (изд. не закончено); Textesehoisis, v. 1—3, P., [1956]—58; в рус. пер.—Избр. произв., т. 1—3, М., 1965; Речь о всеобщей подаче голосов, [П., 1917]; Переписка, Л., 1929.
Лит.: Робеспьер Ш., Воспоминания, пер. с франц., Л., 1925; Торез М., Робеспьер. Великий образ франц. революции, «Интернациональная лит-ра», 1939, № 5—6; X а с и -д о в и ч М. А., Политич. учение Р., М., 1952 (автореф. дисс); История философии, т. 1, М., 1957, с. 593—94; Д а л и н В. М., Р. и Бабеф, «Новая и новейшая история», 1958. № 6; М а я-ф р е д А. 3., М. Р.— выдающийся деятель великой франц. бурж. революции, М., 1958; е г о ж е, Споры о Р., «Вопр. истории», 1958, № 7; Л е в а н д о в с к и й А. П., М. Робеспьер, М., 1959; Л у к и н Н. М., М. Робеспьер, Избр. тр., т. 1, М.,
РОБИНЕ—РОД 515
 I960; В г il n n e m a n n С. О. М., М. Robespierre. Ein Lebens-
I960; В г il n n e m a n n С. О. М., М. Robespierre. Ein Lebens-
bild, Lpz., 1880; S с h a t z R., J.-J. Rousseau's Einfluss auf
Robespierre, Borna—Lpz., 1905; Warwick С h. F., Robes
pierre and the French revolution, Phil., [1909]; Mornand
P., L'enigme Robespierre, P., [1952]; Thompson J. M.,
Robespierre and the French revolution, L., [1952]; Massln
J., Robespierre, [P.], 1956; Bouloiseau M., Robespierre,
P., 1957; Bi-centenaire de la naissance de Robespierre (1758—
1958), Nancy, [1958]; M a t h i e z A., Etudes sur Robespierre
(1758—1794), P., [1958]; P e s с h к e G., Dec stahlerne Wind.
Historische Erzahlung um M. Robespierre, В., [1959]; В е s-
sand-Massenet P., Robespierre. L'homme et l'idee,
[P., 1961]; M. Robespierre. 1758—1794, mit einem Vorwort von
G. Lefebvre, В., 1961. В. Кузнецов. Москва.
РОБИНЕ (Robinet), Жан Батист Рене (23 июня 1735— 24 марта 1820) — «...тот французский материалист, который больше всех сохранил ещё связь с метафизикой и за это удостоился похвалы Гегеля...» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 2, с. 145). Род. в г. Ренн в семье типографа; учился в иезуитском коллеже. Порвав с иезуитами, Р. издал свое осн. произв. «О природе», к-рое ввело его в среду деятелей Просвещения. Выпустил 4 тт. комментариев на словарь Бейля, 5 тт. дополнений к Энциклопедии Дидро. Революцию Р. приветствовал и в начальный ее период принимал активное участие в политич. борьбе (см. И. К. Луппол, Историко-философ. этюды, М.—Л., 1935, с. 136—65). Перед смертью по настоянию церкви Р. подписал отречение от своих взглядов.
Филос. воззрения Р. сформировались под влиянием философии Локка, Лейбница, Кондилъяка, физики Декарта, а также биологич. теорий 17—18 вв. Мате-риалистич. взгляд на мир Р. сочетал с деизмом. В связи с проблемой теодицеи Р. провозглашал универсальный закон равенства добра и зла, согласно к-рому в каждой вещи и каждом явлении добро и зло, положительное и отрицательное — уравновешены; Р. подходил здесь к мысли о противоречивом характере бытия. С позиций деизма Р. отвергал все существующие религии, обвиняя их в антропоморфизме.
Материю Р. считал одушевленной (гилозоизм); все тела природы обладают животными функциями — питанием, ростом, размножением, «материя носит по существу животный характер» (см. «О природе», [М.], 1935, с. 430). В основе материи лежит живая молекула (зачаток), наделенная внутр. активностью, мельчайший животный организм (анималькула). По Р., существует закон непрерывности всех земных существ, с различной степенью совершенства осуществляющих некий прототип; природа представляет собой лестницу существ, на вершине к-рой находится человек. Эта концепция является своеобразным предвосхищением эволюц. теории и вместе с тем диалектич. догадкой о всеобщей связи явлений, о природе как целом, имеющем в себе самом источник активности и развития.
В теории познания Р.— сенсуалист, разрабатывающий проблему материального субстрата ощущений (нервные фибры). Решая проблему происхождения моральных чувств, Р. стоял на вульгарно-материалис-тич. позициях, выводя эти чувства непосредственно из физиологии человека.
Стремление построить законченную филос. систему, абстрактность и умозрительность рассуждений,использование схоластич. определений и понятий, опора на Лейбница — все это сближает Р. с философией 17 в. и отличает его от передовых философов-просветителей. Теория всеобщей органичности материи была подвергнута критике прогрессивными деятелями франц. философии — Делиль де Салем и Бонне. В то же время критика Р. религии и защита сенсуализма были сочувственно встречены просветителями. В ряде произведений Дидро обнаруживается близость к теории Р. Влияние органистич. идей Р. сильно сказывается в натурфилософии Шеллинга и частично Гегеля. С опровержением сенсуализма и критики религии Р.
выступили франц. священники Баррюэль и Ришар в книге «Природа в противоречии с религией и разумом» (Abbe Barruel et Pater Richard, La nature en contraste avec la religion et la raison, P., 1773).
В. Кузнецов. Москва.
Соч.: «О природ е» («De la nature») — осн. соч. Р.,
вышло в Амстердаме в 4 тт. в 1761—66. К этому произведению
примыкает работа «Филос. соображения о естественной гра
дации форм бытия, или Опыты о природе, которая учится соз
давать человека» («Considerations philosophiques de la gradation
naturelle des formes de l'etre, ou les essais de la nature qui
apprend a faire l'homme»), вышедшая в Амстердаме и в Париже
в 1768; на титульном листе было указано, что это 5-й том соч.
«О природе». Первый том, вышедший анонимно, был встречен
с большим интересом; его приписывали Дидро, Гельвецию.
В 1762 Р. раскрыл свое авторство, в 1763 этот том вышел вто
рым изданием. В 1764 1-й т. был переведен на нем. яз. («Von der
Natur»,Fr./M.—Lpz.). На рус. яз. отрывки из соч. Р. были опуб
ликованы в «Книге для чтения по истории философии» (сост.
А. М. Деборин, с примеч. И. Луппола, т. 2, [М.], 1925) и в сб.:
Франц. просветители XVIII в. о религии, вступит, ст. А. Ка-
зарина (М., 1960, с. 515—20); сокращенный перевод«0 природе»
издан в 1935 ([М.], пер. П. С. Юшкевича, ред. и предисл. Е.
Ситковского); в приложении дан перевод наиболее интересных
отрывков из «Филос. соображений о естественной градации
форм бытия...». Л. Азарх. Москва.
«Филос. рассуяедение о человеке и его превосходствах..., которое на российский язык переложил Петр Соколовский», Воронеж, 1800.
Лит.: История философии, т. 2, [М.], 1941, с. 440—42; История философии, т. 1, М., 1957, с. 565—67; Ворон ицын И. П., История атеизма, 3 изд., [М.], 1930; Л у п п о л И. К., Дени Дидро, [3 изд.], М., 1960; Васильев С. Ф., Ж. Б. Р. и его философия, в его кн.: Из истории науч. мировоззрений, М.—Л.,1935; Брушлинский В., Материализм Р., «Вестник Ком. Акад.», 1935, Л» 3; В. Р., К вопросу об извращениях взглядов Ж. Б. Р. в бурж. истории философии и науки, «ПЗМ», 1936, Л» 11; С и т к о в с к и й В., Философия Ж. Б. Р., М., 1936 (рец. В. Родкевича, «Фронт науки и техники», 1936, № 9); Л у п п о л И., К вопросу о политич. взглядах Ж. Б. Р., «ПЗМ», 1935, № 2; Buhle J. G., Geschichte der neuern Philosophie..., Bd 6, Abt 1, Gott., 1804; D amir on Ph., Memoires pour servir a l'histoire de la philosophie au XVIII siecle, t. 2, P., 1858; Albert R., Die Philosophie Robinets, [Lpz.], 1903; Mauthner F., Der Atheismus und seine Geschichte im Agendlande, Bd 3, Stuttg.—В., 1922, S. 130—32; Rosso C, Moralist! del «Bonheur», Torino, 1954, p. 49—76.
В. Кузнецов. Москва.
РОГОВИН, Семен Миронович (10 июля 1885— 3 мая 1938) — историк философии, профессор философии права Моск. ун-та. Перевел на рус. язык ряд произв. классиков философии: Марк Аврелий, Наедине с собой (М., 1914); В. Спиноза, Политич. трактат (М., 1910); Д. Юм, Диалоги о естеств. религии (М., 1908); Н. Макиавелли, Князь (М., 1910), И. Кант, Вечный мир (М., 1905); Г. Еллинек, Адам в учении о государстве (М., 1909). В кн. Деизм и Давид Юм (М., 1908) Р. выдвинул предположение, что Юм, лишенный возможности открыто высказать свои взгляды на природу религии, не идентифицирует себя ни с одним из участников «Диалогов о естеств. религии». Р. показал, что собств. взгляды Юма на религию есть «своеобразная форма пантеизма».
РОД — кровнородств. объединение людей, пришедшее на смену первобытному человеческому стаду, осн. ячейка общества вплоть до начала становления классов. Вывод о том, что Р. является основой доклассового общества, впервые был обоснован на большом материале Л. Морганом и имел важнейшее науч. значение (см. Ф. Энгельс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 22, с. 223). Возникновением Р. завершился длит, процесс становления человеч. общества. Р. появился, когда социальные отношения полностью вытеснили из человеч. коллектива биологические по своей природе половые отношения. Родовые связи были формой, в к-рой существовали в ту эпоху социальные, производств, отношения. См. Первобытнообщинная формация.
Ю. Семенов. Рязань»
РОД (в л о г и к е) — термин, к-рым в нематем. формальной логике обозначают объем понятия, являющегося более общим (широким), как говорят,— родовым по отношению к нек-рому другому (видовому) понятию. Объем видового понятия входит в данный Р.
516 РОДБЕРТУС-ЯГЕЦОВ — РОЗАНОВ
 и наз. его видом. Термины «Р.» и «вид» употребляются также как равнозначные соответственно терминам «родовое понятие» и «видовое понятие»- Отношение между понятиями, объемы к-рых относятся друг к другу как Р. к виду, подчиняется закону о б-р а т"н ого отношения между содержанием и объемом понятия. См. Понятие.
и наз. его видом. Термины «Р.» и «вид» употребляются также как равнозначные соответственно терминам «родовое понятие» и «видовое понятие»- Отношение между понятиями, объемы к-рых относятся друг к другу как Р. к виду, подчиняется закону о б-р а т"н ого отношения между содержанием и объемом понятия. См. Понятие.
РОДБЁРТУС-ЯГЕЦОВ (Rodbertus-Jagetzow), Карл Иоганн (1805—75) — нем. бурж. экономист, идеолог прусского юнкерства, крайний реакционер, монархист и националист, проповедник т. н. «государственного социализма», с позиций к-рого пытался увековечить прусский монархич. строй и опорочить марксизм.
РОДЖЕРС (Rogers), Артур Кеньон (27 дек. 1868— 1 нояб. 1936) — амер. бурж. философ, один из основателей критического реализма, соавтор сборников: «Очерки критического реализма» («Essays in critical realism», L., 1920) и «Совр. амер. философия» («Contemporary American philosophy», у. 2, L.—N. Y-, 1930). Соч.: A student's history of philosophy, N. Y.—L., 1901; The religions, conception of the world, L.—N. Y., 1907; English and American philosophy since 1800, N. Y., 1922; The theory of ethics, N. Y., 1922; What is truth?, New Haven, 1923. Лит.: X и л л Т. И., Совр. теории познания, пер- с англ., М., 1965, с. 161 — 63.
РОДб (Rodo), Xoce Энрике (15 июля 1872— май 1917)—уругв. мыслитель, классик латиноамер. лит-ры; руководил кафедрой лит-ры в ун-те в Монтевидео (1898—1901), был депутатом парламента (кортесов) (190.2—08). Р.— один из основателей (1895) журнала «Rivista nacional de literatura y de ciencias socia-les» («Национальный журнал по литературе и социальным наукам»).
Р. с позиций романтич. гуманизма выступает против позитивизма и прагматизма. В центре внимания 'Р.— проблемы, связанные с личностью, индивидом, его поведением, духовной свободой, а также этич. и эстетич. ценности. В жизни отдельного индивида и общества в целом Р. видит борьбу двух противоположных сил — духовности и низменных инстинктов, грубого утилитаризма. Р. призывает бороться против тех, кто пытается «...нарушить с помощью того же утилитаризма и преждевременной узкой специализации природную цельность человеческих душ...» («Ariel», В. Aires, 1948, р. 69). Профессионализм, утверждает Р., может привести к тому, что люди «...внутри одного и того же общества будут жить разделенными друг от друга ледяными пустынями душ...» (там же). Согласно Р., индивид, как и общество, постоянно изменяется, однако этот процесс рассматривается лишь в духовной сфере, изолированно от материальных условий. Критикуя бездушие капиталистич. строя, Р., однако, не выступает за его ликвидацию, полагая, что избавиться от социальных зол можно лишь путем духовного обновления, к-рое в состоянии осуществить лат. культура, своеобразно сочетающая греч. иск-во с христианской моралью. Р. резко выступает против расизма, защищает идею независимости латиноамер. стран, подчеркивает необходимость развития нац. самосознания.
Соч.: Obras completas, ed. S. A. Aguilar, Md, 1957. Лит.: История философии, т. 5, М., 1961, с. 774—75.
А. Дерюгина. Москва. РОЖИН, Василий Павлович (р. 7 янв. 1908) — сов. философ, профессор, д-р филос. наук (с 1958). Член КПСС с 1947. Учился на филос. фак-те Моск. историко-филос. ин-та (1929—32). Окончил историч. фак-т Моск. педагогич. ин-та им. В. И. Ленина (1941). С 1931 ведет науч.-педагогич. работу в вузах. Декан филос. фак-та Ленингр. ун-та (с 1959) и зав. кафедрой дяалектич. и историч. материализма филос. фак-та ун-та. Руководитель обществ. Ин-та социальных исследований в Ленинграде (с 1963). Науч. работу ведет в области
материалистич. диалектики, логики, марксистской социологии и науч. коммунизма.
Соч.: Марксистско-ленинская диалектич. логика, Л., 1956; Марксистско-ленинская диалектика как филос. наука! Л., 1957; Предмет и структура марксистско-ленинской философии, Л., 1958; Предмет марксистско-ленинской философии, Л., 1958; Творческое развитие XXI съездом КПСС марксистско-ленинской науки, Л., 1960; Коммунизм и личность, Л., 1962; Введение в марксистскую социологию, Л., 1962; О предмете марксистской социологии, в сб.: Вопросы марксистской социологии, Л., 1962; Введение в теорию науч. коммунизма, Л., 1963; Развитие XXII съездом КПСС марксистско-ленинской теории, Л., 1963; Марксистско-ленинская философия, М., 1965 (соавтор и ред.); Пути формирования научного мировоззрения, Л., 1965.
РОЗАНОВ, Василий Васильевич (20 аир. 1856— 5 февр. 1919) —- рус. философ-мистик. Окончил Моск. ун-т. В 90-х гг. — чиновник канцелярии Гос. контроля, с 1899 — сотрудник «Нового времени». Примыкал к поздним славянофилам.
В первых своих работах («О понимании», 1886, и др.) Р. стремился найти принцип, к-рый обеспечивал бы цельность всей области науч. знания. Такой принцип, по Р.,— понимание; в отличие от знания (трактуемого им как чисто эмпирич. знание), понимание представляет еобом деятельность разума. \Ь разуме заложены схемы или задатки идей чистого существования, сущности, причины и пр., посредством к-рых эмпирич. знания обретают смысл. Отвергая эмпиризм, Р. склонялся к абс. идеализму, полагая, что разум выступает как «творческий источник ...неопределенного числа целесообразных процессов» (см. «Органический процесс и механическая причинность», «Журн. Мин-ва нар. просвещения», 1889, № 5, с. 13). Прогресс целесообразен, высшая целесообразность — красота — возрастает в направлении к общему мировому центру — разуму (см. «Эстетич. понимание игтории», «Теория историч. прогресса и упадка», «Рус. взстник», 1892, т. 218—19, № 1—3).
В 900-е гг. Р. выступал гл. обр. по религ.-нравств. вопросам, был известен как писатель своеобразного лит.-филос. жанра. Под влиянием идей К. Леонтьева Р. утверждал, что сложный мир задатков, потенций человека образует мистич. узел — средоточие иррацион. природы человека, не познаваемой наукой, доступной лишь для религии (см. «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», П., 1894). Одно из мистич. св-в человека — потребность поклонения. Поэтому религия — вечная функция сознания: всякое отношение к миру должно быть религиозным (см. «Место христианства в истории», СПБ, 1904). Природа теистична, как и человек (см. «В мире неясного и нерешенного», П., 1901).
После революции 1905—07 Р.— представитель богоискательства. Он одним из первых выдвинул тезис «о достоинстве христианства и недостоинстве христиан», развитый впоследствии Бердяевым («Темный лик. Метафизика христианства», П., 1911; «Люди лунного света. Метафизика христианства», П., 1911).
Монархист по политич. взглядам, Р. сотрудничал в то же время в либерально-бурж. печати, писал антисемитские статьи. Политич. двурушничество Р. отмечалось как демократич., так и реакц. прессой. В. И. Ленин относил Р. к числу «...известных своей реакционностью (и своей готовностью быть прислужником правительства) писателей...» (Соч., т. 20, с. 290).
С о ч.: Религия и культура, П., 1899; Природа и история, П., 1900; Когда начальство ушло... 1905—1906 гг., СПБ, 1910; Уединенное, П., 1912; Опавшие листья, 1т. 1—2], П., 1913— 1915; Апокалипсис нашего времени, кн. 1—10, Сергиев Посад, 1917.
Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 2, с. 461, 494; т. 10, с. 453; т. 16, с. 112; В о л ж с к и й, Мистический пантеизм В. В. Розанова, в сб.: Из мира литературных искак-ий, П., 1906; Г о л л е р б а х Э. Ф., В. В. Розанов. Жизнь и творчество, П., 1922; Г р и ф ц о в В., Три мыслителя, М., 1911; Ива-н о в-Р а з у м н и к Р. В., В. Розанов, в его кн.: Творчество и критика, П., 1922; БалакинаИ. Ф., О так называемом
РОЗЕНБЕРГ—РОЙС
517
 рус. экзистенциализме, «Вести. МГУ. Сер. экономика, философия», 1963-, № 6; Р о g g i о 1 i R., Rozanov, L., 1957.
рус. экзистенциализме, «Вести. МГУ. Сер. экономика, философия», 1963-, № 6; Р о g g i о 1 i R., Rozanov, L., 1957.
И. Балакина. Москва. РОЗЕНВЕРГ, Otto Карл Юлиус (Оттон Оттонович) (7 июля 1888— 26 сент. 1919) — рус. японовед-буддолог. В 1910-х гг. в Японии подготовил фундаментальный труд «Введение в изучение буддизма по япон. и кит. источникам», благодаря к-рому рус. и зап. ученым стали доступны осн. понятия философии махаяны, йогачаров и позднейших школ буддизма.
Соч.: Введение в изучение буддизма по япон. и кит. источникам, ч. 1— Свод лексикографич. материала, Токио, 1916, ч. 2—Проблемы буддийской философии, П., 1918; пер. на нем. яз.— Probleme cler buddhistischen Philosophie, «Materialmen zur Kunde des Buddhismus», 1925, H. 7, 8.
И. Кутасова. Москва. РОЗЕНТАЛЬ, Марк Моисеевич (р. 19 февр. 1906) — сов. философ, профессор (с 1940), д-р филос. наук (с 1946). Член КПСС с 1925. Заслуженный деятель науки РСФСР (с 1966). Окончил ИКП (1933). С 1933 ведет н.-и. и преподавательскую работу. С 1946 работает в АОН при ЦК КПСС. В 1953—58— зам. ответственного редактора журн. «Вопросы философии». С 1966— зав. сектором диалектич. материализма Ин-та философии АН СССР. Разрабатывает проблемы диалектич. материализма, в особенности диалектич. логики, вопросы эстетики и истории философии.
Соч.: Против вульгарной социологии в лит. теории, М., 1936; Вопросы эстетики Плеханова, М., 1939; Материалистич. диалектика, [M.j, 1937; Филос. взгляды Н. Г. Чернышевского, М., 1948; Марксистский диалектич. метод, [М.], 1951; Вопросы диалектики в «Капитале» Маркса, М., 1955; Принципы диалектич. логики. М., 1960; Ленин и диалектика, М., 1963; Филос. словарь, М., 1963 (ред. и соавтор); Основы марксистской философии, 2 изд., М., 1964 (соавтор); Ленинская теория познания и ее совр. развитие, М., 1965; Диалектика «Капитала» Маркса, М., 1967.
РОЗИНЬ (А з и с), Фриц Фридрих Адамович (7 марта 1870— 7 мая 1919) — один из основателей Ком-мунистич. партии Латвии, пропагандист марксизма, историк. Чл. ЦК С.-д-тии Латыш, края (СДЛК) (1904), пред. Исполкома Совета рабочих, безземельных и солдатских депутатов Латвии (1917), чл. Президиума ВЦИК (1918).
Еще в Дерптском ун-те изучал произведения Маркса, Энгельса, Плеханова, примыкал к прогрессивному движению латыш, интеллигенции — «Новое течение», за что был сослан; из ссылки бежал в Англию, где основал зап.-европ. союз латыш, социал-демократов. В 1908 Р. был приговорен к 4 годам каторги с пожизненной высылкой в Сибирь; в 1913 бежал в Америку. В Бостоне был редактором латыш, марксистской газ. «Stradnieks» («Рабочий»). В дни Октябрьской революции вернулся в Россию. В своих трудах выступал как против сторонников экономич. материализма, так и против ревизионистов марксизма (Бернштейна, Каутского и др.). Критикуя эсеровскую «теорию героев», Р. показал, что терроризм, проповедуемый эсерами, приносит делу рабочего класса только вред. Р.— автор первого марксистского очерка по истории философии на латыш, яз. и первого труда по аграрной истории Латвии («Латыш, крестьянин» — «Latviesu zemuieks», Berna, 1904), написанного с марксистских позиций.
С о ч.: Rakstu izlase, t. 1, Riga, 1963; в рус. пер.— Страница из истории крестьянства, Л., 1925.
Лит.: Штейнберг В. А., Филос. жизнь Латвии начала XX в. 1900—1917. П. Стучка, Ф. Розинь, Я. Янсон, П. Дауге, Я. Березинь, Рига, 1966; е г о ж е, F. Roziijl—marksistiskas filozofijas celmlauzis Latvija, Riga, 1960. П. Валескалн. Рига.
РОЗМЙНИ-СЕРБАТИ (Rosmini-Serbati), Антонио (25 марта 1797— 1 июля 1855) — итал. религ. мыслитель. Оставаясь в рамках католич. традиции в ее августинианском варианте, Р.-С. стремился в известной мере сблизить теорию и практику католицизма с требованиями умеренного либерализма своего времени. С этих позиций Р.-С. выдвинул проект антифеод, реформы церкви с целью устранения анахронистич. сторон католицизма и удержания ее авторитета. Т. о.,
он отстаивал идею бурж. переориентации церкви, превращения ее из феод, силы в буржуазную.
В философии Р.-С. пытался сблизить платоновско-августинианскую линию с элементами кантовского априоризма. Не отрицая традиц. томистских «5 путей» «доказательства» бытия бога, он придавал осн. значение «пути» к богу от субъекта, от присущих будто бы ему априорных идей, гл. обр. идеи бытия, к-рая и является исходным пунктом познания. Она родственна августинианскому «озарению», идущему от божеств, разума. Познание есть синтез этой идеи бытия и данных чувств, опыта. Бытие имеет три неразрывных модуса или формы — идеальный (постигаемый разумом), реальный (постигаемый чувств, опытом) и моральный. Идеальное — вечно, бесконечно, необходимо и как таковое в силу конечности и ограниченности человеч. разума требует адэкватного субъекта, т. е. бога, являющегося истинной, абсолютной, совершенной реальностью, универсально-конкретным бытием, высшим синтезом бытия. Идеи Р.-С: пользуются большим авторитетом в совр. католицизме. Розминианские тенденции сильны в совр. религ. мысли и служат одним из источников весьма влиятельных ныне «обновленческих» устремлений в идеологии и практике католич. церкви. Филос. воззрения Р.-С. оказали влияние на совр. христ. спиритуализм, особенно в его итал. варианте.
Соч.: Ореге, v. 1 — 14, Napoli, 1842—45; Opere, v. 1—27, Roma, 1934—55 (издание продолжается).
Лит .: История философии, т. 3, [М.], 1943, с. 486—90;
Р г i n i P., Introduzione alia metafisica di A. Rosmini, Domo-
dossola, 1953; Fran с hi A., Saggio sul sistema ontologico
di A. Rosmini, Mil., 1953; Milano Universita cattolica del sacro
Cuore. Facolta di lettere e filosofia. A. Rosmini nel centenario
della morte. Saggi vari, Mil., [1955]; Congresso internazionale
di filosofia A. Rosmini. Stresa-Rovereto, 1955. Atti del Congres
so, [v.] 1—2, Firenze, [1957]; GarioniBertolottiG.,
A. Rosmini, Torino, [1957]; Benvenuti S., Saggi criti-
ci sulla filosofia di A. Rosmini, Trento, 1957; Leetham С
R. H., Rosmini: priest, philosopher, patriot, L.—N. Y., [1957];
R a s с h i n i M., II principio dialettico nella filosofia di A.
Rosmini, Mil., 1961; Caviglione G., Bibiiografia delle
opere di A. Rosmini, Torino, 1925. С . Эфиров . Москва.
РОЙС (Royce), Джосайя (1855—1916) — амер. философ, абс. идеалист. Испытал влияние Гегеля, философию к-рого рассматривал «как анализ фундаментального парадокса нашего сознания» (см. «The spirit of modern philosophy», Boston — N. Y., 1892), состоящего в том, что сознание способно осознать себя только во взаимоотношении с др. сознаниями. Осн. доводом в пользу идеальности мира Р. считал невозможность обнаружить то, что не. может содержаться в мысли. Источник вещей и частных сознаний Р. видел в «универсальной мысли», к-рая «объединяет все наши мысли вместе с объектами и всеми мыслями об этих объектах... в абсолютное единство мысли» и тождественна богу («Thereligious aspect of philosophy», Boston—N. Y., 1885, p.475).Конкретная идея, реализующаяся в объектах, первоначально принималась Р. как чисто мыслит, содержание, но в дальнейшем под влиянием прагматизма Р. истолковывал идею как целенаправленный процесс, избирающий объект для воплощения своего «внутреннего значения». Структура реальности определяется, по Р., структурой мысли, являющейся «самопредставительствующей системой» (selvrepresen-tative), прообразом к-рой может служить множество, характеризуемое равномощностью части и целого: так, карта Англии, в качестве части поверхности Англии, представляет всю ее поверхность, в том числе и занимаемую самой картой. Понятие самопредставительствующей системы лежит в основе учения Р. о мире как «абс. личности», представленной в бесконечной совокупности воспроизводящих ее конечных личностей.
Обществ, взгляды Р. консервативны. Его идеал — капиталистяч. общество, в к-ром несогласия тают «под солнцем кооперации и гармонии».
518
РОК—РОЛЕЙ ТЕОРИЯ
 Соч.: Studies of good and evil, N. Y., 1898; The world and the individual, series 1—2, N. Y., 1900—1901; Outlines of psychology, N. Y.—L., 1903; The sources o{ religious insight, N. Y., 1912; The problem of Christianity, v. 1—2, N. Y., 1913; The hope of the great community, N. Y., 1916; Fugitive essays, Camb., 1920; Lectures on modern idealism, New Haven—L.— Oxf., [1934]; Logical essays, Duboque (Iowa), [1951].
Соч.: Studies of good and evil, N. Y., 1898; The world and the individual, series 1—2, N. Y., 1900—1901; Outlines of psychology, N. Y.—L., 1903; The sources o{ religious insight, N. Y., 1912; The problem of Christianity, v. 1—2, N. Y., 1913; The hope of the great community, N. Y., 1916; Fugitive essays, Camb., 1920; Lectures on modern idealism, New Haven—L.— Oxf., [1934]; Logical essays, Duboque (Iowa), [1951].
Лит.: ЯковенкоБ., Филос. система Ж. Р., в изд.: Новые идеи в философии, сб. 17, СПБ, 1914; История философии, т. 4, М., 1959; Богомолова. С, Англо-амер. бурж. философия эпохи империализма, М., 1964; Papers in honor of Jo-siah Royce on his sixtieth birthday, [N. Y.], 1916; M u i r-h e a d J. H., The Platonic tradition in Anglo-Saxon philosophy, L.—N. Y., [1931]; N о r b о r g S v., Josiah Royce, Oslo, 1934; Marcel G., La metaphysique de Royce, [P.], 1945; Smith J. E., Royce's social infinite: the community of interpretation, N. Y., 1950; «Journal of Philosophy», 1956, v. 53, № 3 (In memoriam of J.Royce); Buranelli V., josiah Royce, N. Y., [1964]; Rand В., A bibliography of the writings of Josiah Royce, «Philosophical Reviews», 1916, v. 25.
А. Богомолов. Москва.
РОК — СМ. Судьба.
РОКА ВЛАС (Roca Bias) (наст, имя и фамилия — Франсиско Вильфредо К а л ь д е р и о, Calderio; р. 24 июля 1908)—деятель кубинского рабочего движения, марксист. В 1929 вступил в компартию, с 1933 — член ЦК. В 1935—43 — кандидат в члены ИККИ. С 1934 — ген. секретарь компартии, с 1944 — На-родно-социалистич. партии. С 1963 — член Нац. руководства Единой партии социалистич. революции.
В гл. работе «Основы социализма на Кубе» (La Ha-Ьапа, 1943, 8 ed., La Habana, 1961; рус. пер.— М., 1961) Р. Б. вскрывает характерные черты капитализма и империализма на Кубе, обосновывает необходимость и неизбежность перехода к социализму и показывает значение марксистско-ленинских принципов в решении социальных проблем на Кубе. Изложение общих вопросов марксистской теории, таких, как учение об экономич. формациях, о классах и классовой борьбе, сочетается с конкретным анализом кубинских условий. В своих работах Р. Б. исследует особенности, характер и движущие силы кубинской революции. В частности, он показывает, что буржуазия на Кубе не могла возглавить последоват. антиимпериалистич. борьбу за полную нац. независимость. В работе «Куба — свободная территория Америки» (1960, рус. пер., М., 1961), а также в статьях, опубликованных в жури. «Cuba socialista» («Социалистич. Куба»), Р. Б. разрабатывает вопросы, связанные с развитием социалистич. революции на Кубе, напр. вопрос о наличии объективных и субъективных условий построения социализма, о необходимости союза пролетариата и крестьянства в процессе строительства социализма, об отношении к мелкой буржуазии; анализирует новые формы гос. власти революц. Кубы и раскрывает значение участия в них нар. масс. Анализируя вопрос о роли социалистич. идеологии в строительстве социализма, Р. Б. рассматривает ее распространение как один из важнейших факторов, обеспечивающих обществ, прогресс страны.
Соч. в рус. пер.: Социалистич. мораль — новая сила, вдохновляющая кубинский народ, в кн.: Куба. Историко-эт-нографич. очерки, М., 1961; Куба: революция в действии, «ПМ и С», 1959, № 8; Кубинский народ в борьбе за свободу и независимость, «Коммунист», 1960, № 7; Народная революция на Кубе и перспективы ее дальнейшего развития, «Партийная жизнь», 1959, № 6.
Лит.: История философии, т. 5, М., 1961; Блас Рока, Биотрафич. справка, «Новое время», 1961, М 41; Мохначе» М. И., Слияние революционного движения на Кубе в единый патриотич. антиимпериалистич. поток (1951 — 1958 гг.), в сб.: Борьба за единый рабочий и антиимпериалистический фронт в странах Латинской Америки, М., 1963.
_ А. Зыкова. Москва.
РОЛЕЙ ТЕОРИЯ — концепция совр. социальной психологии. В Р. т. (ее основателем считают Дж. Мида) нашли отражение нек-рые прогрессивные для зап. психологии тенденции: неудовлетворенность индивидуалистич. концепциями личности и рассмотрение ее как социального продукта, поиски механизмов формирования личности во взаимодействии людей. Совр. Р. т. тесно связана с социологией (в частности,
со школой Парсонса), семантикой, семиотикой, антропологией, этнографией и др. смежными науками, опирается на эмпирич. исследования. Вместе с тем Р. т., испытавшая влияние бурж. философии 19— 20 вв., содержит ряд идеалистич. и метафизич. наслоений. Гл. ее пороком является непонимание сущности обществ, организма, недооценка влияния способа производства на структуру обществ, отношений и формирование личности.
Р. т., иначе — символич. интеракционизм, исходит из того, что человек — единств, животное, к-рое создает символы и использует их для организации своего поведения. Социальное поведение человека' в Р. т. описывается как процесс, ход к-рого определяют (на психология, уровне) три осн. переменных: роль (единица культуры), позиция, или статус (единица общества) и Я (единица личности). В Р. т. культура определяется как система заученного поведения (и его продуктов), к-рое разделяется всеми членами общества и передается из поколения в поколение. В представлениях людей это поведение существует как система ролей — упорядоченных и согласующихся между собой действий, уместных в определ. социальных ситуациях. Последние структурализуются в позициях, статусах или офии. должностях. Позиция — это совокупность нрав и обязанностей, обозначенная одним словом, напр.: «председатель», «мать», «капитан». Исходя из того, что относительно прав и обязанностей между людьми существует согласие, Р. т. определяет позицию как систему экспектаций (ожиданий — требований), предъявляемых человеку, к-рому предписана определ. роль (напр., позиция врача). В случае, если человек не исполняет или плохо исполняет предъявляемые ему ролевые экспектаций, к нему применяются социальные санкции (насмешки, бойкот, угрозы, физич. воздействие). Так осуществляется социальный контроль. В социальном взаимодействии роли определены позициями, а не людьми, к-рые временно эти позиции занимают. Большинство ролей, однако, предписано не очень жестко и оставляет простор для индивидуальных вариаций. Ролевое поведение — это результат взаимодействия роли и Я. Подобно роли и позиции, Я — своего рода символ, содержание к-рого человек усваивает из общения с другими. «Я, как то, что может быть объектом для себя самого, является в сущности социальной структурой и возникает в процессе социального опыта» (Mead G., Mind, self and society, Chi., 1937, p. 140). Основатели ролевой теории считали, что Я — это «зеркало других»: человек относится к себе как к объекту, значение к-рого определено соответствующими мнениями и поступками окружающих. Однако отношение окружающих к субъекту во многом определено его ролью. Поскольку весь жизненный опыт человека может быть представлен как последоват. ряд ролей, Я рассматривается как след многих ролей, с к-рыми человек себя идентифицировал, или, короче, Я — это сумма ролей. В совр. Р. т. представление о Я как о продукте мнений других сохранилось за ego, тогда как базисное Я трактуется как продукт досоциального опыта. Так, Сарбин считает, что Я интегрируется из ряда «эмпирических Я» — субструктур, складывающихся на различных стадиях развития человека (см. «A preface to a psychological analysis of the self», в журн.: «Psychol. Rev.», 1952, v. 59, № 1). Термин «личность» в совр. Р. т. употребляется в более широком, чем Я, смысле, для обозначения поведения, возникающего из взаимопроникновения Я и роли.
В Р. т. анализируются конфликты между Я и несоответствующей ролью, а также конфликты между внутренне противоречивыми ролями.
В сов. лит-ре методология, предпосылки Р. т. были подвергнуты серьезной критике. Вместе с тем отмеча-
РОЛЬ НАРОДНЫХ МАСС И ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ 519
 лось, что в ней содержится ряд экспериментально установленных обобщений реальных процессов психоло-тич. взаимодействия. Интерпретацию ролей и ролевого поведения содержат работы сов. психологов Л. С. Божович, Е. С. Малах, А. Л. Шнирмана и др. Лит.: Леонтьев А. Н., Проблемы развития психики, [2 изд.], М., 1965; Рубинштейн С. Л., Приннипы и пути развития психологии, М., 1959; Психологич. наука в СССР, т. 1—2, М., 1959—60; Выготский Л. С, Развитие высших психич. функций, М., I960; Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов, М., 1962; Freud A., Das Ich und die Abwehrmechanismen, W., 1936; Lecky P., Self-consistency. A theory of personality, N. Y., [194-5]; Murphy G., Personality. A biosocial app-i oach to origins and structure, N. Y., [1947]; A d о r n e ТВ- W. [a. o.], The authoritarian personality, N. Y., [1950]; Cameron N. and Magaret A., Behavior pathology, Boston — [a. o.] [1951]; A s с h S. E., Social psychology, N. Y., 1952; Young K., Personality and problems of adjustment, 2 ed., N. Y., [1952]. См. также лит. при ст. Роль социальная.
лось, что в ней содержится ряд экспериментально установленных обобщений реальных процессов психоло-тич. взаимодействия. Интерпретацию ролей и ролевого поведения содержат работы сов. психологов Л. С. Божович, Е. С. Малах, А. Л. Шнирмана и др. Лит.: Леонтьев А. Н., Проблемы развития психики, [2 изд.], М., 1965; Рубинштейн С. Л., Приннипы и пути развития психологии, М., 1959; Психологич. наука в СССР, т. 1—2, М., 1959—60; Выготский Л. С, Развитие высших психич. функций, М., I960; Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов, М., 1962; Freud A., Das Ich und die Abwehrmechanismen, W., 1936; Lecky P., Self-consistency. A theory of personality, N. Y., [194-5]; Murphy G., Personality. A biosocial app-i oach to origins and structure, N. Y., [1947]; A d о r n e ТВ- W. [a. o.], The authoritarian personality, N. Y., [1950]; Cameron N. and Magaret A., Behavior pathology, Boston — [a. o.] [1951]; A s с h S. E., Social psychology, N. Y., 1952; Young K., Personality and problems of adjustment, 2 ed., N. Y., [1952]. См. также лит. при ст. Роль социальная.
В- Ольшанский. Москва.
РОЛЬ НАРОДНЫХ МАСС И ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ — одна из коренных проблем философия и социологии. Домарксистская и совр. бурж. социология рассматривает нар. массы как пассивную толпу, как объект воздействия выдающихся личностей. Социальное неравенство и отстранение трудящихся от участия в управлении гос-вом оправдывается утверждением, что нар. массы неспособны к интеллектуальному творчеству в силу своей «косности» и «отсталости».
Марксистский анализ Р. н. м. и л. в и. органически «вязан с осн. теоретич. и методологич. принципами историч. материализма. Решающая роль нар. масс в истории обусловлена прежде всего тем, что они являются главной производит, силой общества. Классовая борьба трудящихся масс против исторически определ. форм угнетения и эксплуатации — движущая сила развития и смены антагонистич. формаций; борьба нар. масс за свое освобождение составляет осн. содержание истории. Политич. и социальные завоевания, демократия, свободы в условиях капитализма вырваны у господств, классов борьбой нар. масс. Эта борьба активно влияет на идейную жизнь общества, на развитие культуры. Воздействие нар. масс на обществ, жизнь особенно возрастает и проявляется открыто в переломные периоды истории — в ходе революций, нац.-освободит, движений. «Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом общественных порядков, как во время революции» (Ленин В. И., Соч., т. 9, с. 93).
Влияние широчайших нар. масс на прогресс культуры проявляется в многообразных формах, как непосредственно, так и опосредствованно. Основа всякой духовной культуры — язык — создан нар. массами. Сокровищница нар. творчества — постоянная питат. среда подлинного иск-ва. Величайшие творения иск-ва и лит-ры подлинно народны, в них получают отражение актуальные обществ, проблемы- В развитии естеств. науки и техники важную роль играет обобщение производств, опыта масс. Науки об обществе развиваются на основе обобщения данных обществ, практики, освободит, борьбы масс.
Марксизм вместе с тем не умаляет роль выдающихся личностей в истории. Только на основе науч. понимания решающей роли нар. масс в истории, роли гклассов и классовой борьбы можно правильно раскрыть значение историч. личностей, вождей тех или иных классов, партий, обществ, деятелей, выдающихся ученых, деятелей лит-ры и иск-ва. Великие мыслители, художники оказывают огромное влияние на ход культурного развития общества. Но творчество художника превращается в пустоцвет, если оно не отражает противоречий и потребностей реальной действительности, не уходит своими корнями в жизнь народа.
Марксизм опроверг антинауч. измышления идеалистов о том, что выдающиеся личности могут по своему произволу творить историю; он объективно оценивает роль отд. личностей, их творч. инициативы, пределы их влияния на ход историч. событий, показывая, какие условия определяют успех и значение их деятельности. Общий ход и направление историч. развития не зависит от отд. личностей. Личность может влиять на историч. события, но она не может ни отменить, ни изменить объективные обществ, закономерности. Результаты деятельности той или иной личности в конечном итоге определяются историч. необходимостью. Но «... идея исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся слагается именно из действий личностей, представляющих из себя несомненно деятелей» (там же, т. 1, с. 142). Великие люди появляются в результате потребностей историч. развития, и деятельность их тем успешнее, чем глубже они выражают эти потребности, воплощающиеся в интересах определ. классов. При прочих равных условиях, индивидуальные качества лица, стоящего во главе движения, могут ускорить или замедлить, облегчить или затруднить необходимый ход развития событий, наложить на них определ. индивидуальный отпечаток.
При исследовании роли личности в истории следует различать категории историч. и великой личности. Исторической можно назвать личность, с именем к-рой связаны крупные историч. события и к-рая наложила свой отпечаток на эти события. При этом еще не учитывается в каком направлении — прогрессивном или реакционном — действует данная личность. Но не всякая историч. личность является великой. Великая личность — та, к-рая своей деятельностью ускорила прогрессивное закономерное течение обществ, процесса. Ни один класс не может прийти к власти, не выдвинув своих политич. руководителей, вождей. Каждой обществ, эпохе и каждому классу присущи свои методы формирования, воспитания и выдвижения вождей, организации руководителей и руководства, взаимоотношения вождей, класса и масс. Идеологи и вожди эксплуататорских классов стремятся стать над массами и их выборными органами, командовать массами. Вожди рабочего класса, напротив, выражают коренные интересы трудящихся масс. Основоположники марксизма-ленинизма глубоко верили в разум и творч. силы народа, решительно выступали против пульта личности политич. вождя.
Характер и формы творчества нар. масс всегда исторически обусловлены. Марксизм, во-первых, учитывает историч. условия развития и положения масс в различные эпохи; во-вторых, требует уяснения соотношения нар. масс, классов, партий и их вождей применительно к каждому этапу обществ, развития.
Исследование Р.н.м. и л. в и. связано с изучением диалектики объективных и субъективных факторов обществ, развития. При этом необходимы: уяснение природы обществ, силы, к-рая обеспечивает действие закона определяющей роли материального произ-ва; исследование структуры и роли тех классовых сил, к-рые превращают объективные возможности обществ, прогресса в действительность. Если при рассмотрении проблемы в первом аспекте понятие «нар. массы» равнозначно понятию «трудящиеся классы», то рассмотрение проблемы во втором аспекте раскрывает исторически конкретную роль в развитии и смене каждой формации определ. социальных групп, классов, составляющих народ. В классовой политич. борьбе понятие «нар. массы» уже не связывается только с создателями материальных благ, а охватывает все социальные силы, к-рые на данном этапе историч. развития объективно содействуют прогрессивному развитию общества.
520 РОЛЬ НАРОДНЫХ МАСС И ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ
 Марксизм придает огромное значение активной роли нар. масс, классов, партий, отд. личностей в ис-торич. процессе, в реализации различных возможностей, таящихся в конкретной историч. ситуации. Он отличается от всех др. социальных теорий соединением научности, трезвости в анализе объективного хода истории «... с самым решительным признанием значения революционной энергии, революционного творчества, революционной инициативы масс,— а также, конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми или иными классами» (там же, т. 13, с. 22).
Марксизм придает огромное значение активной роли нар. масс, классов, партий, отд. личностей в ис-торич. процессе, в реализации различных возможностей, таящихся в конкретной историч. ситуации. Он отличается от всех др. социальных теорий соединением научности, трезвости в анализе объективного хода истории «... с самым решительным признанием значения революционной энергии, революционного творчества, революционной инициативы масс,— а также, конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми или иными классами» (там же, т. 13, с. 22).
Марксизм-ленинизм требует конкретного анализа Р.н.м. и л. в и. в различные эпохи обществ, развития. Слабое развитие производит, сил, связанные с этим неразвитые формы классовой борьбы, низкий уровень классового самосознания трудящихся (рабовладельческая, феодальная формации) предопределяют медленные темпы развития общества. Ленин указывал, что когда «... историю творили горстки дворян и кучки буржуазных интеллигентов, при сонных и спящих массах рабочих и крестьян... История могла ползти в силу этого только с ужасающей медлительностью» (там же, т. 27, с. 136). Относительно быстрый прогресс в период капитализма связан с развитием могучих производит, сил, с тем, что капитализм обнажил классовые отношения, выдвинул на историч. арену рабочий класс. Марксизм установил, что чем глубже объективно назревшее преобразование, тем более широкие нар. массы выступают его сознат. творцами. Ленин писал, что это «... одно из самых глубоких положений марксизма, в то же время являющееся самым простым и понятным. Чем больше размах, чем больше широта исторических действий, тем больше число людей, которое в этих действиях участвует, и, наоборот, чем глубже преобразование, которое мы хотим произвести, тем больше надо поднять интерес к нему и сознательное отношение, убедить в этой необходимости новые и новые миллионы и десятки миллионов» (там же, т. 31, с. 467). Закон возрастания роли масс в истории дает руководящую нить для понимания существ, причин ускорения темпов обществ, прогресса. Гигантское возрастание роли нар. масс в совр. эпоху связано с ростом могущества и междунар. влияния СССР, мировой социалистич. системы, распадом колониальной системы под ударами нац.-освободит, движения, обострением классовых противоречий в странах капитала и расширением социальной базы антимонополистич. борьбы.
Социалистич. революция впервые в истории освобождает нар. массы от социального, нац. и духовного гнета, раскрепощает их творч. силы. Без широкого участия нар. масс в политической, хозяйственной и культурной жизни общества невозможно построить социализм и перейти к коммунизму. «Живое творчество масс — вот основной фактор новой общественности... Социализм не создается по указам сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс» (там же, т. 26, с. 254—55). Опыт СССР и др. социалистич. стран опровергает вымысел идеологов эксплуататорских классов о «неспособности» нар. масс к управлению гос-вом, к руководству обществ, жизнью. В условиях социализма наступает качественно новая ступень историч. творчества масс, характеризуемая их осознанной деятельностью. Коммунизм — общество, до конца преодолевающее культурную и духовную придавленность нар. масс, ограниченность человеч. интересов и возможностей раскрытия творч. сил личности. Ликвидация частнособствен-нич. отношений, старого разделения труда, превращение достижений мировой культуры в достояние миллионов, растущее единство интересов личности и
общества создают предпосылки для развития каждого труженика в исторически деятельную, активную личность. Объективные закономерности становления высшей фазы коммунизма требуют всестороннего развертывания социальной энергии масс, роста их культуры и знаний, всемерного учета накопленного ими практич. опыта при решении сложнейших задач экономики, культуры, организации и регулирования обществ, жизни. Поэтому первостепенное значение приобретают развитие социалистич. демократии, совершенствование обществ, самодеятельности масс, науч. организация и управление социальными процессами, воспитание науч. мировоззрения и коммунистич. нравственности у всех членов общества.
Серьезной помехой росту активности нар. масс при социализме и переходе к коммунизму являются нарушения принципов социалистич. демократии, бюрократизм и формализм в работе гос. органов и обществ, организаций, недооценка принципа материальной заинтересованности в результатах труда, невнимание к данным практич. опыта масс, к запросам обществ, мнения. Коммунистич. партия решительно' борется против подобных методов руководства.
Положения марксистско-ленинской теории о возрастании роли нар. масс при социализме и коммунизме конкретизируются и развиваются в ходе коммунистич. строительства. Центр тяжести проблемы все более переносится на изучение и раскрытие-механизма действия этой общей закономерности. Первостепенное значение приобретают вопросы совершенствования науки политич. руководства и организации масс, системы воспитат. работы среди: трудящихся, принципов демократич. централизма в управлении, науч. разработка проблем управления социальными процессами, рациональной организации труда.
Переход к высшей фазе коммунизма будет означать преодоление остатков опосредствованного влияния нар. масс на ход обществ, развития, утверждение-общественного коммунистич. самоуправления.
Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 29,
с. 492; Плеханов Г. В., К вопросу о роли личности в ис
тории, Избр. филос. произв., т. 2, М., 1956; Роль нар. масс и
личности в истории, М., 1957; Федосеев П. Н., Роль
народных масс и личности в истории, М., 1957; Малышев
И. В., О роли народных масс в сов. социалистич. об-ве, М.,
1960; Строительство коммунизма и рост творческой активнос
ти масс. Сб. ст., М., 1960; Зак С, Народные массы и ха
рактер их деятельности в социалистич. об-ве, Львов, 1962.
См. также лит. при ст. Народ. Личность, Коммунизм. Исто
рический материализм. Г. Лшин, М. Игитханяп. Москва.
РОЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ — категория, употребляемая для выражения социального взаимодействия, функционирования индивида в группе, а также индивида или группы в обществ, организме. В бурж. социологии существует множество определений Р. с. Анализ 80 важнейших работ амер. социологов, где использовалась категория Р. с, показал трудности определения понятия Р. с. (см. L. J. Neiman and J. W. Hughes, The problem of the concept of role. A re-survey of the literature, в журн.: «Social Forces», 1951, v. 30, J\» 2, p. 149). Большинство определений сходилось на том, что Р. с. это — ряд действий или поступков человека, соответствующий его положению (позиции, статусу) в социальной группе, это динамич. аспект социального-статуса. Слова «мать», «офицер», «учитель» обозначают положение человека в определ. группе и одновременно — определ. систему поведения. Каждый, кто занимает то или иное социальное положение, вынужден принимать во внимание экспектации (ожидания — требования) группы, касающиеся соответствующей роли. Люди не всегда сознают свои Р. с, часто их исполнение осуществляется автоматически. Участвуя в различных группах, каждый исполняет неск. ролей.
РОМАНТИЗМ
521
 В связи с этим возможно противоречие между различными ролями человека.
В связи с этим возможно противоречие между различными ролями человека.
Четкая классификация Р. с. отсутствует, хотя часто указывается на различие ролей по определенности предписанных действий (ср. «врач» и «часовой»), по широте (ср. «гражданин» и «пассажир»), по продолжительности (ср. «женщина» и «девочка»), по значению (ср. «друг» и «знакомый») и т. п. Иногда перед словом «роль» (как и перед словом «статус») ставится прилагательное, обозначающее, какой системой отношений предопределена данная роль. Нек-рые авторы разделяют Р. с. на конвенциональные, ситуационные и личностные — напр., взаимоотношения мужа и жены включают эти три «уровня» ролей. Иногда говорится о «возвратных» ролях, или контр-ролях (отец — сын). Употребляется деление Р. с. на «предписанные», к-рые предопределены человеку в силу биологич. или социо-культурных факторов (возраст, пол, происхождение) и «достигаемые» в процессе жизни и научения. Поскольку Р. с. допускает нек-рые индивидуальные вариации, различают Р. с. как некий «идеальный» тип поведения, и ролевое поведение, как его индивидуальное воплощение, опосредствованное личностными качествами человека, его пониманием ситуации, представлениями об окружающих и т. д. Ролевые отношения достигают максимума в ритуалах и минимальны в критич. ситуациях, в новых и не структурировавшихся группировках. Социальное взаимодействие требует согласия участников о содержании ролей; различное представление о взаимосвязанных ролях приводит к напряжениям и конфликтам.
В бурж. концепциях не раскрываются существ, причины, определяющие содержание Р. с, что связано с присущим бурж. социологии идеалистич. и психоло-гич. истолкованием общества. На основе анализа объективной общественной структуры, динамики историч. развития и деятельности людей исторический материализм показывает реальные причины, определяющие отношения людей в конкретном социальном организме, пути изменения сложившихся ролевых отношений .
Лит.: Ленин В. И., Экономич. содержание народ
ничества и критика его в книге г. Струве (часть 2), Соч., 4 изд.,
т. 1; Плеханов Г. В.,К вопросу о роли личности в ис
тории, Соч., т. 8, М.—П., 1923; Б о ж о в и ч Л. И., Изуче
ние личности школьника и проблемы воспитания, в кн.: Пси-
хологич. наука в СССР, т. 2, М., 1960; Историч. материализм и
социальная философия совр. буржуазии, М., 1960; Ш н и р-
м а н А. Л., Коллектив и развитие личности школьника,
Л., 1962; Совр. психология в капиталистич. с оанах, М.,
1963; Новиков Н. В., Об исходных посылках и глав
ных чертах бурж. теории «социального действия», в кн.: Марк
систская и бурж. социология сегодня, М., 1964; Замошкин
Ю. А., Кризис бурж. индивидуализма и личность, М., 1966;
Sargent S. and Williamson К., Social psy
chology, 2 ed., N. Y., [1958]; Gross N., Mason W. S.,
Mc EachernA. W., Explorations in role analysis, N. Y.—
L., [1958]; Handbook of social psychology, ed. by G. Lindzey,
Reading (Mass.), [1959]; Dahrendorf R., Homo socio-
logicus, 4 Aufl., Koln, 1964. См. также лит. при ст. Ролейтео-
■рия. „ В. Ольшанский. Москва.
РОМАНТИЗМ (франц. romantisme) — идейное и художеств, движение 1-й пол. 19 в., захватившее Европу и Америку и нашедшее отражение во всех областях духовной культуры — в лит-ре, музыке, изобразит, иск-вах, философии, эстетике, филологии, историч. науках, социологии, мн. отраслях естествознания. Пришедший на смену Просвещению, Р. был порожден разочарованием в историч. результатах франц. революции 18 в. и бурж. прогресса в целом, к-рые, по словам Энгельса, «...оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 19, с. 193).
Временем расцвета Р. является период 1795—1830, период европ. революций и нац.-освободит. движений. Р. возникает на рубеже 18—19 вв. в Германии, Англии, Франции, несколько позже, в 1810—20-х гг., в Рос-
сии, Испании, Италии, Польше и др. странах. Ранний. нем. Р., связанный с деятельностью иенского кружка романтиков (1798—1801, Ф. и А. Шлегели, Новалис,. Ваккенродер, Тик, к ним примыкали Шлейермахер и. Шеллинг, последователями к-рого в области натурфилософии были Риттер, Стеффенс, Окен, Карус+ Гюльзен), носил преим. теоретич., филос.-эстетич. характер; в центре внимания второй, «гейдельберг-ской» группы нем. романтиков (1805—08, Арним,. Брентано, Гёррес и др.) — проблемы фольклора и истории. К представителям филос. Р. относятся также-Золъгер, Баадер. В лит-ре вершиной нем. Р. является-творчество Гёлъдерлина, Клейста, Гофмана, Гейне г поэзия к-рого содержит одновременно иронич. критику Р., в музыке—творчество Шуберта, Шумана,. Р. Вагнера. Начало англ. Р. отмечено деятельностью поэтов т. н. озерной школы («Лирические баллады»-Вордсворта и Колриджа, 1798), а его кульминация — творчеством Байрона и Шелли. Переходное место в развитии от Р. к реализму занимает В. Скотт. Поздний англ. Р. сер. 19 в. нашел выражение в филос.-эстетич. и публицистич. сочинениях Карлейля и Рескина (1819—1900). Во Франции ранний этап Р. (1800-е гг.) связан с творчеством Шатобриана и г-жи де Сталь, а также с филос. соч. де Местра и Воналъда. Расцвет франц. Р. относится к периоду Реставрации я Июльской революции 1830. Крупнейшими представителями Р. во франц. лит-ре 1820—30-х гг. являются В. Гюго, предисловие к-рого к драме «Кромвель»-(1827) стало эстетич. манифестом романтиков, Ламар-тин, Виньи, Мюссе, Ж. Санд, в живописи — Делакруа, Жерико, в музыке — Берлиоз, в области истории — Гизо, Минье, Тьерри. В России начало Р. связывается обычно с поэзией Жуковского, молодого Пушкина, нек-рых декабристов, а также деятельностью кружка московских «любомудров» (Веневитинов, В. Ф. Одоевский), в среде к-рых зародились и идеи позднейшего славянофильства (Хомяков, Киреевский). Р. в Польше достиг художеств, вершины в творчестве 10. Словацкого, Мицкевича, Ф. Шопена.
Р. был своеобразной формой художеств, и филос. критики противоречий бурж. цивилизации. Пафос Р. заключался в разоблачении дисгармонии совр. мира,, в безотчетном стремлении к цельному человеч. развитию и гармония, обществ, связям. Однако, воспринимая преим. теневую, разрушит, сторону историч. прогресса, романтик часто не мог и не хотел видеть в современной ему действительности высшей по отношению к прошлому ступени обществ, развития. Это приводило мн. романтиков к идеализации историч. прошлого, в первую очередь ср.-век. обществ, уклада с его неподвижными и «прочными» патриархальными связями, выступавшими в ограниченных формах личной зависимости и иепосредств. сословных противоположностей и свободными как от всеобщей власти товарного производства, так и от формализма и лицемерия бурж.-демократич. порядков. Идеализируя эти утраченные в процессе дальнейшего развития черты ср.-век. обществ, отношений, Р. становится тем самым на путь сентимент. критики капитализма. Классич.. представитель Р. в экономич. науке, франц. экономист Сисмрнди, писал: «Меня выставляли в политической экономии врагом общественного прогресса, партизаном учреждений варварских и принудительных. Нет,, я не хочу того, что уже было, но я хочу чего-нибудь лучшего по сравнению с современным. Я не могу судить о настоящем иначе, как сравнивая его с прошлым, и я далек от желания восстановлять старые развалины, когда я доказываю посредством них вечные нужды общества» (цит. по кн.: Ленин В. И.,. Соч., т. 2, с. 220). По словам Ленина, доказывая «„...вечные нужды общества" посредством „развалин", а не посредством тенденций новейшего-
522
РОМАНТИЗМ
 развития», «...романтик поворачивает от конкретных вопросов действительного развития к мечтаниям ...» (там же, с. 220-21, 240).
развития», «...романтик поворачивает от конкретных вопросов действительного развития к мечтаниям ...» (там же, с. 220-21, 240).
Противоречия Р. находились в историч. соответствии с идеологией широких обществ, движений 1-й четверти 19 в., прежде всего нац.-освободит, войн против наполеоновской Франции, к-рым «... свойственно сочетание духа возрождения с духом реакционности ...» (Маркс К., ем. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 10, с. 436). Общую судьбу этих движений Маркс и Энгельс резюмируют след. образом: «... Именно тогда, когда народ, кажется, стоит на пороге великих начинаний, когда ему предстоит открыть новую эру, он дает увлечь себя иллюзиями прошлого...» (там же, с. 373). Романтич. восстание против деградации человеч. личности при капитализме не было свободно от этих «иллюзий прошлого», оно .защищало и поэтизировало их; торжествующей прозе •бурж. строя романтики противопоставляли древние -обычаи и иск-во, патриархальные учреждения разбуженных революцией народов. Но именно в силу глубокой связи с историч. движениями современности романтич. иск-во проникнуто пафосом нар. жизни и нац.-освободит, борьбы, достигая подлинного величия образов (Байрон, Шелли, Мицкевич, Делакруа). Познание историч. прошлого народов, как в науч., так и в худож. форме многим обязано Р.
А. Вишневский. Москва.
Одно из глубоких определений Р. дал поздний Шеллинг; вспоминая иенский кружок романтиков, он писал: «Прекрасное было время... человеческий дух был раскован, считал себя вправе всему существующему противополагать свою действительную свободу и спрашивать не о том, что есть, но что возможно» •(цит. по кн.: «Лит. теория нем. романтизма». Док-ты, [Л., 1934], с. 12). У ранних романтиков, почти прямых современников франц. революции, воспитанников ее, господствует порыв к возможному, к-рое для них постоянно впереди действительного. Гл. интерес романтиков относился к невоплощенному, еще лишенному ■формы, находящемуся в становлении. Ф. Шлегель писал панегирик Лессингу, объявляя, что его занимает не реальный Лессинг, но Лессинг, каким он мог бы быть — скрытый Лессинг, несостоявшийся Лессинг. Философия молодого Шеллинга рассматривает весь .мир, природу и человека как вечное творчество. За Шеллингом пошли молодые биологи, физики, геологи, подхватившие осн. идеи его натурфилософии, проводившие их в спец. областях науки. Только свидетели великого историч. переворота могли усвоить себе эту т. зр.: нет застывшей жизни, непререкаемых форм, догматов, есть творимая жизнь, есть вечное обновление и в мире вещей и в мире мысли. Шеллинг, Ф. Шлегель, Новалис устанавливают настоящий культ бесконечного в философии, в поэзии.
Ф. Шлегель, Зольгер, Жан Поль Рихтер развили своеобразные концепции романтич. юмора, романтич. иронии. В ее художеств, воплощении мы находим иронию в творчестве Л. Тика, Брентано, Байрона, Мюссе. Романтич. юмор состоит в том, что подчеркивается относительность, едва ли не иллюзорность всяких ограничительных по своему смыслу форм жизни,— бытовая косность, классовая узость, идиотизм замкнутых в себе ремесел и профессий изображаются как нечто добровольное, шутки ради принятое на себя людьми. Жизнь играет, не зная для своих свободных сил к.-л. неодолимых препон, вышучивая, выставляя в осмеянном виде всех и вся, кто противится ее игре. Этот оптимистич. характер юмора исчезает у поздних романтиков. Отчасти у Байрона, а более всего у Гейне силы косности и гнета начинают преобладать над свободными силами жизни; поэт заносится высоко, но его задерживают в его свободном полете, отзывают его
назад, едко и грубо издеваясь над ним. Романтич. юмор претерпел эволюцию: у ранних романтиков это юмор свободы, у поздних — сарказм необходимости. У Гофмана и Гейне мы встречаем иронию и в том и в другом ее виде, причем ирония необходимости нередко переходит в трагизм, порывая с областью комического.
Образцом и нормой для всех прочих областей иск-ва романтики объявляли музыку,— в ней им слышалась сама освобожденная стихия жизни. В стихах, повест-воват. прозе, живописи — всюду они взывали к принципу музыкальности; в поэзии за отдельными, в той или иной мере отчетливыми высказываниями должна стоять общая, логич. понятиями не улавливаемая настроенность. Романтики вносили лирич. начало во все области иск-ва, они исходили из лирики и очень часто прибегали к ее орудию — стиху; проза, как правило, имитировала стиховую речь, была тщательно организована в звуковом отношении, изобиловала по примеру стиха метафорами, речевыми тропами и украшениями (как, напр., у Шатобриана). Романтич. эпоха заканчивалась такими произв., как романы в стихах «Дон Жуан» Байрона, «Пан Тадеуш» Мицкевича, «Евгений Онегин» Пушкина. Это было высшее соперничество стиха со свободной повествоват. прозой, достигшее наибольшей высоты с тем, чтобы отныне открыть дорогу прозе и художеств, реализму: роман в стихах Пушкина мы числим первым высоким достижением в рус. реалистич. лит-ре.
Романтиков отделяло от реализманастойчивое стремление сохранить в неприкосновенном виде сзои идеалы, в к-рых трагически разочаровывало послереволюц. развитие бурж. общества. Это приводило их к религии. Развитие раннего Р. в Германии подытоживается «Речами о религии» (1799) Шлейермахера: именно внутр. опыт Р. объявляется здесь некоей новой религией, что дает повод отделить его от всей остальной жизненной практики, поставив этот опыт вне ее или над ней. Светская, пантеистич. религиозность Шлейермахера оказалась преддверием религиозности конфессиональной, ортодоксальной, ожившей в среде романтиков, нередко склонявшихся к самому правоверному католицизму. Романтики воображали, что сохранят в церковности утрачиваемое ими в общественности. Они глубже просветителей поняли природу зла, но возвели его в предвечную, внеисторич. силу. Придав отрицанию абс. значение, они тем самым лишили его действенности: если зло, находимое в бурж. обществе, заложено в вечной природе вещей, то неизбежным становится принять это зло. Истолкование зла как натуральной материальной силы встречается у романтич. философов — Шеллинга (среднего и позднего периода), Шубарта, Баадера. Шеллинг в «Разыскании о человеческой свободе» утверждал, что зло неотделимо от принципа личности, где индивидуум — там зло. Трагич. сущность индивидуума заложена в самой внутр. жизни космоса — здесь есть связь между Шеллингом и Шопенгауэром, а также и Ницше. Поздняя романтическая мысль часто нигилистически оценивала человека; например, Баадер отделял творчество от творящей личности и отводил человеку в процессе познания роль лишь соучастника и восприемника божеств, разума. В художеств, лит-ре тематика «мирового зла» и «мировой скорби» — достояние таких жанров, как «черный роман» Анны Рад-клиф, Льюиса, Мэтьюрнна, как «драма судьбы» Цаха-риаса Вернера, Грильпарцера и Клейста. Эти темы мы находим во мн. произв. Байрона, они определяют творчество Брентано и Гофмана и становятся центральными у Эдгара По и Хоторна. Романтич. ирония в более поздний период усвоила себе филос. скепсис и присоединилась к философии вселенского отрицания. Одновременно Р. продолжал поиски положит, идеала, стремясь найти историч. реальность, социальное тело,
РОМАНТИЗМ
523
 тс-рые вмещали бы без оговорок романтич. красоту бесконечной жизни и индивидуальной свободы. По иронии судьбы именно эти поиски приводили мн. романтиков к жалким развязкам. Устремленные вперед, в будущее, они становились апологетами отсталости, провинциализма, остатков средневековья в политич. и •обществ, быту европ. наций. Герцен в романе «Кто виноват» сформулировал характерно романтич. коллизию «довольства» и «развития»: либо «довольство», гармония, слаженность к.-н. отсталых и застойных жизненных форм, либо совр. развитие, но со всеми его драмами, разрывами и потрясениями. Романтики изображали ужасы «развития» и целыми школами погружались в «довольство»: «гейдельбергские» романтики, «швабская» школа с Уландом и 10. Кернером во главе в Германии, «озерная школа» с Вордс-вортом и Колриджем во главе в Англии, поэзия Жуковского, особенно позднейшего ее периода. Сюда же можно отнести и нек-рые идейные настроения славянофилов — привязанность к патриархальным временам и нравам, идеал «почвенности» у Ап. Григорьева как неизменности условий, в к-рых совершается жизнь нации, предпочтение умиротворенного сердца расколотому и болезненно неустроенному совр. рассудку в философии И. Киреевского. Уланд, Вордсворт, Кол-ридж, Жуковский проповедовали замкнутую жизнь и замкнутое счастье, однако укрытые уголки, изображенные ими, освещены неким всемирным светом, представлены в качестве явлений космоса, «универсума», как выражались романтики: консервативная тема обезвреживалась неконсервативным способом ее разработки.
тс-рые вмещали бы без оговорок романтич. красоту бесконечной жизни и индивидуальной свободы. По иронии судьбы именно эти поиски приводили мн. романтиков к жалким развязкам. Устремленные вперед, в будущее, они становились апологетами отсталости, провинциализма, остатков средневековья в политич. и •обществ, быту европ. наций. Герцен в романе «Кто виноват» сформулировал характерно романтич. коллизию «довольства» и «развития»: либо «довольство», гармония, слаженность к.-н. отсталых и застойных жизненных форм, либо совр. развитие, но со всеми его драмами, разрывами и потрясениями. Романтики изображали ужасы «развития» и целыми школами погружались в «довольство»: «гейдельбергские» романтики, «швабская» школа с Уландом и 10. Кернером во главе в Германии, «озерная школа» с Вордс-вортом и Колриджем во главе в Англии, поэзия Жуковского, особенно позднейшего ее периода. Сюда же можно отнести и нек-рые идейные настроения славянофилов — привязанность к патриархальным временам и нравам, идеал «почвенности» у Ап. Григорьева как неизменности условий, в к-рых совершается жизнь нации, предпочтение умиротворенного сердца расколотому и болезненно неустроенному совр. рассудку в философии И. Киреевского. Уланд, Вордсворт, Кол-ридж, Жуковский проповедовали замкнутую жизнь и замкнутое счастье, однако укрытые уголки, изображенные ими, освещены неким всемирным светом, представлены в качестве явлений космоса, «универсума», как выражались романтики: консервативная тема обезвреживалась неконсервативным способом ее разработки.
Р. много энергии уделил критич. обзору и истолкованию прошлой художеств, и филос. культуры (соч. Ф. и А. Шлегелей, Шеллинга в Германии, г-жи де Сталь и Констана во Франции, Колриджа, Хэзлитта, Чарлза Лэма, Карлейля в Англии). Романтики едва ли не впервые обратились к систематич. изучению духовного наследия средневековья и Ренессанса, а также культуры Востока (особенно Индии), они дали новую жизнь Данте, Шекспиру, Сервантесу, Каль-дорону, в философии проводили идеи Дж. Бруно, Николая Кузанского, Спинозы, к-рого они связывали с романтич. пантеизмом и считали предшественником Шеллинга. Романтики по-новому взглянули на антич. культуру. Отвернувшись от Рима, притягательного для классицистов, и выбрав только Элладу,они искали в греч. культуре не устойчивое, неизменно нормативное (как Винкелъман,Гёте,Шиллер), но им дороги были силы жизненного брожения, хаос творящей жизни. Теорию романтич. эллинизма развивали молодой Ф. Шлегель, обративший внимание на орфическую Грецию, Шеллинг в своей эстетике, поэтами этого направления были Гёльдерлин, Андре Шенье, Шелли, в нек-рых своих произв.— Ките, Байрон, Пушкин.
В борениях за широкую историч. основу для своей поэзии романтики пришли к фольклору, к корням народности в иск-ве и культуре. Предшественниками ях в этом отношении были Гердер, движение «Бури и натиска». В Германии Арним и Брентано издали сб. нар. песен, братья Гримм — сб. нар. сказок. В Англии В. Скотт издал собрание баллад шотл. побережья. Историч. романы В. Скотта положили начало реалис-тич. истолкованию истории, подготовили концепцию классовой борьбы в трудах Тьерри, Гизо, Минье и др. историков периода Реставрации. Романтики дали толчок изучению нар. иск-ва и нар. культуры. В то же время отношение к фольклору в их собств. творчестве далеко не всегда свободно от двусмысленности. У «гейдельбергских» и «швабских» романтиков, у поэтов «озерной школы» в обрамлении фольклора, его •форм и традиций гаснет поэт как совр. эмансипированная личность. Увлечению наивностью и непосредствен-
ностью нар. культуры у поэтов-романтиков соответствовали апология непосредственного, минующего рассудочный анализ познания в философии Шеллинга и его последователей. Приверженцы примитивной нар. культуры высказывались против культуры сколько-нибудь изощренной, внутренне самостоятельной, противопоставляя «естественное», натуральное умышленному, искусственному.
Консервативные устремления романтиков поддерживала Реставрация. Сложилась политич. доктрина в духе консервативного, охранит. Р. (Воналъд, де Местр, А. Мюллер, поздний Ф. Шлегель). Особое место заняла т. н. историческая школа в правовой науке Германии во главе с Савинъи, к-рая отвергала всякий новый почин в законодательстве, считая его произволом, претензией зазнавшегося рассудка: давность — вот обоснование закона для юристов этой школы. Остается дискуссионным вопрос, насколько правомерно относить этих филос. защитников церкви и престола, дворянской монархии и крепостничества к Р., к-рый по существу своему был чужд всякого застоя и; стоял за восприятие жизни в ее непрестанном развитии. Нередко Р. толкуют неверно, имея в виду не духовную биографию движения в целом, но биографию отд. его носителей.
Р. сходил с историч. сцены в разное время, тюк
сер. 19 в. он становился уже воспоминанием, достоя
нием историков, писавших о нем с немалым недоуме
нием, ибо наступало господство позитивизма,
к-рый вяз в ближайших фактах, с раздражением от
носился к голосу утопий и не мог освоить духовное
наследие Р., сложившегося в революц. героич. усло
виях бурж. развития. Умение или неумение совладать
с этим наследием оказалось важным показателем
дееспособности др. художеств, и филос. направлений
19 в. В иск-ве 19 в. высок был тот реализм — Бальза
ка, Стендаля, Диккенса, рус. классиков — к-рый
справился с наследием романтиков, включив в себя Р.
как преодоленный момент собств. жизнепонимания.
Это же определило и место, занятое философией Ге
геля, края восприняла достижения романтич. мысли,
во многом преодолев неадекватность их методов
познания. Н. Беркоеский. Ленинград.
Р. п философия. Деятельность ленского кружка нем. романтиков (в особенности Ф. Шлегеля, Шеллинга и Новалиса) имела наибольшее значение для филос. самоопределения Р.— как в Германии,так и в др. странах [в Англии — через посредство Колриджа и Карлейля; во Франции — благодаря книге г-жиде Сталь «О Германии» (t. 1—3, Р., 1810), в к-рой популяризировались идеи иенского Р.; в России под влиянием философии и эстетики Шеллинга протекала деятельность кружка московских «любомудров»]. Философия Фихте с его учением о творч. деятельности абс. субъекта, «Я», порождающего свой объект, как об универсальном принципе философии, с помощью к-рого Фихте преодолевает дуализм кантовской философии, является исходным пунктом миросозерцания иенских романтиков. Но, в отличие от Фихте, они ориентируются не на этику Канта, а на его эстетику, на содержащееся в ней представление об эстетич. способности суждения как о соединит, звене между мышлением и волей, в чем Кант усматривал возможность объединения естеств. необходимости и нравств. свободы. Эта идея была развита далее Шиллером в «Письмах об эстетическом воспитании», где иск-во призвано восстановить впутр. целостность человека, и легла в основу философии раннего Шеллинга, рассматривающего художеств, творчество как «извечный и подлинный органон» философии, непосредственно разрешающий все теоретич. антиномии: сознательного и бессознательного, созерцания и действия, чувственного и интеллигибельного, природы и свободы. Взгляд на действи-
524 РОМАНТИЗМ
 тельность как на эстетич. феномен и истолкование иск-ва как метафизич. первоосновы мира определяют своеобразие филос. позиции иенского Р. и его место в общем развитии нем. идеалистич. философии конца 18— нач. 19 вв.
тельность как на эстетич. феномен и истолкование иск-ва как метафизич. первоосновы мира определяют своеобразие филос. позиции иенского Р. и его место в общем развитии нем. идеалистич. философии конца 18— нач. 19 вв.
Мир рассматривается романтиками не как совокупность неизменных вещей и готовых форм, а как процесс бесконечного становления, к-рое является творческой духовной деятельностью и притом деятельностью символич. воплощения и раскрытия внутреннего во внешнем, т. е. художеств, деятельностью. Иск-во отображает эту сокровенную сущность мира и одновременно является ее самым совершенным воплощением, выступая как высшая реальность по отношению к эмпирич. действительности. «Поэзия на деле есть абсолютно-реальное. Это средоточие моей философии» (Н о в а л и с, Фрагменты, см. «Лит. теория нем. романтизма», с. 121). Иск-во не отображение жизни, а ее преображение (в этом оно сближается с религией): законы художеств, творчества мыслятся как конструктивные принципы преобразования действительности. Художник, реализующий в акте творчества все способности человеч. души, в противоположность одностороннему виртуозу к.-л. ограниченной профессии является человеком по преимуществу, и наоборот: каждый человек адекватно раскрывается только как художник, то, «...чем люди являются среди прочих творений земли, тем являются художники по отношению к людям» (Ш л е г е л ь Ф., там же, с. 170).
Природа — это бессознат. художеств, произведение духа. Рассмотрение природных образований по аналогии с произведениями иск-ва, бывшее у Канта в «Критике способности суждения» только методич. приемом, предстает в иенском Р. как раскрытие изначальной сущности природы. Отсюда вытекает идея всеобщего символизма («тайнописи») природы («Мир — универсальный троп духа, его символический образ»— Novalis, Briefe und Werke, Bd 3, В., 1943, S. 236; Вакенродер говорит о «двух чудесных языках» — природе и иск-ве — см. «Лит. теория нем. романтизма», с. 157—160). Т. о., эстетика оказывается ключом к пониманию романтич. натурфилософии, антропологии (к деятельности художника восходит, в частности, идея Новалиса об «обращенном употреблении органов чувств», о зрении и слухе как вынесенном вовне внутр. деятельном созерцании — см. там же, с. 128) и гносеологии («поэт постигает природу лучше, нежели разум ученого»,— там же, с. 121). Если классицизм ориентировал красоту на истину как нек-рую общезначимую меру всего бытия, то в Р. истина — это красота (Новалис: «чем поэтичнее, тем истинней», позже Мюссе перефразирует Буало: «Нет ничего истинного, кроме красоты» — цит. по кн.: Hauser A., Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, Bd 2, Munch., 1953, S. 187-88).
Иенские романтики стирают грани между философией и иск-вом: интуитивный символ, а не рассудочное понятие является адекватной формой философии, к-рая мыслится прежде всего как спонтанное выражение целостного переживания действительности,— в этом романтики противопоставляют себя всей традиции рационалистич. философии 17—18 вв. и выступают как предшественники Ницше и позднейшей философии жизни (самый термин принадлежит Ф. Шлегелю — «Philosophie des Lebens», 1827); характерно осуждение Шлейермахером фихтевского разделения жизни и философии: «Кто так строго разделяет философию и жизнь, как Фихте, что может быть в том великого? Большой односторонний виртуоз, но слишком мало человек» (Briefe Schleiermachers, В., 1923, S. 190). Новалис разграничивает мысль и идею; последняя не мыслится, а переживается и дает не знание, а убеждение. Ведущая роль в познании принадлежит
не интеллекту, а «интуиции», «внутреннему откровению» (Новалис). Интуитивное созерцание, непосредственно постигающее целое, бесконечно выше дедуктивного доказательства («Универсум нельзя ни объяснять, ни понимать, а только созерцать и открывать»— Schlegel Fr., Seine prosaischen Jugend-schriften, Bd 2, W., 1882, S. 306).
Несистематический, фрагментарный характер философии-Ф. Шлегеля и Новалиса отвечает их представлению о мире как о незавершенном творч. процессе становления и об относительности любого филос. и поэтич. высказывания (Новалис: философия — «бессистемность в системе», см. Briefe und Werke, Bd 3, S. 151). Фрагмент оказывается адекватной формой постижения этого незавершенного целого и обнажает относительность всякого аналитич. расчленения (идея «циклической философии» Ф. Шлегеля, предвосхищающая гегелевское понятие «опосредствования»: философия — не прямолинейное изложение, а круг, «эллипс», в ней все—первое и последнее, она должна начинать, подобно эпич. произв., прямо с «середины» — см. «Seine prosaischen Jugendschriften», Bd 2, S. 210, 216).
Представление об историч. динамике, выдвинутое Р., противостоит просветительскому пониманию истории как простой последовательности во времени, как прямолинейного восхождения вечного и неизменного в своей основе разума. Для романтиков характерно сознание прерывности и необратимости историч. процесса, качеств, отличия его отд. ступеней, однократности историч. становления; в философии культуры —• признание равноправия прошлых культур и их индивидуальной неповторимости (Ваккенродер). Внутр. проблематичность совр. культуры фиксируется романтиками в четком противопоставлении античной и «христианской» культур: последней свойственны рефлексия, разлад между идеалом и действительностью, «устремленность в бесконечное», в противоположность «естественной гармонии» и спокойному «обладанию» античности (см. A. W. Schlegel, Ueber dramatische Kunst und Literatur, Tl 1, Heidelberg, 1817, S. 25, 24). Отличит, чертой романтич. историзма является персонификация и мифологизация историч. сил: историч. эпохи рассматриваются как манифестация и воплощение самостоят, принципов, идей, как замкнутые саморазвертывающиеся индивидуальные организмы, проходящие известный цикл развития, в течение к-рого они реализуют определ. духовную структуру.
Философия культуры Р. складывается в процессе критики утилитаризма и авторитарных норм бурж. культуры (Шлейермахер говорит о «безнравственности» всякой морали, Новалис — о том, что для истинной религии нет ничего греховного). Р. подчеркивает автономность культуры, ее независимость от внешних целей. Свободное раскрытие личности (к-рое адекватно осуществляется только как художеств, творчество) — высший идеал романтич. этики: осуществление внутр. «призвания» важнее выполнения внешних обязанностей. Художеств, свобода понимается как право каждого художника следовать своему внутр. чувству, не считаясь с к.-л. внешними правилами и традиц. границами иск-ва: каждое индивидуальное произв. само создает себе законы и критерии оценки. Иенские романтики выдвигают утопия, идеал новой культуры, осн. чертами к-рой являются: 1) универсальность: она вбирает в себя все прошлые культуры, представляющие собой как бы предварит, опыт ее создания; 2) динамич. характер: творчество как бесконечный процесс выше любого его результата; всякая однозначная и окончат, форма менее ценна, чем открытая и неосуществленная возможность; 3) целостность: в ней сливаются воедино иск-во, наука, философия и религия; прообраз этой культуры романтики видят в древней мифологии и стремятся к созда-
РОМАНТИЗМ — РОМАНЬОЗИ 525
 нию новой общезначимой мифологии как продукта сознат. поэтич. творчества (в отличие от древности, где мифология была источником поэзии, здесь поэзия становится источником мифологии); 4) самоизображение: постоянная рефлексия культуры по поводу самой себя и своих продуктов (Ф. Шлегель говорит о «трансцендентальной философии» как «философии философии» и «трансцендентальной поэзии» как «поэзии поэзии» —см. там же, S. 242, 249); с этим связана романтич. ирония как имманентное сознание неадекватности между объектом и его любым художеств, и филос. отображением, между замыслом и воплощением, как чувство «языковой невыразимости», условности любого высказывания вообще.
нию новой общезначимой мифологии как продукта сознат. поэтич. творчества (в отличие от древности, где мифология была источником поэзии, здесь поэзия становится источником мифологии); 4) самоизображение: постоянная рефлексия культуры по поводу самой себя и своих продуктов (Ф. Шлегель говорит о «трансцендентальной философии» как «философии философии» и «трансцендентальной поэзии» как «поэзии поэзии» —см. там же, S. 242, 249); с этим связана романтич. ирония как имманентное сознание неадекватности между объектом и его любым художеств, и филос. отображением, между замыслом и воплощением, как чувство «языковой невыразимости», условности любого высказывания вообще.
Сознание несводимости языков различных иск-в друг к другу сопровождается у романтиков стремлением к их сочетанию, совместному воздействию различных иск-в, что приводит их к идее универс. художеств, произведения (Gesamtkunstwerk), реализованного впоследствии в творчестве Вагнера. Художеств, образ в противоположность предшествующей эстетике классицизма и Просвещения мыслится не как воплощение существующего независимо от пего идеального содержания, а впервые создает само это содержание: он оказывается не результатом идей, а их источником (с этим связана у романтиков вера в спонтанную творч. силу языка).
Натурфилософия Р., отталкиваясь от механистич. естествознания 17—18 вв., возрождает натурфилософию античности и Возрождения и продолжает традиции нем. мистики (Бёме) и теософии 18 в. (Баадер в своей полемике с Декартом и Ньютоном ориентируется на Сен-Мартена). Осн. идеи натурфилософии Р.: 1) по аналогии с произведениями иск-ва природа рассматривается как органич. целое, не сводимое к сумме своих частей и не выводимое из них; 2) генетич. подход к природе; Окен: натурфилософия — это «история порождения мира», космогония; Новалис: «Чтобы постичь природу, нужно заставить ее вновь возникать... во всей ее последовательности» («Нем. романтич. повесть», вступ. ст. и коммент. Н. Я. Берков-ского, т. 1,М.—Л., 1935, с. 135); 3) мистич. учение об универсальном соответствии природы и духа, внутреннего и внешнего. Новалис переосмысляет философию Фихте в объективном плане, понимая его антитезу «Я» и «не-Я» как параллелизм двух взаимно символизирующих друг друга начал (в духе мистич. представления о человеке-микрокосмосе и мире-макроантропосе, как у Я. Бёме).
Человек рассматривается как средоточие и конечная
цель естеств. процесса и одновременно как начальный
пункт сверхъестеств. откровения (Стеффенс). Движу
щими силами человеч. души являются не мышление и
интеллект (в к-рых философия Просвещения видела
осн. отличие человека от животных), а фантазия и
чувство. Новалис: чувство так относится к мышлению,
как бытие — к .изображению. Бессознат. влечения и
инстинкты, неконтролируемые психич. состояния
стоят в центре внимания романтич. антропологии;
болезнь, края рассматривается ею как «равноценная
возможность» бытия, занимает в ней такое же место,
как парадокс в философии: как критика обыденного
сознания и отрицание повседневного, «нормального»
существования. При этом происходит рационализация
бессознательного и критика проникает в самые интим
ные реакции, амбивалентность к-рых порождает
представление о «множестве личностей», сосуществу
ющих в одном и том же человеке (плюралистич. пони
мание личности у Новалиса; фигура двойника во мн.
романтич. произведениях). Ю. Попов. Москва.
Определение термина «Р.» и его история. Schultz Т., «Romantik» und «romantiscli» als literarhisto-tische Terminologien und Begriffsbildungen, «Deutsche Vier-reljahrsschrift fiir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte»,
1924, H. 3; U 1 1 m a n n R. und GotthardH., Geschiclite des Begriffes «romantisch» in Deutschland, В., 1927; Love-) о у А. О., The meaning of romanticism for the historian of ideas, «J. of the History of Ideas», 1941, v. 2, № 3; e г о ж е, Essays in the history of ideas, Baltimore, 1948, ch. 12; Pec k-ham M., Toward a theory of romanticism, «Publications of the Modern Language association of America», 1951, v. 66, №2; G 6 r a r d A., On the logic of romanticism, «Essays in Criticism», 1957, v. 7, JVa 3; R e m a k H. H., West European romanticism: definition and scope, в сб.: Comparative literature: method and perspective, ed. by N. P. Stallknecht and H. Frenz, Carbondale, [1961]; W e 1 1 e k R., Romanticism re-examined, в сб.: Romanticism reconsidered, selected papers..., ed. by N. Frye, N. Y.— L., 1964.
Лит.: Г а им Р., Романтич. школа, пер. с нем., М., 1891;
К о з м и н Н., Очерки по истории рус. Р., П., 1903; д е-Л а-
Б а р т Ф., Шатобриан и поэтика мировой скорби во Франции,
К., 1905; С т е п у н Ф., Трагедия творчества (Ф. Шлегель),
«Логос», 1910, кн. 1; С а к у л и н П. Н., Из истории рус. идеа
лизма. Князь В. Ф. Одоевский, т. 1, М., 1913; Жерлицын
М., Кольридж и англ. Р., О., 1914; Рус. Р. Сб. ст., под ред.
А. И. Белецкого, Л., 1927; Асмус В. Ф., Муз. эстетика
4илос. Р., «Сов. музыка»,1934, № 1; Б е р к о в с к и й Н. Я.,
Эететич. позиции нем. Р., в кн.: Лит. теория нем. Р., Л.,
1934, с. 5—118; Обломиевский Д., Франц. Р., М.,
1947; Реизов Б. Г., Между классицизмом и Р., Л., 1962;
Соколов А. Н-, К спорам о Р., «Вопр. лит-ры», 1У63,
№7; В а н с л о в В. В., Эстетика Р., М., 1966 (есть библ.);
J о а с h i m i M., Die Weltanschauung der deutschen Roman
tik, Jena—Lpz.,1905; Poetzsch A., Studien zur fruhroman-
tischen Politik und Geschichtsauffassung, Lpz., 1907 (Diss.);
Zurlinden L., Gedanken Platons in der deutschen Roman
tik, Lpz., 1910; Deutschbein M., Das Wesen des Ro-
mantischen, Gothen, 1921; Unger R., Herder, Novalis und
Kleist. Studien ttber die Entwicklung des Todesproblems in
Denken und Dichten vom Sturm und Drang zur Romantik,
Fr./M., 1922; W a 1 z e 1 O., Deutsche Romantik, 5 AufL, Bd
1—2, Lpz.—В., 1923—26; Baxa J., Einfuhrung in die ro-
mantische Staatswissenschaft, 2 AufL, Jena, 1931; К 1 u с k-
h о h n P., Perso'nlichkeit und Gemeinschaft. Studien zur Staats-
auffassung der deutschen Romantik, Halle (Salle), 1925;
Sch mitt C, Politische Romantik, 2 Aufl., Munch.—Lpz.,
1925; BrintonC, The political ideas of the English romanti
cists, L.—[a. o.],1926; В r i n k m a n n H., Die Idee des Lebens
in der deutschen Romantik, Augsburg, 1926; Baumgardt D.,
Franz von Baader und die philosophische Romantik, Halle
(Saale), 1927; St rich F., Deutsche Klassik und Romantik
oder Vollendung und Unendlichkeit, 3 AufL, Milnch., 1928;
Knittermeyer H., Schelling und die romantische Schule,
Munch., 1929: Gundolf F., Romantiker, [Bd 1—2], В.—
Wilmersdorf, 1930—31; В eguin A., L'ame romantique et
le reve. Essai sur le romantisme allemand et la poesie framjaise,
t. 1—2, Marseille, 1937; Kainz F., Die Sprachasthetik der
ji'mgeren Romantik, «Deutsche Vierteljahrsschrift fur Litera
turwissenschaft und Geistesgeschichte», 1938, Jg. 16, H. 2;
Benz R., Die deutsche Romantik, 2 AufL, Lpz., 1940;
God e-v onAesch A., Natural science in German romanti
cism, N. Y., 1941; H e d d e r i с h H. F., Die Gedanken der
Romantik iiber Kirche und Staat, Gutersloh, 1941; Reiff
P., Die Asthetik er deutschen Friihromantik, Urbana, 1946;
G r i mm e A., Vom Wesen der Romantik, В.—[u. a.], [1947];
Rupreeht E., Der Aufbruch der romantischen Bewegung,
Milnch., 1948; Van Tieghem P.,Le romantisme dans la
litterature europgenne, P., 1948; Clark M. U., The cult of
enthusiasm in French romanticism, Wash., 1950; Huch R.,
Die Romantik. Bliitezeit. Ausbreitung und Verfall, Tubingen,
1951; Giraud J., L'ecole romantique fran^aise. Les doct
rines et les homines, 6 ed., P., 1953; Benjamin W., Der
Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, Schrif-
ten, Bd 2, [Fr./M.], 1955; Poggeler O., Hegels Kritik
der Romantik, Bonn, 1956; Bowra С. М., The romantic
imagination, [2 ed.], L. [1957]; Cizevski D., On ro
manticism in Slavic literature, 's-Gravenhage, 1957; К о г f f
H. A., Geist der Goethezeit, [5 AufL], T13—4, Lpz., 1959—62;
Markwardt В., Geschichte der deutschen Poetik, Bd 3—
Klassik und Romantik, В., 1958; Jensen Chr. A. E.,
L'evolution du romantisme. L'annee 1826, Gen.— P., 1959;
Mason E. C, Deutsche und englische Romantik, Gott., [1959];
Schultz F., Klassik und Romantik der Deutschen, 3 AufL,
Tl 1—2, Stuttg., 1959; A b r a m s M. H., The mirror and the
lamp: romantic theory and the critical tradition, L., 1960;
Strohschneide r-K о h r s I., Die romantische Ironic in
Theorie und Gestaltung, Tubingen, 1960; А у r a u 11 R., La
genese du romantisme allemand, [t. 1—2], P., 1961; Jones
W. Т., The romantic syndrome, The Hague, 1961; Kluc-
khohn P., Das Ideengut der deutschen Romantik, 4 AufL,
Tubingen, 1961; Shroder M. Z., Icarus, the image of the
artist in French romanticism, Camb., 1961; Boas G. (ed.),
Romanticism in America, N. Y., 1961; S0rensen B. A.,
Symbol und Symbolismus in den asthetischen Theorien des 18.
Jahrhunderts und der deutschen Romantik, Kph., [1963];
Boas G,, French philosophies of the romantic period, N. Y.,
1964. Ал. В. Михайлов. Москва.
РОМАНЬОЗИ (Romagnosi), Джан Домеиико (И дек. 1761—8 июня 1835)—итал. философ и правовед.
526
РОМЕРО —РОСТОУ
 Противник абсолютизма и клерикализма, поборник бурж.-демократич. обществ, строя. Был в числе немногих итал. мыслителей того периода, испытавших значит.влияние идей Просвещения, в частности франц. сенсуализма (К ондилъяка). Однако сенсуализм сочетался в его мировоззрении с элементами идеалистич. рационализма. Полагая, что рацион, познание возникает на основе чувств, восприятий, источником к-рых является объективная реальность, Р. считал, что упорядочение чувств, данных происходит при посредстве идей, возникающих из самого сознания, хотя и не являющихся врожденными или предшествующими познанию (единство, форма, число, последовательность и т. п.). Р. отрицал возможность познания сущности вещей. Истина, по его мнению, состоит не в выявлении действит. природы реальности, а в согласованности познания с внешними воздействиями. Осн. задачей Р. считал создание «гражданской философии», отвечающей, в частности, нуждам будущего единого гос-ва. Становление последнего он рассматривал как необходимый результат истории страны. В отличие от ряда др. сенсуалистов, в своей концепции обществ, структуры и обществ, развития он исходил не из представления об изолированном человеке, а из мысли, что человек существует и должен рассматриваться всегда как общественный. Подойдя к пониманию социальной обусловленности и социальной функции морали, Р. полагал вместе с тем, что прогресс общества — продукт гражд. совершенствования, по пути к-рого народы ведет разум выдающихся «носителей цивилизации».
Противник абсолютизма и клерикализма, поборник бурж.-демократич. обществ, строя. Был в числе немногих итал. мыслителей того периода, испытавших значит.влияние идей Просвещения, в частности франц. сенсуализма (К ондилъяка). Однако сенсуализм сочетался в его мировоззрении с элементами идеалистич. рационализма. Полагая, что рацион, познание возникает на основе чувств, восприятий, источником к-рых является объективная реальность, Р. считал, что упорядочение чувств, данных происходит при посредстве идей, возникающих из самого сознания, хотя и не являющихся врожденными или предшествующими познанию (единство, форма, число, последовательность и т. п.). Р. отрицал возможность познания сущности вещей. Истина, по его мнению, состоит не в выявлении действит. природы реальности, а в согласованности познания с внешними воздействиями. Осн. задачей Р. считал создание «гражданской философии», отвечающей, в частности, нуждам будущего единого гос-ва. Становление последнего он рассматривал как необходимый результат истории страны. В отличие от ряда др. сенсуалистов, в своей концепции обществ, структуры и обществ, развития он исходил не из представления об изолированном человеке, а из мысли, что человек существует и должен рассматриваться всегда как общественный. Подойдя к пониманию социальной обусловленности и социальной функции морали, Р. полагал вместе с тем, что прогресс общества — продукт гражд. совершенствования, по пути к-рого народы ведет разум выдающихся «носителей цивилизации».
Соч.: Opere, v. 1—8, Palermo—Napoli, 1859—77.
Лит .: N о г s a A., II pensiero filosofico di G. D. Romagnosi,
Mil., 1930; Levi A., Romagnosi, Roma, 1935; Del V e c-
c h i о G., G. Romagnosi nel primo centenario della sus morte,
Padova, 1935; В e 1 1 о n i G.A., Saggi sul Romagnosi, Bocea—
Mil., 1940; D r a e t t a A., Della civile filosofia di G. D. Ro
magnosi, Bari, 1950; Berti G., Ponti ideologiehe e orienta-
menti sociali della democrazia italiana, «Societa», 1959, anno 15,
p. 673—734, 885 — 947. С. Эфиров. Москва.
РОМЁРО (Romero), Франсиско (р. 18 июля 1891) — аргепт. философ, взгляды к-рого складывались под влиянием зап. философии — феноменологии Гуссерля и философии жизни. Род. в Испании. Проф. философии в ун-те Буэнос-Айреса (1931—46) и в ун-те Ла-Платы (1936—46), ныне проф. философии Нац. педагогич. ин-та в Буэнос-Айресе. Р. выступил как один из сторонников антипозитивистского движения, развернувшегося в Лат. Америке еще во 2-й пол. 19 в. «Новое мировоззрение», к-рое Р. противопоставляет позитивизму, сочетает в себе элементы интуитивизма Бергсона, антропологии Шелера и «критической онтологии» Н. Гартмана, вслед за к-рым Р. рассматривает реальность как ступенчато-иерархич. структуру. В своем понимании личности был близок Ортеге-и-Га-сету, но, в отличие от последнего, отрицал детерминированность человеч. характера.
С оч.: Ldgica, В. Aires—Мех., 1942 (совм. с Е. Pucciarel-li); Sobre la historia de la filosofia, [Tucuman], 1943; Filosofia contemporanea, 2 ed., B. Aires, [1944]; Filosofia de la persona, Br. Aires, [1944]; El hombre у la culture, B. Aires, [1950]; Teo-ria del hombre, B. Aires, [1952]; Sobre la filosofia en America, B. Aires, [1952]; Ubicaci6n del hombre. Introducci6n a la antro-pologia filosufica, [B. Aires, 1954]; FU6sofos у problemas, 2ed., B. Aires, [1957]; Historia de la filosofia moderna, Мех., [1959].
Лит .: Perelstein В., Positivismo у antipositivismo
en la Argentina, B.-Aires, [1952]. А. Дерюгина. Москва.
РОМЁРУ (Romero), Силвиу (21 аир. 1851— 18 июля 1914) — браз. социолог, историк и литературовед, один из основоположников филос. «школы Ре-сифи»; ученик и соратник Баррету, испытал влияние Спенсера, полемизировал с Контом. Согласно близкому к пантеизму монистич. эволюционизму Р., все существующее — от космических до психических и социальных явлений — это различные формы единств, субстанции — вечной материи, к-рой присущи жизнь, чувство, сознание, свобода и целесообразность.
Р.— сторонник революц. преобразования общества: «... нет антиномии между нормальной эволюцией общества и революционными движениями; революция есть один из необходимых процессов развития нации»-. («Historia da literatura brasileira», v. 1, R. de J. 1953, p. 159).
Соч.: A philosofia no Brasil, Porto Alegre, 1878; Doutrine-contra doutrine ou о evolucionismo e о positivismo no Brasil, 2 ed., R. de J., 1896; Ensaio de philosofia do Direito, 2 ed.,. R. de J., 1908.
Лит .: История философии, т. 4, М., 1959, с. 422—25;.
Sanchez Reulet A. [ed.], La filosofia latinoamericanai
contemporanea..., Wash., [1949]. Ж. Базарян. Москва.
РОСС (Ross), Эдуард Олсуорт (12 дек. 1866— 22 июля 1951) —амер. социолог. В 1906—37—проф. социологии ун-та шт. Висконсин. Выступал в духе мелкобурж. критики трестов и милитаризма.
Социалыю-психологич. теория Р. складывалась под воздействием идей Дюркгейма и Тарда, Л. У орда и. Смолла. В работе «Социальный контроль» («The social control», N.Y., 1901), наметившей новую область исследований, Р. рассматривал основы «здорового социального порядка». Социальный контроль — «преднамеренное влияние общества на поведение человека», в отличие от бессознат. социального влияния; в то же время Р. часто расширял понятие контроля, подразумевая под ним все виды «социального внушения» (обществ, мнение, обычаи, религию, иск-вой др.). Р. различал внешний и внутр. механизмы контроля: первый основан на чувствах и является этич. по своему характеру, второй — на силе и авторитете и является политическим (законы, образование и т. д.). Общество — совокупность индивидуумов, связь к-рых создается исключительно социальным контролем. Хотя наиболее ценным является этич. контроль, когда обществ, ценности становятся интегральной частью личности, в совр. обществе гл. роль играет политич. контроль. Р. рассматривал средства контроля, пренебрегая его классовым характером и социально-экономич. генезисом.
Предмет социологии, по Р.,— социальный процесс как взаимодействие индивидуумов и социальных групп. Он намечает типы взаимодействия — процессы ассоциации, господства и эксплуатации, оппозиции, приспособления, стратификации, кооперации и др., к-рые приводят к образованию социальных групп. Социальные изменения Р. делил на «прогрессивные» и «регрессивные»: к числу последних он относил те, к-рые «углубляют конфликт классов». Р. написал первый в США учебник социальной психологии.
С о ч.: Foundations of sociology, N. Y.—L., 1905; Social psychology, N. Y., 1908; Sin and society, N. Y., 1907; Civic sociology, N. Y.—Chi., 1925; Seventy years of it, N. Y.—L., 1936; Principles of sociology, 3 ed., N. Y.— L., 1938.
А. Завадье. Москва.
РОСТОУ (Rostow), Уолт Уитмеи (р. 7 окт. 1916) — амер. бурж. социолог, экономист, историк. Преподавал в Колумбийском ун-те, во время 2-й мировой войны работал в Управлении стратегич. службы (разведке), а затем на др. гос. должностях. В 1950— 1960— проф. экономич. истории Массачусетсского технологии, ин-та. С 1961— глава Совета планирования политики при госдепартаменте США. Осн. взгляды Р. изложены в его кн. «Стадии экономич. роста. Не-коммунистич. манифест» («The stages of economic growth. A non-communist manifesto», Camb., 1960). Теория «стадий экономич. роста» представляет, по словам Р., теорию совр. истории в целом и альтернативу марксизму. Р. различает в развитии человечества пять стадий роста, противопоставляемых им обществ.-экономич. формациям: «традиционное общество» (период до конца феодализма), период «предпосылок», или «переходное общество» (переход к домонополистич. капитализму), период «взлета», или «сдвига» (может условно рассматриваться как развитие от домонополистич. к монополистич. капитализму), период «зрелости» — индустриальное общество и эра «высокого
РОСЦЕЛИН —РОТХАККЕР 527
 уровня массового потребления», идеальным типом к-рого Р. считает «англо-амер. образец», наконец, «рост благосостояния».
уровня массового потребления», идеальным типом к-рого Р. считает «англо-амер. образец», наконец, «рост благосостояния».
Р. оперирует признаками уровня развития пром-сти, техники, хозяйства в целом, науки и особенно доли накопления капитала в нац. доходе. Однако эти важные показатели развития общества Р. рассматривает в отрыве от определяющих социально-экономич. характеристик. Р. игнорирует формы собственности, а классовое деление общества подменяет проф. разделением труда. «Экономические изменения» Р. рассматривает как «последствие неэкономических человеческих порывов и устремлений», как результат субъективного «принятия решений и выбора» (указ. соч., р. 2, 150).
СССР, по Р., отстает от США на целую социальную эпоху. Р. пытается представить социализм и коммунизм как «нечто вроде болезни» (р. 164) и высказывает надежду, что с наступлением периода высокого уровня массового потребления «коммунизм, вероятно, зачахнет» (см. там же, р. 133), а СССР в ближайшие десятилетия эволюционирует в сторону капитализма. Концепцию «стадий роста» Р. рассматривает не только как «обоснование» вечности капитализма и «вызов» коммунизму, но и как средство борьбы за капитали-стич. путь развития стран Азии, Африки и Лат. Америки (см. «View from the seventh floor», N. Y., 1964, p. 87).
P. считает необходимым осуществить в рамках капитализма с целью его укрепления ряд экономич., социальных, политич. преобразований, в частности планирование, сочетающее централизм (гос-во) и плюрализм (капиталистич. корпорации), за что подвергается критике со стороны наиболее реакционных кругов США.
Антинауч. теория «стадий роста» Р. получила широкое распространение среди бурж. ученых и политиков и служит идеологич. оружием антикоммунизма.
Соч.: The dynamics of Soviet society, N. Y., 195i; Tlie United States in the world arena. An essay in recent history, N. Y., i960; The process of economic growth, 2 ed., Oxf., 1962; The economics of takeoff into sustained growth, ed. W- W. Rostow, N. Y., 1963.
Лит.: О с а д ч а я Н., Коллонтай В., Ш а м б е р г В., Семенов В., «Теория стадий» У. Ростоу, «Мировая экономика и междунар. отношения», 1961, № 7; Семенов Ю. Н., Теория «стадий экономич. развития», там же, 1963, N° 6; С е м е н о в В. С, Марксистская и бурж. социология о путях совр. обществ, развития, в кн.: Марксистская и бурж. социология сегодтгя, М., 1964; Замошкин Ю. А., Теория «единого индустриального общества» на службе антикоммунизма, там же; М ш в е н и с р а д з с В. В., Объективные основы развития общества, там же; В и л а р П., Экономика и история, в кн.: Какое будущее ожидает человечество?, Прага, 1964; К а п ы р и н В. С, Историч. материализм и «теория стадий экономич. роста» У. Ростоу, в кн.: Совр. капитализм и бурж. социология, М., 1965; Ми тин М. В., Семенов B.C., Движение человечества к коммунизму и бурж. концепция «единого индустриального общества», «ВФ», 1965, ,№ 5.
В. Семенов. Москва.
РОСЦЕЛИН (Roscelinus, Roscellinus, Ruzelinus), Иоанн (ок. 1050— ок. 1122) — франц. философ и богослов, первый крупный представитель ср.-век. номинализма. Род. в Компьене, где стал каноником it преподавал логику, применяя ее к теологич. проблемам. Воззрения Р. дошли до нас только в критич. изложении его противников: Анселъма Кентерберийского (S. Ап-selmus, De fide trinitatis et de incarnatione, yerbi contra blasphemies Ruzelini sive Roscelini, Migne, PL, t. 158; Письма о Р., Epistola 35, 41, 51, там же), с к-рым Р. вел упорную борьбу; Абеляра, учившегося у него, а затем резко полемизировавшего с ним в трактате «О троичности» («Do trinitate») и обвинявшего его перед парижским епископом; Иоанна Солсбе-рийского и др. Интерес представляет анонимное, более объективное изложение идей Р., имеющееся в одной из рукописей 12 в. в парижской Нац. биб-ке (№ 17813, iol. 19; см. В. Haureau, Notices et extraits de quelques manuscrits latins, t. 5, P., 1892). От самого Р. дошло
лишь письмо к Абеляру — «Epistola 15 que est Roscelini ad Abaelardum», Migne, PL, t. 178; см. также J. Reiners, Der Nominalismus in der Fruhscholastik, [Minister, 1910] (Beitrage zur Geschichte der Philo-sophie des Mittelalters, Bd 8, H. 5), в к-ром Р. в очень осторожной форме высказывал свои теологич. воззрения. Применив сформулированные им осн. идеи номинализма к учению о триединстве божием, Р. пришел к положениям, несовместимым с католич. догматикой, хотя сам он это отрицал. Утверждение, что действит. существованием могут обладать только «единичные вещи» (res singulares) и что общие понятия — лишь наименования (nomina), даже «звучания голоса» («flatus vocis») привело Р. в вопросе о сущности божеств, триединства к признанию каждого лица троицы самостоятельным и раздельно существующим божеством и послужило основанием к обвинению его в «тритеизме» (троебожии). Церк. собор в Суассоне (1092) объявил учение Р. еретическим, заставил его от него отречься. Противники Р., напр. Аисельм Кен-терберийский, отмечали связь между догматич. заблуждениями Р. и его пониманием разума, который «...должен быть управителем и судьей над всем, что есть в человеческой душе, но он настолько опутан телесными представлениями (imaginationibus corporali-bus), что не может от них освободиться» («De fide...», Migne, PL,1.158, col.265). В этих словах звучат нападки на прогрессивную рационалистич. и материалистич. тенденцию, к-рая проступала в идеях номиналистов и была в самой своей основе неприемлема для защитников догматич. богословия. В борьбе за эту тенденцию следует видеть историч. заслугу Р. как первого ср.-век. философа, выступившего против платоновского идеализма в его ср.-век. форме и защищавшего права разума против слепого авторитета церкви.
Лит.: История философии, т. 1, [М.], 1940 (по имен, ука-
зат.); Сидорова Н. А., Очерки по истории ранней гор.
культуры во Франции, М., 1953 (по указателю); Транел-
б е р г О. В., Очерки по истории западно-европ. ср.-век. фило
софии, М., 1957, с. 26, 32, 34, 35; Adlhoch В., Roscelia
und St. Anselm, «Philosophisches Jahrbuch», 1907, Bd 20, S.
442—56; Pica vet F., Roscelin philosophe et theologien»
[2 ed.J, P., 1911; Wilmart A., Le premier ouvrage de st. An-
selme contre le tritheisme de Roscelin, «Recherches de theologie-
ancienne et medievale» (Louvain), 1931, № 3; Grabmann
M., Die Geschichte der scholastischen Methode, Bd 1—2, В.,
1957 (по Указат.). Б. Ромм. Ленинград.
РОТХАККЕР (Rothacker), Эрих (12 марта 1888—10 авг. 1965)—нем. философ, психолог и социолог культуры. Проф. философии в Гейдельбергском (1924—29) и Боннском (с 1928) ун-тах. Филос. концепция Р. сложилась под влиянием Дильтея и нем. историч. школы. Осн. внимание он уделял философии истории как. науке, изучающей структуру и законы жизни народов, а также «гносеологию и методологию историч. познания». Предпосылкой познания действительности, по-Р., является «значимость», т. е. отнесенность знания к конкретной ситуации, в к-рой действует познающий субъект. При этом субъектом любого знания, творения и действия является конкретная историч. общность, людей (см. ст. Р. о собств. взглядах в кн.: W. Ziegen-fuss, G. Jung, Philosophen-Lexikon. Handworterbuch der Philosophie nach Personen, Bd 2, В., 1950, S. 375). Внешний мир, по Р., неотделим от «значимости» и является ее объективацией. Не отрицая объективного познания, Р., следуя Дильтею, подчеркивает, что» этим путем еще не достигается понимание целостности жизни. Оно достижимо лишь с помощью интуиции, «творч. прозрений». Все качества, к-рыми характеризуется историч. действительность, суть символы нашего жизненного чувства (см. «Logik und Systematik der Geisteswissenschaft», Bonn, 1926, S. 163). Мировоззрение, по Р., включает все духовные факторы, определяющие как миротолкование, так и поведение человека в пределах определ. социальной общности. Р. определяет культуру («стиль жизни») как специфич.
528
РОШЕ — РУАЙЕ-КОЛЛАР
 способ действия, мышления, миропонимания, организации жизни. Осн. носители «культуры» — общности, группы, народы и нации. В них специфичность способов действия и мышления развертывается от индивидуальной духовной жизни к обществ, «стилям жизни», получающим для отд. индивида авторитарную силу. Р. сводит историч. процесс к творч. развитию сознания и самосознания отд. индивидов и социалы-пых общностей. В то же время Р. считает, что в конечном счете творч. одаренность различных социальных групп и народов определяют биологич. факторы. Заявляя, что каждое общество проявляется как спе-дифич. культурная целостность жизни, он отвергает взгляд на историю как единый закономерный процесс и понятие историч. прогресса.
способ действия, мышления, миропонимания, организации жизни. Осн. носители «культуры» — общности, группы, народы и нации. В них специфичность способов действия и мышления развертывается от индивидуальной духовной жизни к обществ, «стилям жизни», получающим для отд. индивида авторитарную силу. Р. сводит историч. процесс к творч. развитию сознания и самосознания отд. индивидов и социалы-пых общностей. В то же время Р. считает, что в конечном счете творч. одаренность различных социальных групп и народов определяют биологич. факторы. Заявляя, что каждое общество проявляется как спе-дифич. культурная целостность жизни, он отвергает взгляд на историю как единый закономерный процесс и понятие историч. прогресса.
Филос. взгляды Р. непосредственно связаны с ре-акц. общественно-политич. убеждениями. В годы нацизма Р. восхвалял национал-социализм.
Соч.: Geschichtsphilosophie, Munch.—В., 1934; Probleme der Kulturanthropologie, Bonn, 1948; Mensch und Geschichte, Bonn, 1950; DieSchichten der Personlichkeit, 6 Aufl., Bonn, 1965; Die dogmatische Denkform in den Geisteswissenschaften und das Problem des Historismus, Mainz, 1954; Intuition und Beg-riff, Bonn, 1963; Philosophische Anthropologic, Bonn, 1964.
Лит.: К о Н И. С, Бурж. философия истории в тупике,
■«Вопр. истории», I960, № 12. И. Добронравов. Москва.
|
|
РОШЁ (Rochet), Вальдек (р. 5 апр. 1905) — деятель франц. и междунар. коммунистич. и рабочего движения, ген. секретарь Франц. коммунистич. партии. В 1924 вступил в члены ФКП. В 1932—34— секретарь Лионского обкома (федерации) ФКП, затем секретарь аграрной секции ЦК ФКП, член бюро Всеобщей конфедерации трудящихся крестьян, ген. советник департамента Соны. В 1936' избран кандидатом в члены ЦК ФКП и депутатом парламента. В 1940 по процессу 44 франц. депутатов-коммунистов был осужден на 5 лет каторжных работ. В 1943— 1944— представитель ЦК ФКП во Франц. комитете нац. освобождения в Лондоне, делегат временной Консультативной ассамблеи, председатель комиссии ассамблеи по вопросам с. х-ва. С 1945— руководитель комиссии ЦК ФКП по вопросам работы среди крестьян и политич. директор газ. «La terre» («Земля»). В дальнейшем — депутат Учредит, собрания, председатель комиссии Собрания по вопросам с. х-ва и снабжения, депутат Нац. собрания. В 1945—50— кандидат в члены Политбюро, с 1950— член Политбюро ФКП. С мая 1961— заместитель ген. секретаря ФКП. На XVII съезде ФКП (май 1964) был избран ген. секретарем.
В своих произв. Р. разрабатывает такие важнейшие проблемы современности, как проблемы демократии, разнообразие форм перехода от капитализма к социализму, характер диктатуры пролетариата в совр. условиях, возможности предотвращения войн, единство демократия, сил и т. д. На XVI и XVII съездах ФКП (1961 и 1964) Р. выступал с отчетными докладами ЦК партии, в к-рых был дан анализ политич. положения и определена программа демократич. обновления Франции. В докладе ЦК на XVII съезде ФКП Р. подчеркнул, что новое соотношение сил, сложившееся в мире, создало и новые условия для перехода к -социализму; он говорил: «Мы считаем, что прежде всего в борьбе за то, чтобы положить конец господству монополий, в борьбе за подлинную политику мира, за все более глубокие демократические и социальные реформы рабочий класс сможет осуществить •свое единство и объединить вокруг себя все антимоно-лолистические слои... Развиваясь именно в этом на-
правлении, борьба за развитие демократии становится составной частью борьбы за социализм» («Rapport du comite centra]», см. «Cahiers du communisme», 1964, № 6—7, p. 51).
Во многих своих произв. Р. подчеркивает необходимость союза рабочего класса и трудового крестьянства в общей борьбе за демократию и социализм. Совершенно очевидно, пишет Р. в кн. «Труженики полей» («Ces de la terre», P., 1964; рус. пер., М., 1964), что в такой стране, как Франция, «где трудящееся крестьянство представляет собой вторую по порядку силу, испытывающую капиталистическую эксплуатацию, союз рабочих и крестьян является первым условием общей победы и тех и других» (р. 322).
Подчеркивая, что политика мирного сосуществования между гос-вами с различными социальными системами отнюдь не означает исчезновения классовой или ослабления идеологич. борьбы, Р. пишет: «Классовая борьба продолжает усиливаться, и параллельно с этим, в идеологическом плане, марксизм и буржуазная идеология неизбежно ведут ожесточенную борьбу в сознании миллионов людей».
Особое внимание уделяет Р. роли и месту интеллигенции в борьбе Франц. компартии. «Партия,— подчеркивает Р.,— углубила и будет впредь развивать свою программу демократического и национального обновления при непосредственном участии коммунистов-интеллигентов, работающих в самых разных областях...» («Le marxisme et les chemins de l'ave-nir», P., 1966, p. 73).
Вся практич. и теоретич. деятельность Р. связана с неустанной борьбой ФКП за мир и дружбу между народами, в поддержку национально-освободит. движения, за единство всех революционных, прогрессивных сил современности.
Верная принципам пролет, интернационализма, ФКП последовательно борется за укрепление единства и сплоченности междунар. коммунистич. и рабочего движения. Выступая на XVII съезде ФКП, Р. говорил: «Французская коммунистическая партия приложит все силы к тому, чтобы укрепить единство международного коммунистического движения — залог победы в борьбе против империализма, за мир, социальный прогресс, за демократию, за социализм» («Cahiers du communisme», 1964, № 6—7, p. 104).
P. всемерно способствует укреплению и развитию добрых традиций братства и пролет, солидарности между ФКП и КПСС, дружбы между народами СССР и Франции.
Соч.: Отчетный доклад ЦК ФКП, в кн.: XVI съезд Французской коммунистической партии, М., 1962; Qu'est-ce que la philosophie marxiste?, P., 1962.
Лит.: Седых В. Н., Вальдек Роше (К 60-летию со дня рождения), «Вопр. истории КПСС», 1965, № 4.
РбШКА (Rofca), Думитру (р. 29 янв'. 1895)'— рум! философ, проф. Клужского ун-та; чл.-корр. АН СРР (с 1963). В прошлом Р. разрабатывал вопросы этики с идеалистич. позиций, но выступал с критикой иррационализма. После освобождения страны Р. изучал марксистскую философию, анализировал с марксистской т. зр. нек-рые вопросы гегелевской логики, в частности теорию понятия. Перевел на рум. яз. осн. работы Гегеля.
С о ч.: L'influence de Hegel sur Taine theoricien de la con-naissance. de l'art, P., 1928.
РУАИЁ - КОЛЛАР (Royer-Collard), Пьер Поль (21 июня 1763—4 септ. 1845) — франц. философ, эклектик спириту ал ястич. направления, умеренный либерал — «роялист буржуазной породы», как называл его франц. историк Филипп (см. A. Phillippe, Royer-Collard. Sa vie publique, sa vie privee, sa famille, P., 1857). В философии Р.-К. соединял противоположные филос. учения, но гл. источниками его филос. концепции были идеи Мен де Бирана и Рида. Для Р.-К. внеш-
РУБИН —РУГЕ 529
 ний мир реален, об этом свидетельствует повседневный опыт человека. Однако, вслед за Ридом, убеждение в существовании этой реальности Р.-К. основывал на вере, что и составляло теоретич. основу его спиритуализма, его критики сенсуализма. Р.-К. подчеркивал активность души или разума, к-рый не менее, чем ощущения, является, по его мнению, источником наших знаний: «... существование универсума, универсального времени, внешней причинности, все эти труднопостижимые тайны скрыты в еще более глубокой тайне жизни интеллектуальной...» (цит. по кн.: Reid T h., Oeuvres completes..., t. 4, P., 1828, p. 433; Соч. Р.-К. опубликовано в приложении S 3-му и 4-му тт. этого издания). Примыкая к Лейбницу, Р.-К. понимал «я» как некую духовную сущноста- Рассматривая взаимоотношение субъекта и объекта, Р.-К. утверждал, что уже первое ощущение «...которое мы испытываем, раскрывает нам единство дву£ фактов — действительную реальность того, что ощущается и действительное существование того, что ощущает» (там же, р. 434). Существование и мышление одновременны, одно не г^-щвета^ет без друтото. Tas.H'4 образом, Р.-К. отрицал объективное содержание ощущений, знания, приходил к идеалистич. выводу, не только переводя в спиритуалистич. план, но, в сущности, отрицая свое признание реальности внешнего мира. Идеалистич. эклектич. учение Р.-К. продолжил Кузен, оно давало пищу для различных субъективно-идеалистич. течений и во 2-й пол. 19 в.
ний мир реален, об этом свидетельствует повседневный опыт человека. Однако, вслед за Ридом, убеждение в существовании этой реальности Р.-К. основывал на вере, что и составляло теоретич. основу его спиритуализма, его критики сенсуализма. Р.-К. подчеркивал активность души или разума, к-рый не менее, чем ощущения, является, по его мнению, источником наших знаний: «... существование универсума, универсального времени, внешней причинности, все эти труднопостижимые тайны скрыты в еще более глубокой тайне жизни интеллектуальной...» (цит. по кн.: Reid T h., Oeuvres completes..., t. 4, P., 1828, p. 433; Соч. Р.-К. опубликовано в приложении S 3-му и 4-му тт. этого издания). Примыкая к Лейбницу, Р.-К. понимал «я» как некую духовную сущноста- Рассматривая взаимоотношение субъекта и объекта, Р.-К. утверждал, что уже первое ощущение «...которое мы испытываем, раскрывает нам единство дву£ фактов — действительную реальность того, что ощущается и действительное существование того, что ощущает» (там же, р. 434). Существование и мышление одновременны, одно не г^-щвета^ет без друтото. Tas.H'4 образом, Р.-К. отрицал объективное содержание ощущений, знания, приходил к идеалистич. выводу, не только переводя в спиритуалистич. план, но, в сущности, отрицая свое признание реальности внешнего мира. Идеалистич. эклектич. учение Р.-К. продолжил Кузен, оно давало пищу для различных субъективно-идеалистич. течений и во 2-й пол. 19 в.
Соч.: Les fragments philosophiques..., par A. Schifnberg., P., 1913.
Лит .: История философии, т. 3, [М.], 1943, с 399—400; История философии, т. 2, М., 1957, с. 193; BaranteA.de, La vie politique de M. Royer-Gollard, ses discours et seS ecrits, 2 ей ., v. 1—2, P., 1863; Baudrillart H., Putdicistes modernes, P., 1863; Royer-Collard, в кн.: Dictionnairt! des sciences philosophiques, sous la dir. de Ad. Franck, P-, 1885; S p u 1 1 e r E., Rover-Gollard, P., 1895; AntonesOu G.„ Royer-Collard als Philosoph, Borna—Lpz., 1904 (Diss.); N e s-m e s-D esmarets R. de, Les doctrines politiques de Royer-Collard, [Montpellier], 1908 (Diss.); J о v у Е., De Royer-Collard a Racine, Vitry-le-Frant;ois, 1917.
Г. Зельманова. Ленинград.
РУБИН, Арон Ильич [29 дек. 1888 (10 янв. 1889)— 7 янв. 1961] — сов. философ, переводчик филос. лит-ры. Кандидат филос. наук (с 1944). Окончил юридич. фак-т Петерб. ун-та (1911), аспирантуру Ин-та философии РАНИОН (1929). В 1924—28 участвовал в подготовке к печати докторской диссертации Маркса. Преподавал (с 1928) философию и логику в вузах Москвы, Калинина, Ярославля. Исследовал историю зап.-европ. философии нового времени, ср.-век., араб. и евр. философий (см., напр., ст. Брэдлей, Гердер в 1-м лзд. БСЭ), проблемы логики. Неск. статей Р. посвящено филос. интерпретации произведений рус. поэзии («Поэт вечного воспоминания», опубл. в жури. «Северные зап.», 1914, окт.—нояб.) и логики («О логич. учении Аристотеля», «ВФ», 1955, № 2). Р. принадлежат переводы произведений X. Уарте («Исследование способностей к наукам», М., 1960), Дж. Бруно («О бесконечности, вселенной и мирах», в кн.: Дж. Бруно, Диалоги, М.,1949), М. Маймонида (главы из «Путеводителя колеблющихся», в приложении к кн. С. Н. Григоряна, «Из истории философии Ср. Азии и Ирана VII—XII вв.», М., 1960), Ибн Рошда [«Опровержение опровержения» (совм. с А. В. Сагадеевым), в кн.: Избр- произв. мыслителей стран Ближнего и Ср. Востока IX— XIV вв., М., 1961], польских мыслителей (в кн.: Избр. произв. прогрессивных польских мыслителей, т. 1—3, М., 1956—58).
РУБИНШТЕЙН. Сергей Леонидович [6(18) июня 1889—11 янв. 1960] — сов. психолог и философ, чл.-корр. АН СССР (с 1943). Зав. кафедрами психологии Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена (1930—42), Моск. гос. ун-та (1942—50), директор Ин-та психологии АПН РСФСР (1942—45), зам. директора Ин-та
философии АН СССР (1945—49), зав. сектором психологии Ин-та философии АН СССР (1945—60).
Осн. направление исследований — филос. проблемы психологии, критич. анализ гл. направлений зарубежной психологии и философии, конкретное исследование проблем памяти, восприятия, речи, мышления. Применил к психологии марксово понятие деятельности (1934); в труде «Основы общей психологии» (1940, 2-е изд., 1946; первое изд. удостоено Гос. премии СССР) Р. представил систему психологии, основанную на принципе единства сознания и деятельности. Разработал диалектико-материалистич. понимание принципа детерминизма применительно к психологии (действие внешних причин через посредство внутр. условий), конкретизировал марксистскую концепцию психического как идеального, субъективного и предложил оригинальную трактовку категории объекта. Дал анализ экономическо-филос. рукописей Маркса 1844 применительно к психологии (1959). На основе принципа детерминизма развил рефлекторную теорию мышления. В последние годы исследовал прлйулму HftjiVbftKa ъ плата «.нтйяетжй, '«шьеол-отжй и этики.
С о ч.: Проблемы психологии в трудах К. Маркса, «Сов.
психотехника», 1934, т. 7, JVS i; Бытие и сознание, М., 1957;
О мышлении и путях его исследования, М., 1958; Принципы и
пути развития психологии, М., 1959; Проблема способностей
и вопросы психологич. теории, «Вопр. психологии», 1960,
Hi 3; Очередные задачи психологич. исследования мышления,
в сб.: Исследования мышления в сов. психологии, М., 1966;
Процесс мышления и закономерности анализа, синтеза и обоб
щения, под общ. ред. С. Л. Рубинштейна, М., 1960; Из неопубл.
рукописи С. Л. Рубинштейна «Человек и мир», «ВФ»,
1966, № 7. К. Славская. Москва.
РУГЕ (Ruge), Арнольд (13 сент.1802—31 дек. 1880)— нем. философ-младогегельянец, политич. деятель, публицист, писатель. За участие в буршеншафтах, требовавших политич. свобод и единства Германии,арестован в 1824 и до 1830 находился в заключении в Кольберге. В 1831 Галльский ун-т присудил ему докторскую степень за работу «Эстетика Платона» («Die Platonische Aesthetik», Halle, 1832); с 1832—приват-доцент филологии и древней философии в этом ун-те. В 1838—43 Р. — глава младогегельянства (см. Гегельянство). Вместе со своим другом Т. Эхтермейером (1805—44) основал журн. «Hallische Jahrbiicher fur deutsche Wissen-schaft und Kunst» («Галльский ежегодник по вопросам немецкой науки и искусства»), начавший выходить в Галле 1 янв. 1838 (с 1 июля 1841— в Дрездене под названием «Deutsche Jahrbiicher fur Wissenschaft und Kunst»). Провозгласив девизом журнала соединение философии с практич. задачами дня, Р. вскоре превратил журнал в трибуну нем. бурж. радикализма.
Кульминац. пунктом идейного развития Р. явилась его ст. «Самокритика либерализма» («Selbstkritik des Liberalismus», опубл. в журн. «Deutsche Jahrbiicher fur Wissenschaft und Kunst», 1843, 2. Jan.), в к-рой он пришел к требованию претворить либерализм в демократизм. Однако демократизм Р. был половинчатым, не выходившим за рамки бурж. радикализма. Эта половинчатость обнаруживается и в его филос. кредо, к-рое Р. изложил в ст. «Гегелевская философия права и политика нашего времени» («Die Hegelsche Rechtsphilosophie und die Politik unserer Zeit»). Здесь P. одним из первых подверг критике гегелевскую философию права за превращение конкретных историч. явлений в чисто логич. категории. Тем не менее эта критика не выводила Р. за пределы идеализма, ибо для него «конкретное государство является не чем иным, как формой существования духа, в которой последний воплощается исторически» («Deutsche Jahr-bucher...», № 191, 12. August, S. 762).
С идеалистич. позиций поддерживал он и фейерба-ховский антропологизм. Сотрудничество с Фейербахом Р. начал еще в 1838, предоставив ему страницы своего
530
РУДАШ — РУМЛ
 журнала. В 1841—42 «Нем. ежегодник» развернул обсуждение «Сущности христианства», поддержав Фейербаха против Штрауса в полемике о «чуде». Одновременно Р. сам написал обширную рецензию на «Сущность христианства», проницательно усмотрев «очень существенное отличие Фейербаха от всей гегельянской, даже от так называемой младогегельян-ской философии»: если младогегельянцы лишь вскрывали непоследовательность Гегеля и выводили необходимые следствия из его философии, то «... позитивное уничтожение существенной части гегелевской философии, а именно философии религии, впервые дал Фейербах в „Сущности христианства" в форме феноменологии христианской религии» («Anekdota zur neues-ten deutschenPhilosophie undPublicistik»,Z.,1843,Bd 2, S. 17 —18). Однако Р., подобно большинству современников, не понял тогда подлинного, материалистич. содержания произведения Фейербаха. Гораздо ближе к выяснению сути дела уже в начале 1842 подошел молодой Маркс в ст. «Лютер как третейский судья между Штраусом и Фейербахом» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 1, с. 28—29), опубликованной в «Нем. ежегоднике». В связи с публикацией этой и др. статей между Марксом и Р. завязывается в 1842 переписка. Весной 1843, после запрещения «Нем. ежегодника» и редактировавшейся Марксом «Рейнской газеты», Р. и Маркс решили совместно издавать в Париже «Нем.-франц. ежегодник». В это время завершается переход Маркса и Энгельса к материализму и коммунизму. Между тем Р. остался на половинчатых позициях бурж. радикализма. Враждебно относясь к пролет, коммунизму, он под псевдонимом «Пруссак» выступил в газете «Vorwarts» со статьей, принижавшей значение восстания силозских ткачей в июне 1844. Эту позицию Маркс подверг резкой критике в «Критических заметках к статье „Пруссака" „Король прусский и социальная реформа"» (см. там же, с. 430—48). В результате обнаружившихся идейных разногласий прекратилось издание «Нем.-франц. ежегодника», а вместе с ним закончилась и восходящая фаза идейного развития Р. В дальнейшем Р. был деятелем нем. мелкобурж. демократии, принимал участие в революции 1848, а в 1866 стал национал-либералом.
журнала. В 1841—42 «Нем. ежегодник» развернул обсуждение «Сущности христианства», поддержав Фейербаха против Штрауса в полемике о «чуде». Одновременно Р. сам написал обширную рецензию на «Сущность христианства», проницательно усмотрев «очень существенное отличие Фейербаха от всей гегельянской, даже от так называемой младогегельян-ской философии»: если младогегельянцы лишь вскрывали непоследовательность Гегеля и выводили необходимые следствия из его философии, то «... позитивное уничтожение существенной части гегелевской философии, а именно философии религии, впервые дал Фейербах в „Сущности христианства" в форме феноменологии христианской религии» («Anekdota zur neues-ten deutschenPhilosophie undPublicistik»,Z.,1843,Bd 2, S. 17 —18). Однако Р., подобно большинству современников, не понял тогда подлинного, материалистич. содержания произведения Фейербаха. Гораздо ближе к выяснению сути дела уже в начале 1842 подошел молодой Маркс в ст. «Лютер как третейский судья между Штраусом и Фейербахом» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 1, с. 28—29), опубликованной в «Нем. ежегоднике». В связи с публикацией этой и др. статей между Марксом и Р. завязывается в 1842 переписка. Весной 1843, после запрещения «Нем. ежегодника» и редактировавшейся Марксом «Рейнской газеты», Р. и Маркс решили совместно издавать в Париже «Нем.-франц. ежегодник». В это время завершается переход Маркса и Энгельса к материализму и коммунизму. Между тем Р. остался на половинчатых позициях бурж. радикализма. Враждебно относясь к пролет, коммунизму, он под псевдонимом «Пруссак» выступил в газете «Vorwarts» со статьей, принижавшей значение восстания силозских ткачей в июне 1844. Эту позицию Маркс подверг резкой критике в «Критических заметках к статье „Пруссака" „Король прусский и социальная реформа"» (см. там же, с. 430—48). В результате обнаружившихся идейных разногласий прекратилось издание «Нем.-франц. ежегодника», а вместе с ним закончилась и восходящая фаза идейного развития Р. В дальнейшем Р. был деятелем нем. мелкобурж. демократии, принимал участие в революции 1848, а в 1866 стал национал-либералом.
Несмотря на свою вражду к коммунизму, Р. дал высокую оценку первому тому «Капитала», считая, что «Маркс обладает широкой ученостью и блестящим диалектическим талантом» (цит. по кн.: М е-р и н г Ф., Карл Маркс. История его жизни, М., 1957, с. 408).
Соч.: Neue Vorschule der Aesthetik. Das Komische mit einem komisclien Anhange, Halle, 1836; [2 Aufl.], Halle, 1837; Zwei Jahrein Paris, Tl 1—2, Lpz., 1846; Samtliche Werke, 2 Aufl., Bd 1 — 10, Mannheim, 1847—48; Politische Bilder aus der Zeit, Tl 1—2, Lpz., 1847—48; Die Griindung der Demokratle in Deut-schland, oder der Volksstaat und der social-demokratische Freistaat, Lpz., 1849; Aus friiherer Zeit, Bd 1 — 4, В., 1862—67; Der Krieg und die Entwaffnung, В., 1867; Geschichte unserer Zeit, Lpz.—Hdlb., 1881; Bricfwechsel und Tagebuchblatter aus den Jahren 1825—1880, hrsg. von P. Nerrlich, Bd 1—2, В., 1886; Ausgewahlte Texte, в кн.: S t r a u s s D. F. [u. a.], Die Junghegelianer, В., 1963.
Лит.: Маркс К., [Письма к Руге 1842—1843 гг.], в кн.:
М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Из ранних произведений, М.,
1956, с. 240—49, 251—57; его же, Письма из «Deutsch-Fran-
zosische Jahrbucher», Маркс К. и Энгельс Ф., -Соч.,
2 изд., т. 1, с. 371—81; Маркс К. и Энгельс Ф.,
Великие мужи эмиграции, там же, т. 8; К о р н ю О., К. Маркс
и Ф. Энгельс. Жизнь и деятельность, т. 1 — 2, М., 1959—61;
Rosenberg H.,A. Ruge und die «Hallischen Jahrbucher»,
«Archiv fur Kulturgeschichte», 1929, Bd 20, H. 3; N e h e r W.,
A. Ruge als Politiker und politischer Schriftsteller, Hdlb.,
1933 (Heidelbcrger Abhandlungen zur mittleren und neueren
Geschichte, H. 64). К. Лапин. Москва.
РУДАШ (Rudas), Ласло (1885—1950) — венг. философ-марксист, один из основателей Коммунистич. партии Венгрии. После поражения Венгерской советской республики (1 авг. 1919) находился в СССР, принимая активное участие в междунар. коммунистич. движении. Р. пропагандировал идеи диалектич. и ис-
торич. материализма, выступал против ревизии марксизма-ленинизма. В 20-е гг. принимал непосредств. участие в дискуссии с «механистами». После возвращения в Венгрию в 1945 Р. возглавил Высшую парт, школу, затем стал ректором Экономия, ин-та в Будапеште. Им был написан ряд работ, посвященных изложению основ философии марксизма-ленинизма; книга Р. «Материалистическое мировоззрение» («Ма-terialista vilagnezet», 1947, 4 kiadv., Bdpst, 1950)— первое системами, изложение диалектич. материализма в Венгрии. Р. неоднократно выступал с критикой эстетич. и филос. концепций Лукача.
М. Хевеши. Москва.
РУДНЯНЬСКИЙ, Стефан (Щепан Рун и ч, Р у б е р) (28 аир. 1887— 23 июня 1941) — польский философ-марксист и обществ, деятель. Первым перевел на польский яз. кн. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Доктор философии (с 1927), проф. Львовского ун-та (1939—41). Чл. Коммунистич. партии Польши (с 1918).
Р. занимался преим. франц. материализмом 18 в. (ему принадлежит, в частности, перевод кн. Ламетри «Человек-машина») и историей польской филос. мысли. Р.— едва ли не единственный крупный философ-марксист в довоен. Польше. Р. принадлежит первое в Польше популярное изложение диалектич. материализма — «Беседы по философии материализма» («Ро-gadanki filozoficzne», Вильна, 1910). В 30-е гг. Р. опубл. ряд работ о философии в СССР, а также статьи, знакомящие сов. читателей с польской револгоц.-демократич. мыслью. Р. принадлежит ряд ярких атс-истич. статей.
С о ч.: Z dziejuw filozolii, Warsz., 1959; в рус. пер.—Энгельс и младогегельянцы в России и Польше в 40-х гг. XIX в., «ПЗМ», 1941, № 5.
Лит.: К р а в ч и к 3., О филос. трудах С. Рудняньского, «ВФ», 1962, Лг° 7; История философии, т. 5, М., 1961, с. 424.
Е. Плудовспий. ПНР.
РУЛЬЁ, Карл Францевич [8 (20) апр. 1814—10 (22) апр. 1858] — рус. естествоиспытатель, биолог-эволюционист. Развивал идеи о единстве организма и условий его существования и доказывал причинную зависимость эволюции живых форм от изменения окружающей среды. Труды Р. положили начало экологии, а его палеонтологич. исследования подготовили почву для создания эволюц. палеонтологии. Р. был одним из первых в России пропагандистов и популяризаторов естеств.-науч. взглядов. По инициативе Р. Моск. об-во испытателей природы издавало в 1854—60 научно-популярный журнал «Вестник естественных наук».
Соч.: Избр. биологич. произведения, М., 1954.
Лит.: Давиташвили Л. Ш. и М и к у л и н с к и й С. Р., К. Ф. Рулье — выдающийся рус. естествоиспытатель-эволюционист, в кн.: Научное наследство, т. 2, М., 1951, с. 529—69; Райков В. Ё., Рус. биологи-эволюционисты до Дарвина, т. 3, М.—Л., 1955.
РУМЛ (Rural), Владимир (р. 20 мая 1923) — чош. философ-марксист, доктор философии. Окончил при-родоведч. и филос. фак-ты Карлова ун-та в Праге. В период оккупации Чехословакии участвовал в подпольной борьбе КПЧ, был в заключении. С 1948 по 1952 преподавал в Высшей школе политич. и гос. наук в Праге; ныне директор Ин-та философии АН ЧССР (с 1963). Сфера науч. деятельности Р.— методология науки, а также проблема отношения философии и политики.
Соч.: Materlalisticka dialektika a dneSnl problemy па§1 socialisticke vystavby, Praha, 1958 (соавтор); О pfedmetu fi-losofie, Praha, 1959; Aktualni vyznam Lenlnova filosofickeho odkazu, в сб.: Marxisticka filosofie a nase dnesni politika, Praha, 1959; Ideologie a veda, «Otazky miru a socialismu», I960, № 7; Lidstvo, veda a vesmir (Svetovy nazor a meziplanetarnl lety), Praha, 1960 (соавтор); Astronomie a svetovy nazor, в сб.: Filosofie a pflrodnl vedy, Praha, 1961; Zaldadni otazky filoso-fie loglckeho pozitivismu, Praha, 1962; К otSzkam vedy jako vyrobni sily, в сб.: Teoreticke podnety XXII sjezdu KSSS, Praha, 1963; Marxisticka filosofie a komunisticka strana, Praha, 1965 (соавтор); Der logische Positivismus, В., 1965.
РУМЫНСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ
531
 РУМЫНСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ И ОБЩЕСТВЕН НАЯ МЫСЛЬ. История рум. народа характеризуется беспрерывной борьбой за нац. независимость, к-рая особенно усиливается с конца 14 в. в связи с частыми тур. нашествиями и впоследствии — с установлением ига Османской империи. Эта борьба сливается с выступлениями нар. масс против феод, гнета. В начале 15 в. учащаются восстания крепостных и гор. бедноты. В идеология, платформе крест, восстания 1437 (Бобылиа) экономич. и социальные требования переплетаются с гуситскими еретич. идеями. Крест, восстание, возглавляемое Д. Дожа (1514), выдвигает требования политич. и социального равенства людей и осуждает рабство как неестеств. состояние.
РУМЫНСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ И ОБЩЕСТВЕН НАЯ МЫСЛЬ. История рум. народа характеризуется беспрерывной борьбой за нац. независимость, к-рая особенно усиливается с конца 14 в. в связи с частыми тур. нашествиями и впоследствии — с установлением ига Османской империи. Эта борьба сливается с выступлениями нар. масс против феод, гнета. В начале 15 в. учащаются восстания крепостных и гор. бедноты. В идеология, платформе крест, восстания 1437 (Бобылиа) экономич. и социальные требования переплетаются с гуситскими еретич. идеями. Крест, восстание, возглавляемое Д. Дожа (1514), выдвигает требования политич. и социального равенства людей и осуждает рабство как неестеств. состояние.
Появление письменности на родном языке и введение светского образования в школах значительно способствовали развитию культуры. В это время выступают такие мыслители-гуманисты, как Николае Олахус (1493—1568), Иоанн Хонтерус (1498—1549), Иоанн Зоммерус (1542—74). В Молдавии и Валахии носителями передовых идей этого времени были летописцы Гр. Уреке (1590—1647), Мирон Костин (1633—91), Йон Некулче (1672—1745) и Кантакузино Столникул (1650—1716). Их труды способствовали формированию нац. сознания, а также формированию рум. лит. яз. Николай Милеску-Спафарий (1636—1708) выдвигает идею необходимости непосредств. изучения природы. Рационализм в науке и философии проявляется в работах венг. мыслителя Яноша Апацаи Чери (1625 — 1659), проживавшего в Трансильвании. Тенденция к светскому, гуманистич. мышлению нашла воплощение в богатом и разнообразном (логика, этика, история, география, ориенталистика) творчестве Д. Кантемира.
Во 2-й пол. 18 в. в рум. княжествах происходит процесс разложения феод, общества и формирования капиталистич. отношений. Стремления народа и передовых элементов формирующейся буржуазии и прогрессивных представителей боярства нашли отражение в деятельности просветителей (см. Просвещение). В Трансильвании просветительские идеи развиваются благодаря идеология, движению, известному под именем «Ардяльской школы», представители к-рой С. Ми-ку (1745—1806), Г. Шинкай (1754—1816), П. Майор (1761 —1821) выступали за ограничение власти дворянства, облегчение положения крепостного крестьянства и за нац. освобождение. Наиболее передовые позиции отражены в творчестве писателя Й. Будай-Деляну (1760—1820), автора сатирич. эпопеи, содержащей критику феод, учреждений, монархии, дворянства и церкви. В Валахии и Молдавии просветительство стремилось поставить культуру и школу на службу социального и нац. освобождения рум. народа. Преподавательская деятельность основоположника высшего образования на рум. яз. Г. Лазэра (1779— 1823) в Бухаресте и Г. Асаки (1788—1869) в Яссах была проникнута идеей освобождения от социального гнета и ликвидации культурной отсталости народа путем распространения науки и культуры на рум. яз. В своей обществ.-лит. деятельности Лазэр проявлял интерес к философии и в частности к социологии и этике. Историю он представил в виде циклич. процесса преобразования добра в зло и обратно. Й. Э.Рэ-дулеску (1802—72) продолжил дело Лазэра по организации школьного образования в Валахии и явился основателем печати на рум. яз. В этот же период появляются идеи утопического социализма, гл. представителем к-рого был Диамант, сторонник учения Фурье. Растет интерес к естеств. наукам; в Молдавии учреждается научное «Общество врачей и естествоиспытателей» (1833), к-рое сыграло важную роль в распространении науч. знаний, в критике предрассудков и суеверий, в пропаганде стихийно-материалистич. идей.
Идеологич. движение конца 18— нач. 19 вв., к-рое
включало идеи социального и нац. освобождения, явилось идейной предпосылкой революции 1848, направленной против феод, угнетения и иноземного ига. Представители революц.-демократич. течения во главе с Бэлческу утверждали, что разрешить социальные и нац. проблемы можно лишь путем революции, опираясь на широкие слои народа. Бурж.-демократич. течение, допускавшее революцию лишь как крайнюю меру, требовало ликвидации феодализма путем реформ (но без компромисса с помещиками). К видным представителям этого течения принадлежали М. Когэл-ничану (1817 — 91), историк и политич. деятель; публицист и историк Дж. Барициу (1812—93), подвергавший критике феодализм, шовинизм и реакц. идеологию вообще; проф. философии С. Барнуциу (1808— 1864), отстаивавший антирелиг., рационалистические и респ. идеи; писатель к.Руссо и др. Для этого и послсре-волюц. периода характерна тенденция к освобождению философии из-под власти теологии, к усилению влияния элементов рационализма и материализма. Мате-риалистич. элементы свойственны мировоззрению и нек-рых естествоиспытателей [П. Васич (1806 — 81), Ю. Бараш (1815—63)]. Учреждение ун-тов в Яссах (1860) и в Бухаресте (1864), а также нек-рых науч. об-в благоприятствовало развитию науки и матерна-листич. мышления. Распространение и развитие естествознания способствовало формированию новог» материалистич. течения в Румынии. Такие деятели науки, как Г. Штефэнеску, Михайлеску, Ф. Ментович, Крассер, отстаивая новые достижения естеств. наук —■ дарвинизм и атомную теорию — и защищая принцип сохранения материи и энергии, отвергали спиритуализм и утверждали веру в безграничность познават. способности человека. Решающий вклад в борьбу с идеализмом внес крупнейший рум. материалистЯоктаа.
Распространение идей марксизма в Румынии начинается в 70-х гг. 19 в., с появлением первых социалистов (Н. Зубку-Кодряну, д-р Руссел и др.), находившихся вначале под влиянием народничества. Усиление влияния марксизма в 90-х гг. было связано с формированием и развитием рабочего движения и означало революц. поворот в истории рум. обществ, и филос. мысли. Рум. социалисты были связаны с междунар. социалистич. движением и непосредственно с Марксом, Энгельсом и Лениным. В письме, адресованном рум. социалистам в 1888, Энгельс выражает свое удовлетворение тем, что они «...принимают в своей программе основные принципы той теории, которой удалось сплотить в едином отряде бойцов огромное большинство европейских и американских социалистов,— теории, созданной моим покойным другом Карлом Марксом» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 37, с. 4). Гл. средством распространения марксизма cлvжилa социалистич. печать [«Contem-poranul» (1881—91), «Viitorul social» (1907—08 иг 1913—14), «Revista social» (1884—87)], на страницах к-рой появлялись как переводы из произв. Маркса, Энгельса и Ленина, так и статьи рум. марксистов. Одной из важных тем, обсуждавшихся в социалистич. печати, была проблема жизненности социализма в Румынии; вопреки утверждениям бурж. идеологов, отстаивалась закономерность борьбы за социализм в условиях Румынии. Пропа, щдпстами марксистских идей выступили Геря-Доброджану, Ш. Стынка, Ионе-ску (Рион) и др.
Гл. ареной борьбы мировоззрений в конце 19 л: начале 20 вв. становится биология. Сущность и происхождение жизни, развитие видов, происхождение человека — были осн. дискос, вопросами. Большинство рум. естествоиспытателей встало на позиции дарвинизма и материализма. Борьба материализма и идеализма, науки и религии принимала форму публичной полемики. Так, естествоиспытатели Н. Леон
532 РУМЫНСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ — РУСАНОВ
 и Д. Воинов выступили против представителя идеализма в физиологии Н. Паулеску, пытавшегося вновь использовать креационистское понимание происхождения жизни и видов. В области физики и химии мате-риалистич. направление представляли К. Истрати и Д. Хурмузеску, а в медицине — В. Бабеш (1854— 1926). Распространение материалистич. идей естествознания породило материалистич. и атеистич. течение, сыгравшее значит, роль в идеологич. борьбе нач. 20 в. Образовались кружки вольных мыслителей —представителей интеллигенции и рабочего класса. В области социологии, этики и эстетики выступил С. Думитрес-ку-Яшь, концепция историч. развития разрабатывалась Ксенополом. Одним из осн. идеологич. течений этого периода был попоранизм, соответствующий рус. либеральному народничеству. Попоранизм отрицал необходимость в Румынии капитализма; осн. обществ, классом, к-рому принадлежит будущее, попоранисты считали крестьянство, а обществ, идеал им рисовался в форме мелкобурж., крест, гос-ва. Социологич. теория попоранизма была враждебна социалистич. движению и марксизму. Гл. идеолог попоранизма К. Стере (1865—1936) отстаивал идею о невозможности существования в Румынии нолитич. партии пролетариата. В области эстетики попоранизм стоял на позициях гуманизма, призывая к изображению в иск-ве нищенского положения рум. крестьянства.
и Д. Воинов выступили против представителя идеализма в физиологии Н. Паулеску, пытавшегося вновь использовать креационистское понимание происхождения жизни и видов. В области физики и химии мате-риалистич. направление представляли К. Истрати и Д. Хурмузеску, а в медицине — В. Бабеш (1854— 1926). Распространение материалистич. идей естествознания породило материалистич. и атеистич. течение, сыгравшее значит, роль в идеологич. борьбе нач. 20 в. Образовались кружки вольных мыслителей —представителей интеллигенции и рабочего класса. В области социологии, этики и эстетики выступил С. Думитрес-ку-Яшь, концепция историч. развития разрабатывалась Ксенополом. Одним из осн. идеологич. течений этого периода был попоранизм, соответствующий рус. либеральному народничеству. Попоранизм отрицал необходимость в Румынии капитализма; осн. обществ, классом, к-рому принадлежит будущее, попоранисты считали крестьянство, а обществ, идеал им рисовался в форме мелкобурж., крест, гос-ва. Социологич. теория попоранизма была враждебна социалистич. движению и марксизму. Гл. идеолог попоранизма К. Стере (1865—1936) отстаивал идею о невозможности существования в Румынии нолитич. партии пролетариата. В области эстетики попоранизм стоял на позициях гуманизма, призывая к изображению в иск-ве нищенского положения рум. крестьянства.
В период между двумя мировыми войнами в рум. философии и социологии появляются различные течения и направления зап.-европ. мысли. Персонализм, соединенный с энергетизмом, был представлен в лице Рэдулеску-Мотру. Мистицизм и иррационализм проповедовал Л. Блага. Представители иррационалистич. течений отрицали науч. ценность философии, утверждая, что настоящая философия — это религия [Н. Ионеску (1888—1954), Н. Крайний, р. 1889]. С критикой фашистской идеологии и защитой роли разума выступили П. П. Негулеску, Раля, М. Флориан (1888—1960), Бэдэрэу, Рошка, П. Андрей (1891 — 1940). В области эстетики прогрессивные позиции занимали Ибрэиляну,Т. Виану и Г. Габор. Социологич. проблемами, в частности исследованиями деревни, занималась созданная Густи «Монографическая школа», собравшая богатый документ, материал и разработавшая социологич. исследовательскую технику. Естеств.-науч. материализм поддерживали такие ученые, как Г. Маринеску, Э. Раковицэ, К. Пархон, Г. Цицейка, С. Стоилов, Т. Сэвулеску и др.
Утверждение марксистско-ленинского мировоззрения в рум. рабочем движении в борьбе против реформизма, оппортунизма и догматизма является заслугой Коммунистич. партии Румынии (осн. в 1921). Марксисты подчинили дело духовного освобождения борьбе за социальное освобождение, за свержение капита-листич. строя. Начиная с 1924 КПР развернула свою деятельность в тяжелых условиях подпольной борьбы и антикоммунистич. террора. Особое значение в идеологич. борьбе Коммунистич. партии Румынии имел V съезд (1931), на к-ром£ыл решен вопрос о характере, этапах и движущих силах рум. революции. Разоблачая теорию неокрепостничества и сектантский тезис, будто Румыния стоит непосредственно на пороге пролет, революции, V съезд указал на то, что страна находится перед этапом завершения бурж.-демократич. революции, гегемоном к-рой должен быть пролетариат в союзе с крестьянством и во главе с коммунистич. партией, и что имеются все условия для быстрого перехода от бурж.-демократич. революции к социалистической.
Борьба против реакц. идеологии и распространение идей марксизма-ленинизма велись марксистскими публицистами: С. Тимовым, Н. Д. Коча, И. Кристя, Жо-жа, П. Константинеску-Яшь, Ш. Войку, Т. Бугнариу и др. как на страницах нелегальных изданий партии
(«Lupta de Clasa», «Scinteia»), так и в легальной печати («Era noua», «Frontul ro§u», «Manifest» и др.). После свержения фашистской диктатуры в Румынии (23 авг. 1944) были созданы все условия для пропаганды марксистской философии, для ее творч. развития. В Ин-те философии Академии наук СРР, на филос. ф-тах Бухарестского и Клужского ун-тов и на кафедрах др. вузов разрабатываются актуальные теоретич. проблемы, проводятся исследования в области диалектики, гносеологии, истории философии и др. Опубликованы коллективные труды, сборники и монографии «К пятидесятилетию со дня появления в свет труда В. И. Ленина „Материализм и эмпириокритицизм"» («50 de ani de la aparitia operei lui V. I. Lenin „Materialism $i empiriocriticism"», Buc, 1960) и «К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина» («90 de ani de la na§-terea lui V. I. Lenin», Buc, 1960), «Философские проблемы естествознания» («Probleme de filozofie a §tiin-}olor naturii», Buc, 1957), «Очерки по диалектич. материализму» («Studii de materialism dialectic», Buc, 1960). Вышли в свет 1-й, 3-й, 4-й тт. сб. «Диалектич. материализм и совр. естественные науки» («Materia-lismul dialectic §i §tiin}ole contemporane ale naturii», Buc, 1959—64) и 9-й, 10-й тт. под названием «Диалектич. материализм и естествознание» («Materialismul dialectic §i §tiin}ele naturii», Buc, 1964—65) и др. В области диалектич. материализма появились также работы: «Диалектика научного познания» («Dialec-tica cunoa§terii §tiin{ifice», Buc, 1962), «Материалистич. диалектика — общая методология частных наук» («Dialectica materialists metodologia generala a §tiin-felor particulare», Buc, 1963), «Антология атеизма в Румынии» («Antologia ateismului din Kominia», Buc, 1962). На5'ч. деятельность, развернувшаяся в области освоения прогрессивной рум. мысли, выразилась в монографиях и очерках — о Кантемире, Бэлческу, Коита, Ксенополе, Густи и по марксистской философии в Румынии, в обобщающей работе «История социологич. и филос. мысли в Румынии» («Istoria gindi-rii sociale §i filozofie in Rominia», Buc, 1964). Кроме этого, были опубликованы «Очерки по историч. материализму» («Studii de materialism istoric», . Buc, 1960), «Развитие социалистич. сознания в PHP» («De-zvoltarea con§tin|ei socialiste In Republica Populara Romma», Buc, 1961) и др. В 60-е гг. были предприняты конкретные социологич. исследования, итогом к-рых явилась работа «Духовный облик рабочего класса при социализме» («Profilul spiritual al clasei mun-citoare in socialism», Buc, 1964). Многосторонние исследования провел акад. Жожа в области диалектич. логики, Раля — в области социологии и психологии, акад. Гулиан опубликовал работы по социологии, этике и истории философии, Виану — очерки по эстетике и истории литературы, Бэдэрэу, Рошка и Флориан опубликовали очерки по логике и истории философии. Вышли также в свет учебники по диалектич. и историч. материализму (под редакцией чл.-корр. АН СРР Т, Бугнариу). Органом обществ.-политич. и филос. мысли в Румынии являются журналы: «Lupta de Clasa», «Revista de filozofie», «Acta logica», а также Вестники ун-тов в Яссах, Клуже и Тимишоаре.
Лит.: Передовые румынские мыслители XVIII — XIX вв., М., 1961; История философии, т. 1, М., 1957, с. 663—69; т. 2, М., 1957, с. 475 — 85; т. 4, М., 1959, с. 318—25; т. 5, М., 1961, е. 436—45; Марксистско-ленинская философия в СССР и ев-роп. социалистич. странах, М., 1965, с. 487—504; Texte pri-vind desvoltarea gandirii socialpolitice in Romania, Buc, 1954; Din istoria filozofiei in Romania, v . 1—3, Buc, 1955—60; Istoria Rominiei, v. 1 — 4, Buc, 1960—64; P a n t a z i R., Fi-lozofia marxlsta in Rominia, Buc, 1963; istoria gindirii sociale §1 filosofice in Rominia, Buc, 1964. Ин-т философии АН СРР.
РУСАНОВ, Николай Сергеевич (1859—1928)—рус. историк утопич. социализма, народоволец, позже —• активный член партии эсеров. В 1882—1905 жил за границей, где сотрудничал в ряде рус. эмигрантских
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
533.
журналов. Филос. мировоззрение Р. противоречиво; заявляя о своем согласии с марксизмом, он подвергал критике осн. положения историч. материализма, к-рый понимал как экономич. материализм. Наряду с ошибочными положениями Р. высказывал и верные идеи относительно прогрессивного развития общества. Он писал, что человечество неизбежно придет от капитализма к коммунизму, к цельной гармония, личности, в к-рой «...материальные и идеальные элементы будут соединены в высшей гармонии» («Мировой рост и кризис социализма», М., 1906, с. 44). Характеризуя поли-тич. деятельность Р., Ленин отмечал, что в последний ее период, в период Временного np-ва, он был революционером на словах, а на деле выступал защитником капиталистов (см. Соч., т. 25, с. 396). После Октябрьской революции Р. эмигрировал за границу.
Соч.: На родине. 1859—1882, [М.], 1931; Очерки совр.
Франции, 2 изд., СПБ, 1904; Галлерея совр. франц. знамени
тостей, СПБ, 1906; Социалисты Запада и России, 2 изд., СПБ,
1909. О. Паицуктилова, И. Серебров. Ленинград.
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ. Филос. мысль рус. народа прошла большой и сложный историч. путь. Гл. этапы ее развития совпадают в основном с этапами развития обществ.-экономич. отношений в России.
Русская филос. мысль эпохи феодализма (примерно до последней трети 18 в.). В период раннего феодализма филос. мысль, как это было и в др. странах, еще не отмежевалась от др. областей знания и от религии. В Киевской Руси филос. мышление развивается на почве языч. мировоззрения — древнеславянской религии и мифологии. Осн. филос. элемент язычества — наивный пантеизм и связанные с ним начальные натурфилос. представления. Первые проблемы др.-рус. филос. мысли относятся в основном к выяснению понятий о душе, о взаимодействии души и тела. С проникновением в страну христианства расширяется круг мировоззренч. идей др.-рус. мыслителей, устанавливаются связи с культурой Византии (см. Византийская философия), юж. славян и др. народов Европы, др.-рус. мыслители знакомятся с филос. наследием античности (Аристотель, Демокрит, Платон и др.). Их представления о философии в то время тождественны с представлениями о мудрости, знании вообще. Значит, роль в распространении филос. понятий в Древней Руси принадлежит переводным филос. трудам Иоанна Дамаскина («Диалектика»), Иоанна Экзарха Болгарского («Шестоднев»), Филиппа Пустынника («Диоптра») и др. Благодаря им на Руси становятся известными антич. учение о четырех стихиях как первоэлементах мироздания, геоцентрич. учение (Косма Индикоплов), различные трактовки взаимоотношения души и тела, разнообразные естеств.-науч. сведения.
Жизнь раннефеод. рус. общества и гос-ва выдвигала перед мыслителями задачи, связанные с решением собственных идеологпч. проблем. Наиболее важные оригинальные произведения др.-рус. социологич., филос. и этич. мысли — «Слово о законе и благодати» Иллариона (сер. И в.), «Послание» Никифора к Владимиру Мономаху, «Повесть временных лет» Нестора (нач. 12 в.), «Послание» митрополита Климента Смоля-тича, «Послания» и «Слова» Кирилла Туровского (сер. 12 в.), «Слово о полку Игореве» (12 в.), «Моление» Даниила Заточника. В «Посланиях» Кирилла Туровского наряду с осн. тенденцией православно-христ. догматики видна мысль о роли разумного начала в жизни человека, в познании им мира. В «Послании» Климента Смолятича заметны попытки т. н. символич. истолкования «священных» текстов и элементы теологич. рационализма. В «Повести временных лет» — наиболее ярком памятнике обществ, самосознания Киевской Руси —отчетливо выражены мысли об историч. роли славянства, рус. истории как части мировой истории; здесь обосновывается идея единства
рус. народа, общности происхождения славян, излагается эсхатологич. «философия истории» христианства («Речь философа»). Автор «Слова о законе и благодати» развивал идеи о равноправии всех народов, о рус. народе как историч. народе, пытался осознать нек-рые закономерности историч. процесса, вступая тем самым в известное противоречие с концепцией провиденциализма, к-рая надолго стала определяющей историч. и филос. концепцией. В «Послании» Никифора неортодоксально решаются вопросы о человеке, об источниках познания, о соотношении чувств, ума и воли, души и тела. Вопреки провиденциализму, Никифор отстаивал свободу воли, утверждал ответственность человека за свои действия и поступки, неизбежность возмездия за нарушение обществ.-моральных требований. Во многих произведениях под влиянием господствующего религ.-феод, мировоззрения проповедь высоких общечеловеч. нравств. качеств сопровождалась феод.-клерик. требованиями смирения, воздержания, укрощения гордыни и др. В «Слове о полку Игореве» воспевался «христиански-героический характер» рус. народа. Ведущая идея «Слова» — «...призыв русских князей к единению как раз перед нашествием собственно монгольских полчищ» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 29, с. 16).
В период феод, раздробленности Руси передовые мыслители отстаивают идеи о единстве народа и страны, о необходимости централизов. гос-ва, сильной великокняжеской власти («Сказание о Вавилоне-граде», «Сказание о князьях Владимирских» и др.). Нар. массы также все больше осознают себя как определ. социальную общность, хотя это осознание выступает часто в религ. оболочке христианства. В господств, христ.-феод. идеологии на первый план выдвигается учение Филофея о «Москве — третьем Риме», к-рому «стоять вечно». Иван Грозный, преследуя многочисленные ереси, обосновывает необходимость неогранич. «самодержавства», полемизируя против идеологии феод, автаркии. История в ретроспективе рассматривается как подготовление торжества христианства, а в перспективе — как осуществление провиденциалистского назначения «Святой Руси». В ходе обществ.-политич. борьбы и религ.-филос. дискуссий, отражавших классовые противоречия феод, общества, остро встает вопрос о «самовластьп» человека, о возможности субъективного воздействия на ход историч. событий {Максим Грек, Пересветов и др.) или о невозможности такого воздействия (Иван Грозный). В философии примечательны стихийно-пантеистические идеи «Голубиной книги», отражавшие народное мировоззрение. Обострение классовой борьбы вызывает к жизни крупную идеологическую дискуссию — спор между иосифлянами, отстаивавшими теократич. идеи превосходства духовной власти над светской, и нестяжателями (возглавлялись Нилом Сорским), защищавшими приоритет гос-ва и светской авторитарной идеологии над церковной. Нестяжатели способствовали развитию критич. п рационалистам, тенденций в ср.-век. рус. мышлении. Новые веяния мировоззренч. порядка во многом связаны с возникновением идеология, оппозиции феод.-клерикальному порядку — ересей (см. раздел Ереси в России). В еретич. учениях (Ф.Курицын, М. Башкин, Феодосии Косой) заметно отрицание эсхатологич. представлений, дают себя знать элементы вольнодумства и рационалистич. истолкования священных текстов. С «опровержением» еретиков, особенно Ф. Косого, выступил монах Зиновий От.енский. Его поле-мич. соч. «Истины показание вопросившим о новом учении» и «Послание многословное черноризца к вопросившим о известии благочестия на зломудрие Косого и иже с ним» представляют собой энциклопе-
534
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
дич. свод религ.-идеалистич. воззрений рус. книжников 16 в. Наиболее крупные рус. мыслители 16 в.— И. Пересветов и Ф. Карпов — критикуют провиден-диалистскую концепцию истории, право церкви вмешиваться в обществ, жизнь; в противовес идее предопределения они выдвигают «естественную» концепцию обществ, отношений и происхождения гос-ва.
Естеств.-науч. представления 14—16 вв. отражены в произв. «Галиново на Ипократа», в к-ром отстаивались идеи Гиппократа и Галена.
Вплоть до 17 в. борьба представителей новых ре-лиг, -филос. идей с господствующим религ.-идеалистич. мировоззрением выражалась в неоднократных попытках отд. представителей утвердить своего рода теологич. рационализм неортодоксального православия, подтвердить законность философии и философствования. Эта тенденция становится особенно заметной у Симеона Полоцкого, отстаивавшего право человеч. разума на познание (что объективно приводило к столкновению с самодержавно-православной ортодоксией). Полоцкий, хорошо знавший зап.-европ. философию, рассматривал философию как науку наук, развивал своеобразную концепцию воспитания и опытного знания, отрицал учение о врожденных идеях.
Особенностью идеологич. борьбы во 2-й пол. 17 в. являлась также критика теократич. тенденций патриарха Никона его идейными противниками. К концу 17 в. относятся попытки отвести в системе теологич. мировоззрения место схоластич. философии, автономной по отношению к богословию. Здесь впервые отчетливо сказалось воздействие зап.-европ. неоаристотелевской схоластики. Среди мыслителей 17 в., способствовавших обособлению философии от богословия, можно назвать Ю. Крижанича, Епифания Славинецкого, Милетия Смотрицкого; братья И. и С. Лихуды создали первые в России рукописные учебники по физике, логике, психологии. Из естеств.-науч. произв. 17 в. интересны комментарии А. X. Белобоцкого «Великая и предивная наука» к произв. Луллия «Великое искусство», а также «Зерцало естествозрительное», систематически излагавшее натурфилос. идеи Аристотеля.
До 2-й пол. 18 в. господствующий идеализм выступает гл. обр. в православно-религ. облачении. Его представители — С. Яворский, Ф. Лопатинский и др. отвергали филос. схоластику, боролись с материа-листич. и рационалистич. идеями зарождающейся светской философии.
В конце 17—1-й пол. 18 вв. в связи с социально-экономич. реформами Петра, усилением контактов с Западом, развитием пром-сти, ростом торговли, потребностями воен. дела в России возникает светская наука и философия. Сторонники «просвещенного абсолютизма» — Ф. Прокопович, В. Татищев, А. Кантемир и др., составившие т. н. «ученую дружину» Петра I, внесли важный вклад в становление рус. науки и философии. В России начинают складываться •философско-рационалистическая и естеств.-пауч. традиции; философия постепенно выделяется в самостоят, отрасль знания. К этому времени относятся первые попытки преподавать философию как самостоят, светскую науку.
Становлению рус. прогрессивной филос. мысли способствовало интенсивное развитие естеств. наук (Л. Эйлер, Д. Бернулли, С. П. Крашенинников, в особенности М. В. Ломоносов). Несмотря на сопротивление церкви, ученые и философы пропагандировали гелиоцентрические взгляды, представления о принцип, единстве Земли и небесных тел, идеи о множественности миров (Я. Брюс, А. Кантемир и др.). Материализм, развивавшийся преим. в механистич. форме, завоевывает все более прочные позиции; утверждается мысль о безграничных возможностях чело-
веч. познания. Представители естеств. наук, опираясь в основном на деистич. представления, обогащают филос. представления о материи и движении, причинности, о методах науч. познания (эксперимент, индукция, дедукция и т. д.).
Решит, шаг к материалистич. решению мировоз-зренч. вопросов сделал Ломоносов, сформулировавший «всеобщий естественный закон» сохранения материи и движения. Синтезируя знания своего времени, Ломоносов обогащает естеств.-науч. представления о мире и его закономерностях, обосновывает идею развития Земли, намечает пути перехода от макромеха-нич. картины мира к представлениям, принимающим во внимание атомо-молекулярные процессы. Он закладывает основы материалистич. объяснения мира, опирающегося на признание закономерности и взаимосвязи в движении макро- и микротел. Выдвинутая Ломоносовым идея союза философии и естествознания имела важное значение для последующего развития материалистич. философии и естеств. наук.
Р. ф. в эпоху постепенного разложения феод.-кре-постяич. отношений в России и перехода к капитализму (последняя треть 18 — 1-я пол. 19 вв.). С обострением классовой борьбы, ростом освободит, движения, развитием науки и культуры в России борьба материализма с идеализмом приобретает специфич. формы. Во 2-й пол. 18 в. господствующие круги пытаются подкрепить религию филос.-схоластич. концепциями. При этом официальные и полуофициальные философы, противники идей Просвещения, пытаются соединить элемент православной теологич. догмы и схоластически трактуемой лейбнице-вольфианской метафизики. В сочинениях Г. Теплова («Знания, касающиеся вообще до философии для пользы тех, к-рые о сей материи иностранных книг читать не могут», 1751), Ф. Русанова, М. М. Щербатова, архимандрита Платона и др. деятелей светского и духовного образования развивается учение о бессмертии души, проводятся идеи теологии, теодицеи; философия трактуется как наука наук, но вместе с др. науками объявляется низшим родом познания сравнительно с богословием. Получает распространение (в частности, в консервативных дворянских кругах) масонство, имеющее в своей основе мистич. иррационализм. Масоны разрабатывают идеи, регламентирующие религ.-нравств. самоусовершенствование личности (журн. «Утренний свет»). Деятели масонства (Елагин, Кутузов и др.) рекомендуют лояльность по отношению к идеологии самодержавия, отказ от политики, выступают против материализма и рационализма Ломоносова и Радищева в духе Сен-Мартена, Бёме, Сведенборга.
Во 2-й пол. 18 в. развиваются материалистические (в форме деизма) и просветительско-антикрепост-нические идеи. Укрепляются и расширяются идейные связи рус. мыслителей с представителями зарубежной (особенно франц. и англ.) просветительской и материалистич. филос. мысли — Вольтером, Смитом, Дидро, Гольбахом, Гельвецием и др. Рус. мыслители (Аничков, Козельский, Десницкий и др.) осн. внимание уделяют проблемам социологии и теории познания. В социологии применительно к условиям рус. общества 18 в. развиваются идеи естественного права, исследуется вопрос о происхождении общества, неравенства между людьми, гос-ва, собственности, религии, место и роль науки и философии в обществе и др. В теории познания обосновывается независимость разума от религии и веры, сенсуалистич. т. зр. на познание, исследуется проблема познават. способностей человека, понятие опыта, критикуются недостатки огранич. эмпиризма и отвлеч. рационализма. Материалистич. и просветит, идеи в Р. ф. 2-й пол. 18 в. подкрепляются прогрессивными идеями, возни-
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
535
кавшими и развивавшимися внутри естествознания, представители к-рого внесли свой традиц. вклад в борьбу против господствующего офиц.-религ. идеализма и новых течений в идеалистич. философии. В рус. естествознании на основе признания принципа самодвижения материи возрастает критическое отношение к «динамизму», принимавшему вещество-материю за косное начало, приводимое в движение идеальными силами.
Виднейшим представителем филос. мысли 2-й пол. 18 в. был убежденный противник самодержавия и крепостничества Радищев. Исходя из учения о естеств. праве, Радищев сформулировал в общем виде идею крест, революции. Мысли Радищева о циклич. развитии общества, о противоречивой связи свободы и тирании в истории, об обществ, прогрессе аккумулируют опыт европ. и рус. истории и открывают новую главу в представлениях об обществе. В основном с позиций механистич. материализма Радищев наметил пути решения онтологич. и гносеологич. проблем. Он выступил против религии, филос. мистики, агностицизма. В его произв. содержатся попытки обоснования качеств, своеобразия мышления, анализа единства и различия логического и чувственного в познании, объяснения феномена активности сознания — что свидетельствовало о намерении мыслителя применить идею развития к трактовке процесса познания.
В нач. 19 в. материалистич. и просветительские идеи в философии проводили Пнин, Попугаев, Куни-цын, В. Малиновский и др. В области социологии они придерживались концепции естеств. права. Малиновским были изложены пацифистско-просветит. идеи о войне и мире, о возможности «вечного мира» путем соглашения между гос-вами и учреждения наднац. органов.
Наиболее радикальные обществ.-политич. выводы из анализа крепостнич. действительности и идей Просвещения сделали Пушкин и дворянские револю-ционеры-Зевабркстм, различавшиеся по степени социального и политич. радикализма и филос. взглядам. Официальному провиденциализму они противопоставили рационалистич. концепцию истории и идеалистич. историзм в понимании общества, идеи прогресса, выражающегося в согласии с «естеств. законами общества», в неизбежной смене устаревших обществ, и гос. учреждений новыми. В произведениях ряда декабристов развивается мысль о связи между философией и политикой, идейными убеждениями и этикой общественного поведения, обосновывается идеал человека-гражданина. Особое значение, согласно декабристам, имеет познание «духа народного» в бурные эпохи обществ, изменений. Самый радикальный и содержательный в теоретич. отношении документ социальной мысли декабристов — «Русская Правда» Пестеля. С позиции теории естеств. права и общественного договора Пестель обосновывал необходимость насильств. смены власти (самодержавия), поскольку она злоупотребляет правами, полученными от народа. Верховная власть принадлежит народу; «... правительство существует для блага народа и не имеет другого основания своему бытию и образованию, как только благо народное, между тем как народ существует для собственного своего блага...» (Избр. со-циально-политич. и филос. произв. декабристов, т. 2, 1951, с. 80). У Пушкина, Пестеля, в написанных в ссылке работах Лунина («Письмо из Сибири») и у др. дворянских революционеров выражены идеи о классово-сословном делении общества, борьбы классовых интересов в истории и об экономическом, имуществ. неравенстве людей как основе этой борьбы. Пестель допускал возможность обществ, собственности на землю, сосуществование общественной и частной собственности.
Филос. взгляды дворянских революционеров имели как просветительски-материалистическую, так и просветительски-идеалистическую направленность. В ссылке нек-рые декабристы, ранее придерживавшиеся материалистич. и рацион, взглядов, переходят на религ.-филос. позиции. Материалисты-атеисты (Якушкин, Барятинский, Борисов, Раевский и др.) развернули содержат, критику «галиматийпых философов» зап.-европ. идеализма, официально-православного идеализма. В теории познания они отстаивали идею опытного происхождения знания, исследовали связи между филос. понятиями и понятиями естеств. наук, широко использовали естеств.-науч. представления о происхождении Вселенной для критики филос. идеализма. В трактате Якушкина «Что такое жизнь?» обосновывается атомистич. концепция строения материи, активность субъекта утверждается в качестве условия познания. Поражение декабристов привело к росту скептицизма и пессимизма среди значит, части дворянской интеллигенции, оживлению интереса к идеалистич. системам в философии.
В 1-й трети 19 в. представители рус. науч. и филос. мысли (Галич и др.) все больше осознают неудовлетворительность механистич. материализма. В этом — одна из причин интереса к идеалистич. диалектич. концепциям и антропологич. философии. Значит, влияние на отд. представителей Р. ф. оказало шеллингианство, в особенности своими натурфилософскими (Велланский, М. Павлов и др.) и эстетическими («любомудрыь: Одоевский, Веневитинов; Кюхельбекер и др.) концепциями. «Любомудры», подобно Шеллингу, рассматривали материальное и идеальное как различные формы тождественного самому себе начала мира. Диалектич. идеи, хотя и на идеалистич. основе, сыграли значит, роль в дальнейшем развитии Р. ф. Яркой и оригинальной фигурой философско-социологич. мысли России был Чаадаев. Страстный противник крепостничества и православия, в своей историко-социоло-гич. концепции он рассматривал взаимное соотношение рус. и зап.-европ. историч. процессов, проблемы человека и гос-ва и др. Движущую силу историч. процесса Чаадаев видел в развитии просвещения, значит, место в котором он отводил развитию религ. самосознания. Несмотря на пессимизм, связанный с неприятием самодержавно-крепостнич. действительности, Чаадаев верил в прогрессивное развитие человечества. Его постановка вопроса о цели и смысле мировой истории имела важное значение для углубления социологич. представлений. В конце жизни он проявил большой интерес к идеям социализма. Идеи Чаадаева, в частности его мысли о специфике рус. истории, о роли народа, имели большой резонанс, оказали влияние на Герцена, Белинского, Бакунина, Чернышевского и др. Объективный идеалист, критик ограниченного эмпиризма и субъективизма, Чаадаев видел задачу философии в примирении науки и религии в «высшем синтезе» и создании на этой основе новой философии. Сущность общих законов бытия постигается, по Чаадаеву, не столько рацион, познанием, сколько откровением; чувства же дают лишь внешнее познание физич. природы. Он развил диалектич. идеи о полярных и противоположно направленных процессах, характерных для всех форм бытия (жизнь и смерть, притяжение и отталкивание и др.).
Идеи передового рус. естествознания 1-й пол. 19 в. подрывают господствующий идеализм и служат естеств.-науч. подкреплением материалистич. традиции в философии, способствуя материалистич. трактовке проблем гносеологии. Отвергая идеалистич. истолкование выдвигаемых естествознанием проблем, прогрессивные естествоиспытатели и философы развертывают критику кантовского априоризма, его динамич. концепции (Лубкин, Осиповский), а также
536
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
идеалистич. натурфилософии Шеллинга. Естествоиспытатели-материалисты на основе диалектич. догадок и гипотез вносят свой вклад в материалистическую трактовку понятия вещества-материи (Дядьков-ский, Д. М. Перевощиков, Э. К. Ленц, К. В. Лебедев и другие). Материалистическая интерпретация понятия вещества-материи усиливается благодаря распространению идей химич. атомистики. В 20-е гг. 19 в. происходит огромный сдвиг в исследовании пространств, отношений: Лобачевский создает неэвкли-дову геометрию и кладет начало принципиально новым теориям пространств, отношений, углубляя тем самым материалистич. понимание пространства. Особое значение в развитии естеств.-науч. материализма, в борьбе против идеализма, в критике витализма уже в нач. 19 в. имеют идеи, развиваемые М. А. Максимовичем, К. М. Бэром, К. Ф. Рулье и др. ранними эволюционистами.
Для 1-й пол. 19 в. характерна острая идейная борьба представителей консервативных и прогрессивных историко-социологич. концепций (полемика Карамзина и дворянских революционеров, Карамзина и Полевого, «западников» и «славянофилов», Погодина и Грановского и др.). Споры о понимании и объективном характере истории, движущих сил историч. процесса, отношении между народом, нацией и гос-вом и т. д. обогащают социологич. проблематику Р. ф. Официалыю-идеалистич. т. зр. подвергается критике представителями прогрессивно-идеалистич. концепций (Каченовский, Грановский, Полевой, Строев и др.), разрабатывающих ряд важных проблем историч. знания (отношение к источникам, объективное и субъективное в историч. исследовании, движущие силы историч. процесса, проблема преемственности и др.).
Уже в 1-й пол. 19 в. религ.-мистич. идеализм, в особенности официальный т. н. рус. теизм, представленный архимандритом Гавриилом, Гогоцким, Си-донским, Новицким и др., обнаружил свою полную науч. бесплодность. В борьбе с материализмом на первый план выдвигаются неофиц. течения идеализма. Среди них — учение славянофилов (Киреевский, Хомяков, Самарин, Аксаков и др.), в определенной мере оппозиционное по отношению к самодержавно-православным идеям, имевшее своими теоретич. источниками «правильное» православие, эклектич. философию откровения, шеллингианство. Бытие, согласно славянофилам, исследуется и разумом, и чувствами, но постигается лишь «целостным разумом». Логич. познание — начальная фаза мышления. Философия является лишь формой связи религии с жизнью. Историческая антитеза России и Запада приобретает у славянофилов вид противоположности между различными формами религ. восприятия мира, в частности между православием и католицизмом. Преувеличивая степень их расхождений, славянофилы доказывают, что католицизм рассудочен; зап.-европ. цивилизация исчерпала себя; вследствие присущего зап. философам формализма и исследования лишь внешних предикатов бытия («кушитское» начало) возникает духовная опустошенность человека как личности на Западе, лишенного богатства «внутр. сознания»; рус. народ — богоизбранный, поскольку он сохранил в себе «внутр. цельность духа» («иранское начало»); он имеет и идеальные внешние формы существования — общину, к-рая объединяет народ. Надо лишь развить общинное начало в его «святых» допетровских формах, реформировав уродливую юридич. форму крепостного права. Будучи идеалистич. метафизиками, славянофилы схоластизировали диалектику Гегеля, отождествляли свою «истинную» философию с религией, считали откровение высшей формой познания. Религиозная философия, славянофилов вызвала осуждение и протест со стороны пред-
ставителей прогрессивной мысли. Однако влияние их религ.-мистич. идей на реакц. течения Р. ф. ощущалось вплоть до конца 19 в. (почвенничество, неославянофилъство, В. Соловьев и др.).
Консервативная филос.-историч. концепция славянофилов развенчивалась в 30—40-х гг. Герценом, Белинским, Бакуниным, Грановским. История, считал Грановский, может быть точной наукой; история общества — история борьбы сил прогресса, культуры с консервативными силами. Подобно Пушкину и Полевому, Грановский испытал влияние франц. историков эпохи Реставрации, у к-рых ценил идеи о роли классовой борьбы и экономич. фактора как решающих движущих силах историч. процесса. Будучи гегельянцем в философии, Грановский полагал, что история в конечном счете управляется мировым духом, различные народы выражают в своем развитии его различные стороны.
В размежевании филос. направлений 30—40-х гг. значит, роль сыграл Станкевича кружок, в к-рый среди других входили Белинский и Бакунин. Члены кружка были оппозиционно настроены по отношению к самодержавию, крепостничеству и офиц. идеологии; развивали прогрессивную концепцию личности. Их привлекла идеалистич. диалектика Шеллинга и Гегеля, в к-рой они видели действит. инструмент познания, метод установления «смысла жизни». В распространении идей диалектики, в попытках применить их к анализу действительности, в поисках верного метода познания — осн. значение кружка в истории Р. ф.
Самым содержат, этапом развития рус. домарксистской философии, к-рый начался в 40-е гг., являются философия и социология революц. демократов. Социальные причины бурного развития революц.-демократия, идеологии в сер. 19 в., выражавшей в конечном счете интересы крестьянства, заключались в начавшейся резкой ломке феод.-крепостнич. отношений. Теоретич. источники философии революц. демократов — идеи предшествующего рус. и зап.-европ. материализма (в особенности франц. материалистов и Фейербаха), классич. нем. идеалистич. философия, в особенности диалектика Гегеля, идеи критически-утопич. социализма. Осн. направление их развития — поиски цельной концепции, в к-рой диалектика обогащала бы филос. материализм. Антропологич. материализм, бывший исходным пунктом взглядов рус. революц. демократов на природу и общество,— причина их превосходства в теории над представителями историч. идеализма 19 в. и одновременно — основа идеалистич. непоследовательности в понимании закономерностей развития общества. Идеи их антропологич. философии нашли выражение в попытках материалистич. объяснения развития и интериационали-стич. истолкования человеч. культуры и обществ, жизни, социологич. идеи — в «общинном социализме».
Родоначальник революц. демократизма в России Белинский в процессе своей идейной эволюции пришел к выводу, что основа физич. и социального существования человека и его мышления — действительность. Сознание человека отражает объективные отношения, существующие вне его. Процесс познания — бесконечен, это — диалектич. познание истины, развивающейся через частные ошибки и заблуждения людей и человечества в целом. Историч. процесс также бесконечен, он имеет свои законы и требует объективного исследования. Порицая субъективизм и эмпиризм, Белинский утверждал, что в истории, несмотря на кажущееся засилие случайностей, господствует необходимость. Признание историч. необходимости пе исключает творческой активности личности; народ—субъект истории. Взаимоотношение выдающейся личности и народа аналогично соотношению случайного и необходимого. Прогресс — выражение историч. необходимости, при-
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 537
водящей к падению феодализма, а в последующем — и бурж. общества; общество будущего — социализм. В духовном развитии общества особое место занимают, помимо философии, наука и иск-во. Они различаются по формам отражения действительности, что аналогично различию между науч. понятием и художеств, образом. Эстетика — филос. наука и отражает бесконечную практику иск-ва, к-рое представляет величайшую духовную ценность человечества; «вечных законов» в иск-ве нет. В истинном иск-ве содержание и форма неразрывны; теория «чистого» иск-ва антинародна и беспредметна.
Идеи Белинского и его критич. деятельность оказали сильнейшее воздействие на последующую филос. и обществ.-политич. мысль, в частности на мировоззрение петрашевцев. Филос. основа их социальной программы — антропологич. материализм. Революционно настроенные петрашевцы (Петрашевский, Спешнее и др.) предприняли попытки связать социологич. концепцию п социалистич. теорию с революц. практикой, разрабатывая программу социалистич. переустройства России.
Один из самых ярких мыслителей в истории рус. материализма — Герцен, расцвет деятельности к-рого относится к 40—60-м гг. Уже в «Письмах об изучении природы» (1845—46) он материалистически решает осн. вопрос философии, доказывая диалектич. взаимосвязь бытия и мышления, блестяще критикует односторонность рационализма и эмпиризма и доказывает необходимость их синтеза. Критикуя идеализм и указывая на ограниченность метафизич. материализма, недооценившего действенную сторону мышления, Герцен намечал пути перехода к диалектико-материа-листич. теории познания. Философию он трактовал как теоретич. оружие в обществ, борьбе. «Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом» (Ленин В. И., Соч., т. 18, с. 10). Исторический прогресс Герцен видел в «прогрессе содержания мыслей», в достижении «наибольшего соответствия между разумом и действительностью», в развитии общества к человеч. свободе. Творцом истории, по словам Герцена, в конечном счете является народ: движущая сила истории — борьба классов, «враждебных партий»; прогрессивная партия — партия революции. Развивая мысль об ограниченности т. н. политич. революций, Герцен в соответствии со своим социалистич. идеалом обосновывал необходимость социального переворота, коренных изменений в отношениях собственности. В полемике с Бакуниным доказывал, что социальная революция не отменяет гос-во немедленно, но использует его в интересах социалистич. преобразования общества.
Р. ф. в эпоху крушения крепостничества и развития домонополистич. капитализма (2-я пол. 19 в.). Во 2-й пол. 19 в. в рус. философии резко обострилась и приняла открытые формы борьба между материализмом и идеализмом, в передовой мысли получили развитие и распространение философия и социология революц. демократизма (в 70—80-х гг. — революц. народничества). К этому периоду относится деятельность Чернышевского — «...великого русского гегельянца и материалиста...» (там же, т. 14, с. 344). Вплоть до 80-х гг. Чернышевский и его соратники — Шелгунов, Антонович и др., понимая историю философии как борьбу «двух линий», развивали глубокую критику идеализма Канта, Гегеля, позитивизма, агностицизма. Основную задачу материализма Чернышевский видел в обосновании материального единства мира, детерминизма и в разработке вытекающих отсюда филос. проблем, в особенности — в углублении связи материалистич. философии с естествознанием. Мир развивается по своим объективным законам. Закон —
«природа, рассматриваемая со стороны своего действо-вания». Хотя и недостаточно последовательно, Чернышевский рассматривал борьбу противоположностей как один из принципов развития природы и об-ва. Закон отрицания отрицания выражается в после-доват. смене природных и обществ, форм, в частности путем их качеств, превращения. Вместе с тем диалектич. трактовка действительности совмещалась у Чернышевского с механистич. положениями (см. «Антропологич. принцип в философии»).
Одна из центр, проблем философии Чернышевского и шестидесятников — проблема человека. Развивая монистический взгляд на человека, Чернышевский разработал систему антропологич. философии, трактовал человеч. деятельность как обусловленную в первую очередь биологич. и физиологич. константами, что было основной теоретич. причиной ограниченности его филос. материализма. Чернышевский отстаивал материалистич. теорию познания, принцип конкретности истины, стремился раскрыть содержание и формы процесса познания на основе диалектики и естествознания 19 в. С позиций материалистич. гносеологии Чернышевский критиковал эстетику Гегеля, сохранив при этом многие ее содержат, моменты. Продолжая традиции эстетики Белинского, разработал материалистич. эстетич. основы иск-ва критич. реализма. Идеалистической теории иск-ва для иск-ва Чернышевский противопоставил революцион-но-демократич. концепцию иск-ва для народа.
Будучи в конечном счете историч. идеалистом, Чернышевский развил ряд материалистич. и диалектич. идей в социологии. Историю общества он считал закономерным, поступательным и познаваемым процессом. Внешнее проявление этого процесса в форме случайного, по Чернышевскому, следует отличать от внутренне необходимого; экономич. условия существования людей являются «коренной причиной почти всех явлений». Решающее значение в историч.. движении общества принадлежит нар. массам. В зависимости от материального положения в обществе люди делятся на классы. Политич. и идеологич. борьба — следствие экопомич. противоречий между классами и сословиями. Средства произ-ва должны быть переданы в руки производителей материальных благ — трудящихся. Общество с неизбежностью будет перестроено на социалистич. началах.
Др. представители материалистич. философии 60-х гг. — Добролюбов, Писарев, братья Серно-Соловье-вичи и др.— развили широкую просветит, и революц. деятельность, внесли значит, вклад в материалистич. традицию обоснованием необходимой связи между философией и практикой революц. борьбы, критикой современных им течений идеализма, защитой идеи историч. прогресса, закономерного движения общества к экономич. и политич. свободе трудящихся. Передовые учёные (Сеченов, И. Мечников), а также революц. демократы 60-х гг., в особенности Писарев, Антонович, отстаивали принципы эволгоц. теории дарвинизма, что в 60—70-х гг. имело большое значение в борьбе против идеалистич. и ре-лиг, мировоззрения. Разработка Добролюбовым проблем теории реалистич. иск-ва и эстетики — образец материалистич. подхода к иск-ву. И Добролюбов, и Писарев — блестящие критики современного им идеализма, официозной науки и ходячих представлений мещанского «здравого смысла». Добролюбов—один из первых в России критиков вульгарного материализма. В социологии вклад Добролюбова определяется в первую очередь глубокими мыслями о роли народных масс в истории. Продолжателями материалистической традиции в 60—80-х гг. были Шелгунов, Антонович, Салтыков-Щедрин, Стасов и др.; в конце 19 в.— Филиппов.
538
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Экономич. и социальные последствия реформы 1861, развитие в стране капитализма и одновременно усиление политической реакции привели к изменениям в расстановке классовых сил и обострению классовой борьбы.
Осн. обществ, течение 70—80-х гг., отстаивавшее идею обществ, прогресса и само являвшееся его действенной силой,— революц. народничество. Позитивизм, элементы материализма и атеизм составляли существ, стороны мировоззрения революц. народников 70—80-х гг. Отд. народники (Лавров, Н. Утин, Берви-Флеровский, Ткачев и др.) внесли известный вклад в материалистич. филос. традицию своей критикой рус. и зап.-европ. идеализма и идеалистич. метафизики. 13 революц. народничестве заметна также ясно выраженная тенденция опираться на естеств.-науч. материализм. Но, тем не менее, в области философии революц. народники в общем сделали шаг назад от цельного филос. материализма Чернышевского. Вместе с тем среди революц. народников, склонных в философии к эклектизму в связи со своеобразным культом ес-теств. наук, широкое распространение получают идеи материалистически истолкованного позитивизма. Теоретики народничества, в особенности Бакунин, Лавров, Ткачев, затем Кропоткин, в своих теоретич. работах обосновывают необходимость «действенного» историч. идеализма (Бакунин и Кропоткин — в форме анархизма). Постановка вопроса о роли субъективного фактора в философии, науке и обществ, жизни — заслуга революц. народничества. Теоретич. решение этого вопроса было ошибочным, а практич. выводы — неверными. Лавров и Михайловский разрабатывали т. и. субъективную социологию, субъективный метод в социологии. Осн. задачу обществ, науки мн. революц. народники видели в разработке теории личности, для к-рой общество является полем приложения сил (у Кропоткина — «теория взаимной помощи»). Движущая сила историч. процесса — выдающиеся личности, «активное меньшинство», действующее в интересах достижения «высшего блага человечества» — идеального обществ, строя (социализма). В истории такая деятельность находит выражение в поступат. развитии человечества, в прогрессе. Законы обществ, развития народниками признаются, но трактуются в основном субъективистски. Капитализм рассматривается в основном как явление, не необходимое для рус. общества. Лучшим противоядием против капитализма народники считали «общинное сознание» рус. народа и общину, к-рая, по их мнению, может составить ячейку будущего социалистич. строя («общинный социализм»).
В течение длит, времени рус. освободит, движение вело напряженные поиски правильной науч. революц. теории. Знакомство передовых рус. мыслителей с идеями марксизма относится еще к разночинскому периоду освободит, движения. Уже в 40—60-е гг. отд. положения «Нищеты философии» Маркса и работы Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» использовались революц. демократами для критики капитализма, бурж. демократии и отчасти для обоснования социализма. В 1864—65 в России стали известны осн. положения «Манифеста Коммунистич. партии» (их изложение дал Лавров) и «Введения» к «К критике политической экономии» Маркса (на них ссылался в своих статьях Ткачев). В 1869 был издан рус. перевод «Манифеста Коммунистической партии» (предположительно принадлежащий Бакунину). В 70-е гг. распространение идей марксизма в России становится •более широким. Гл. заслугой народников в распространении идей марксизма в России был перевод «Капитала», осуществленный Г. Лопатиным и Н. Даниэль-соном. Изучая и распространяя произведения Маркса ж Энгельса, революц. народники не поднимались до
органич. усвоения их филос, экономич. и историч. содержания. Народники не понимали главного в научном социализме — учения о всемирно-исторической роли пролетариата. Своеобразие взглядов народников заключалось в том, что, исходя из признаний самобытного («некапиталистич.») пути развития России к социализму, ссылаясь на отсутствие в стране развитых бурж. отношений и малую численность пролетариата, они рассматривали марксизм лишь как специфически западную революц. теорию. В марксизме их привлекал революц. пафос, глубокая вера в осуществление социалистич. идеалов и особенно решит, критика Марксом и Энгельсом капитализма. Однако критика народниками капитализма преследовала иную цель: борьбу за некапиталистич. развитие страны.
В 80-е гг. из общего потока народнич. движения выделяются пролетарско-демократич. течения, возникают первые марксистские кружки и группа «Освобождение труда». Народничество вступает в полосу тяжелейшего кризиса, в ходе к-рого перерождается в либеральное, враждебное марксизму. Возникает необходимость преодоления народнич. тенденций в рабочем движении. В осуществлении этой историч. задачи большую роль сыграла группа «Освобождение труда», в к-рую входили, кроме Плеханова, Засулич, Аксель-род, Дейч, Игнатов и др. Членами группы были переведены и изданы важнейшие произв. Маркса и Энгельса: «Нищета философии», «Развитие научного социализма», «Наемный труд и капитал», «18 брюмера Луи Бонапарта», «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» и др. В середине 80-х гг. возникли созданное Точиским «Товарищество СПБ мастеровых», кружок Благоева «Партия русских социал-демократов»; несколько позднее появились марксистские кружки Бруснева, Федосеева и др. Огромную роль в распространении марксизма в России и создании теоретич. предпосылок для образования Российской с.-д. рабочей партии сыграл Плеханов. Первым из рус. революционеров он доказал применимость марксизма к условиям страны, раскрыл бурж. характер российских обществ, отношений, сформулировал историч. задачи рус. рабочего класса. Он подверг глубокой критике филос. и социологич. основы народничества, показал их связь с политич. тактикой народников.
Плеханов был глубоким исследователем рус. философии. Первым из рус. марксистов он обратился к изучению философии революц. демократов — Герцена, Белинского и Чернышевского, подчеркнув их значение, а также преемственность в развитии революц. мысли в России.
Политич. ошибки, допущенные Плехановым в период создания РСДРП, выработки ее программы и тактики, привели его на позиции меньшевизма, что сказалось на теоретич. уровне его последующих филос. произведений. Однако, как об этом писал Ленин, теоретич. работы Плеханова 1883—1903-х гг. «... остаются прочным приобретением с.-д. всей России ...» (там же, т. И, с. 375).
В Р. ф. 2-й пол. 19 в., в особенности среди представителей естеств. паук, распространяются позитивистские идеи и представления, в частности О. Конта и Г. Спенсера. Этот процесс затронул и нек-рых представителей материализма. Тенденции материалистич. истолкования позитивизма имели в 70—80-х гг. положит, значение, поскольку в определ. мере стимулировали разработку теоретич. и методологич. проблем естеств. наук, противостояли официально признанным догматам идеализма.
Вместе с тем значит, влияние приобретает религ.-идеалистич. философия Вл. Соловьева. Духовные импульсы, по Соловьеву, определяют развитие ми-
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
539
pa; истинное знание достигается через цельный опыт, к-рый есть единство эмпирического, рационального и мистического. В своих последних работах Вл. Соловьев, стремившийся синтезировать в своем мировоззрении науку, философию и религию, отрицает за философией право на самостоят, существование. В целом в идеалистич. философии 70—80-х гг. можно выделить такие влият. течения, как религ. мистика (Юркевич и др.), почвенничество (Достоевский, Страхов и др.), неославянофилъство (Данилевский и др.), неогегельянство (Чичерин, Деболъский и др.). позитивизм (Кавелин и др.).
Одновременно в среде передовой рус. интеллигенции усиливается влияние филос. материализма, ре-волюц.-демократич. идеологии. Потребностями экономики страны, вставшей на капиталистич. путь, объясняется бурное развитие естеств. наук. Успехи мировой науки — физики (теория электромагнитного поля, термодинамика), химич. атомистики, биологии (дарвинизм, физиология высшей нервной деятельности, генетика) — заставляли переосмысливать мн. фундамент, естеств.-науч. и филос. представления. В первую очередь начинает развиваться эволюц. теория (исследования А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова, В. О. Ковалевского, А. Н. Северцова, М. А. Мензби-ра и др.). Филос. основы дарвинизма раскрывает К. А. Тимирязев. Сеченов создает кн. «Рефлексы головного мозга» (1863), в к-рой применяет естеств.-науч. методы для исследования сознания и воли. Ему принадлежит создание материалистич. концепции психич. деятельности как рефлекторной деятельности мозга. Развитию диалектико-материалистических представлений в России 2-й пол. 19 в. способствуют достижения химич. атомистики, напр., теория химич. строения органич. соединений Бутлерова. Открытие Менделеевым периодич. закона позволило вскрыть диалектику взаимных связей веществ, обогатило материалистическую атомистику. Разработка теории электромагнитного поля (А. Г. Столетов, Н. А. Умов, П. Н. Лебедев и др.) способствовала пересмотру понятий массы, энергии, выяснению их взаимосвязи. В математике благодаря работам П. Л. Чебышева, А. А. Маркова, А. М. Ляпунова теория вероятностей освобождается от субъективно-идеали-стич. наслоений.
Р. ф. в эпоху империализма. В связи с ростом пролетариата и развитием классовой борьбы в эпоху империализма, прогрессом естествознания, усилением влияния диалектико-материалистич. мировоззрения и распространением идей научного социализма происходят большие изменения в содержании и характере развития философии в России. Потребности философии (в особенности диалектики) и естеств. паук (в особенности физики и математики) вызвали в этот период интенсивное развитие рус. логич. мысли (работы Каринского, Васильева, Поварнина и др.). Одновременно активизируются старые и появляются новые, более рафинированные, формы идеализма. В конце 19 в. на первый план в рус. идеализме выдвигаются религ., интуитивистские и иррационалистич. течения. В конце 19 — нач. 20 вв. известное распространение получает неокантианство с его вниманием к вопросам логики и гносеологии (Введенский, Лапшин и др.). Спекулируя на методологич. запросах науки, неокантианство открывало путь для агностицизма, интуитивистских, иррационалистич. течений. Легальные марксисты (Струве, Бердяев и др.) предприняли попытку совместить экономич. материализм с неокантианским идеализмом. Представители русского идеализма 1-й половины 20 в. (С. и Е. Трубецкие, Бердяев, Булгаков, Лосский, С. Франк, Карсавин и др.) развивали мистико-религиозные и теософские идеи славянофилов и Вл. Соловьева. Многие идеи
иррационалистов и интуитивистов нач. 20 в. были подхвачены идеологами рус. либерализма, к-рые выступили после революции 1905—07 с открытым призывом к борьбе с материалистами и демократами (см. Веховство). В политич. отношении рус. идеалисты (Бердяев, Струве, Н. Лосский, Зеньковский, С. Франк и др.) стали филос. выразителями кадетской идеологии, приняли активное участие в политич. борьбе на стороне бурж.-помещичьей реакции. После Великой Октябрьской социалистич. революции рус. философы-идеалисты, жившие в эмиграции, оказали влияние на отд. течения зап. бурж. философии и социологии (Бердяев, Шестов, П. Сорокин и др.). Их произведения и поныне служат осн. идейным источником совр. бурж. представлений об истории Р. ф. До конца 19 в. прогрессивные идеи Р. ф. способствовали формированию нац. культур (в частности, философии) др. народов России, оказывали положит, влияние на развитие культур зарубежных, особенно родственных славянских, народов. С распространением в России философии марксизма и его высшего этапа — ленинизма — идеология ленинизма постепенно приобретает доминирующую роль и с победой Октябрьской революции становится важнейшим фактором в развитии мировой обществ, мысли.
С деятельностью Ленина открывается новый период в философии диалектического и исторического материализма. В произведениях Ленина 90-х гг. («Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демократов1!», «От какого наследства мы отказываемся?», «Экономич. содержание народничества...» и др.) народничество как идейное течение было развенчано окончательно. Одновременно Ленин исследовал вопросы диалектико-материалистич. философии, связанные, в частности, с критикой субъективистской социологии народников, неокантианской ревизии марксизма и буржуазного объективизма легальных марксистов.
Эпоха империализма выдвинула перед марксистской философией новые проблемы; разработка этих проблем составляет важнейший элемент теоретич. деятельности Ленина в конце 19 — нач. 20 вв. В центре внимания Ленина — проблемы история, материализма, филос. обоснование социалистич. революции, борьба за науч. мировоззрение последовательно революц. рабочего класса. Принципиальное значение для последующего развития диалектико-материалистич. философии имели произведения Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и «Философские тетради», в к-рых разработаны важнейшие положения теории познания. Гл. направление филос. исследований Ленина в этот период — диалектика обществ, развития эпохи империализма, в особенности материалистич. понимание войн и революций («Империализм как высшая стадия капитализма»), а также обоснование тезиса о возможности победы социализма первоначально в одной отдельно взятой стране («Государство и революция» и др. произведения). Ленин разработал проблематику научной истории русской домарксистской философии, выдвинув и обосновав положения, к-рые имеют важнейшее методологич. значение для истории философии как науки (общие и специфич. закономерности историко-филос. процесса, периодизация истории философии, соотношение интернационального и национального, принцип партийности и др.). Великая Октябрьская социалистическая революция знаменовала победу диалектико-матери-алистического мировоззрения. Наследие рус. материалистич. философии стало важным элементом социалистич. культуры. О дальнейшем развитии Р. ф. см. в ст. Философская наука в СССР.
В. Евграфов, В. Малинин. При участии Н. Уткиной (филос. вопросы естествознания). Москва.
540
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Лит.: 1. Работы основоположников марксизм а-л енинизма. МарксК., [Конспекты и выписки К. Маркса из рус. книг], Архив Маркса и Энгельса, т. XI, [Л.], 1948; его же, [Рукописи К. Маркса], там же, т. XII, Л., 1952; его же, Капитал. Послесловие ко второму изданию, МарксК. иЭ и гельс Ф.,Соч.,2 изд.,т.23; Э н г е л ь с Ф., Эмигрантская лит-ра, там же, т. IX; его же, Послесловие к работе «О социальном вопросе в России», там же, т. 22; Л е-н и н В. И., Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?, Соч., 4 изд., т. 1; с г о ж е, Экономии, содержание народничества и критика его в книге г. Струве, там же; его ж е, От какого наследства мы отказываемся?, там же, т. 2; е г о ж е, Развитие капитализма в России, там же, т. 3; е г о ж е, Материализм и эмпириокритицизм, там же, т. 14; е г о ж е, Лев Толстой, как зеркало рус. революции, там же, т. 15; е г о ж е, О «Вехах», там же, т. 16; его ж е, Пятидесятилетие падения крепостного права, там же, т. 17; е г о ж е, «Крест, реформа» и пролетарски-крест. революция, там же; его же, Памяти Герцена, там же, т. 18; е г о ж е, Две утопии, там же; его ж с, О народничестве, там же; его ж е, Роль сословий и классов в освободит, движении, там же, т.19; его ж е, Из прошлого рабочей печати в России, там же, т. 20; е г о ж е, Народники о Н. К. Михайловском, там же; его же, О нац. гордости великороссов, там же, т. 21; его ж е, О значении воинствующего материализма, там же, т. 33; его же, Философские тетради, там же, т. 38.
2. О б щ и е р а б о т ы. П л е х а н о в Г. В., История рус. обществ, мысли, т. 1—2, Л. — М.,1925; его же, Избр. филос. произведения,т. 1 — 5, М., 1956—58; Краткий очерк истории философии, под ред. А. Щеглова, М., 1940; ВасецкийГ., И о в ч у к М., Очерки по истории рус. материализма XVIII и XIX веков, М., 1942; А н а н ь е в Б. Г., Очерки истории рус. психологии XVIII и XIX веков, [M.J, 1947; Из истории рус. материалистич. философии, под ред. Г. С. Васецкого, М., 1949; Из истории рус. философии. Сб. ст.,М., 1951; Из истории рус. философии 18—19 вв., М., 1952; Очерки по истории филос. и обществ.-политич. мысли народов СССР, т. 1—2, М., 1955—56; Зубов В. П., Историография естеств. наук в России (XVIII в.—первая половина XIX в.), М., 1956 (имеется библ.); Моск. ун-т и развитие филос. и обществ.-политич. мысли в России, М., 1957; Герцен А. И., О развитии революц. идей в России, М., 1958; Краткий очерк истории философии, М., 1960; Щипанов И. Я., Об отношении в Советском Союзе к филос. наследию рус. мыслителей прошлого и критика реакц. бурж. извращений, в кн.: Против совр. фальсификаторов истории рус. философии, М., 1960; Г а-лактионов А., Никандров П., История рус. философии, М., 1961; Очерки по истории логики в России, М., 19С"2; Мал и нин В. А., Осн. проблемы критики идеалистич. истории рус. философии, [М.], 1963; Сидоров М. И., В. И. Ленин и вопросы истории рус. материалистич. философии, М., 1962; СтяжкинН. И., Сила-ков В. Д., Краткий очерк истории общей и математич. логики в России, М., 1962; Гавриил [Воскресенский], История философии, 2 изд., ч. 1 — 6, Каз., 1839—40; Коялович М., История рус. самосознания по историч. памятникам и науч. сочинениям, СПБ, 1884; Троицк и й М. М., Учебник логики с подробными указаниями на историю и совр. состояние атой науки в России и других странах, 2 изд., кн. 1, М., 1886; [КолубовскийЯ.Н.], Философия у русских, в кн.: Ибервег-Гейнце, История новой философии, пер.с нем., СПБ,1890; Кирхнер Фр., История философии с древнейшего до настоящего времени, пер. с нем. с доп. ст. «Рус. философия» В. Чуйко, СПБ, 1895; Волынский А. Л., Рус. критики, СПБ. 1896; Введенский А., Судьбы философии в России, «Вопр. философии и психологии», 1898, кн. 42; его же, Философские очерки, вып. 1, СПБ, 1901; Бобров Е в г., Философия в России. Материалы, исследования и заметки, вып. 1—6, Каз., 1899—1903; его же, Лит-ра и просвещение в России в XIX в., т. 1—4, Каз., 1901—03; Филиппов М., Судьбы рус. философии, СПБ, 1904; 2 изд., СПБ, 1910; Иванов-Разумник Р. В., История рус. обществ, мысли, т. 1—2, СПБ, 1907; Грузенберг С, Очерки совр. рус. философии, СПБ, 1911; Рожков Н., Основы науч. философии, СПБ, 1911; Милюков П., Гл. течения рус. историч. мысли, 3 изд., т. 1, М., 1913; его же, Очерки по истории рус. культуры, ч. 3, вып. 1—2, СПБ, 1909— 1913; Р а д л о в Э., Очерк истории рус. философии, 2 изд., П., 1920; III п е т Г. Г., Очерк развития рус. философии, ч. 1, П., 1922; Якове н ко Б. В., Очерки рус. философии, Берлин, 1922; СакулинП. Н., Рус. лит-ра и социализм, 2 изд., ч. 1, М., 1924; Чижевский Д. И., Гегель в России, Париж, [1939]; Зеньковский В. В., История рус. философии, Париж, 1948—50; Haumant В., La culture francaise en Russie (1700—1900), 2 ей ., Р., 1913; Masaryk T li., Zur russischen Geschichts-und Religionsphilosophie, Bd 1—2, Jena, 1913; его же, The spirit of Russia, 2 ed., v.l—2, L.— N. Y., 1955; D u f t J. D. (e d.), Russian realities and problems, Camb., 1917; К о у г ё A., La philosophie et le probleme national en Russie au debut du XIX siecle, P., 1929; его же, Etudes sur l'histoire de la pensee philosophigue en Russie, P., 1950; H e с k e r J. F., Russian sociology, L., 1934; J a-kovento B. V., Geschichte des Hegelianismus in Russland, Bd 1, Prag, 1938; Coquart Armand, Dmitri Pisarev (1840—1868) et 1'ideologie du nihilisme russe, P., 1946; Berdyaev N. A., The Russian idea, L., 1947; Berti G., II pensiero democratico russo del XIX, Firenze, 1950;
Schultze В., Russische Denker, W., 1950; Hare R., Pioneers of Russian social thought, L., 1951; Venturi P., II populismo russo, v. 1—2, Torino, 1952; его же, Roots of revolution, N. Y., 1960; Tompkins S.,Russian mind, v. 1, Oklahoma, 1953; С о I e G. D. H., A history of socialist thought, v. 2, L., 1954; BaumgartenA., Die Geschichte der abend-landischen Philosophie, Basel, 1955; Munzer E., Solovjev, prophet of Russian-Western unity, N. Y., 1956; Slavisclie Geisteswelt, Russland, Hrsg. M. Winkler, Baden-Baden, [1955]; Hegel bei den Slaven, 2 Aufl., Bad Homburg, 1961.
Литература по периодам. I. Пекарский П., Введение в историю Просвещения в России XVIII столетия, СПБ, 1862; его же, Наука и лит-ра в России при Петре Великом, т. 1—2, СПБ, 1862; ЧистовичИ., Феофан Прокопо-вич и его время, [СПБ, 1868]; Корсаков Д. А., Из жизни рус. деятелей XVIII века, Каз., 1891; Тихонравов Н. С, Моск. вольнодумцы начала XVIII века и Стефан Яворский, Соч., т. 2, М., 1898; КостомаровН. И., Великорус, религ. вольнодумцы в XVI веке, Собр. соч., т. 1, кн. 1, СПБ, 1903; Моск. политич. лит-ра XVI в., СПБ, 1914; Иконников В. С, Максим Грек и его время, 2 изд., К., 1915; Р а д л о в Э., Очерк рус. филос. литературы XVIII века, «Мысль», 1922, кн. 2—3; Р а й н о в Т., Наука в России XI—
XVII вв., ч. 1—3, М,—Л., 1940; Вавилове. И., Ломоно
сов и рус. наука, М., 1947; БудовницИ. У., Рус. публи
цистика XVI в., М.—Л., 1947; Райков Б. Е., Очерки по
истории гелиоцентрич. мировоззрения в России, 2 изд., М.—Л.,
1947; История культуры древней Руси, т. 1—2, М.—Л., 1948—
1951; М а к о г о н е н к о Г., Николай Новиков и рус. просве
щение XVIII в., М.—Л., 1951; Греков Б. Д., Киевская
Русь, [М.], 1953; Казакова Н. А., Лурье Я. С, Анти
феод, и еретич. движения на Руси XIV— начала XVI века,
М.—Л., 1955; Г у д з и й Н. К., История древней рус. лит-ры,
6 изд., М., 1956; Петров Л., Филос. взгляды Прокопо-
вича, Татищева и Кантемира, «Труды Иркутского гос. ун-та.
Сер. философии», 1957, т. 20, вып. 1; Бстяев Я. Д'., Об
ществ.-политич. и филос. мысль в России в первой половине
XVIII в., Саранск, 1959; Козлов Н. С, Развитие обществ.-
политич. и филос. мысли в эпоху рус. Средневековья. IX —
XVI вв., М., 1961; Коган Ю. Я., Очерки по истории pvc.
атеистич. мысли XVIII в., М., 1962; Мавр один В. В.,
Классовая борьба и обществ.-политич. мысль в России в
XVIII в., (1725 — 1773 гг.), Л., 1964.
Н.Скабичевский А., Очерки развития прогрессивных идей в нашем обществе. 1825—1860, СПБ, 1872; Градов-ский А., Первые славянофилы, в его кн.: Национальный вопрос в истории и литературе, СПБ, 1873; Мамонов Э. [Дмитриев-Мамонов Э. А.], Славянофилы. Историко-критич. очерк, «Русский архив», 1873, кн. 2; П а н о в И., Славянофильство как филос. учение, «Журн. М-ва нар. просвещения», 1880, т. 11; Л и н и ц к и й П. И., Славянофильство и либерализм, Киев, 1882; Ветринский Ч., Т. Н. Грановский и его время, 2 изд., СПБ, 1905; П ы п и н А. Н., Характеристики лит. мнений от двадцатых до пятидесятых годов, 3 изд., СПБ, 1906; Лемке М., Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., 2 изд., СПБ, 1909; П л е х а н о в Г. В., Пессимизм как отражение экономия, действительности, Соч., т. 10, М.—П., [б. г.]; В о р о н и ц ы и И. П., Декабристы и религия, 2 изд., [М.], 1929; Чернышевский Н. Г., Очерки гоголевского .периода рус. литературы, Поли. собр. соч., т. 3, М., 1947; П у г а ч е в В. В., Из истории рус. обществ.-политич. мысли начала XIX века (от А. Н. Радищева к декабристам), «Уч. зап. Горьковского гос. ун-та. Сер. историко-фи-лологич.», 1962, вып. 57; К а м е н с к и й 3. А., Филос. идеи рус. просвещения (первая четверть XIX в.), М., 1965 (Дисс).
III. В и т я з е в П. (Ф. И. Седенко), П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский, П., 1917; Лемке М., Политич. процессы в России 1860-х гг., 2 изд., М.—П., 1923; Шр е й д е р А., Очерки философии народничества, Берлин, 1923; Стеклов Ю., Н. Г. Чернышевский, 2 изд., т. 1—2, М.—Л., 1928; Марко-в а О., Нелегальная русская печать 60—80-х годов о Марксе и марксизме, «Каторга и ссылка», 1933, JM5 3; Евгеньев-Максимов В., «Современник», в 40—50-х гг. От Белинского до Чернышевского, [Л., 1934]; Левин Л., Произведения Маркса и Энгельса в дореволюционной России, «Тр. Моск. гос. библиотеч. ин-та», 1938, т. 1; Шульгин В., К. Марко и Ф. Энгельс и передовая обществ, и науч. мысль России 70— 80-х годов, «Ист. журн.», 1944, № 4; Максимов А. А., Очерки по истории борьбы за материализм в рус. естествознании, [М.], 1947; И о в ч у к М. Т., Осн. черты рус. классич. материалистич. философии XIX в., 2 изд., Минск, 1949; В а-с и л е н к о К. С, Общество переводчиков и издателей, «Вестн. МГУ. Сер. общ. наук», 1956, вып. 2, JM5 4; К а л е к и н а О., Издание марксистской литературы в России конца XIX в., М., 1957; КозьминБ. П., Рус. секция Первого Интернационала, М., 1957; Левин Ш. М., Обществ, движение в России в 60—70-е годы XIX в., М., 1958; М а с л и и А. Н., Материализм и революционно-демократич. идеология в России в 60-х годах XIX века, М., 1960; Поляков М. Я., Виссарион Белинский. Личность — идеи — эпоха, М., 1960; КонкинС.С, Философско-эстетич. позиция журнала «Русское слово» в 1863—1866 годах, Стерлитамак, 1961; П а н т и и И. К., Материалистич. мировоззрение и теория познания рус. революц. демократов, М., 1961; Ч у б и н с к и й В. В., М. "А. Антонович. Очерк жизни и публицистич. деятельности, [Л.], 1961; Из истории рус. литературы и философии, «Уч. зап. Арзамасского гос. пед. ин-та», 1962, т. 5, вып. 2; М а л и н и и
РУССО
541
В. А., С и д о р о в М. И., Предшественники науч. социализма в России, м., 19G3; Проблемы изучения Герцена, М., 1963; АзнауровА. А., Очерки по этике великих рус. революц. демократов, Баку, 1964; Из истории обществ, мысли и общественного движения в России. [Сб. ст.], Саратов, 1964;Революц. народничество 70-х годов XIX века. Сб. документов и материалов, т. 1—2, М.—Л., 1964—65; Н. А. Добролюбов. Статьи и материалы, «Уч. зап. Горьковского гос. ун-та», 1965, вып. 71. IV. Боцяновский В. Ф., Богоискатели, СПБ —М., 1911; Ангарский Н., Легальный марксизм, М., 1930; ВостриковА. В., Борьба Ленина против неокантианской ревизии марксизма в России, [М.], 1949; Сидоров М. П., Г. В. Плеханов и вопросы истории рус. революционно-демок-ратич. мысли XIX в., М., 1957; Ш е с т а к о в М. Г., Борьба В. И. Ленина против идеалистич. социологии народничества, [2 изд.], М., 1959; В о д з и н с к и й Е. И., Рус. неокантианство и его реакц. сущность, «Вестн. ЛГУ. Сер. экон., филос. иправа», 1959, вып. 1,№5;Чагин Б. А., Борьба марксизма-ленинизма против философ, ревизионизма в конце XIX— начале XX вв., Л., 1959; е г о ж е, Из истории борьбы В. И. Ленина за развитие марксистской философии, М., 1960; его ж е, Г. В. Плеханов и его роль в развитии марксистской философии, М.—Л., 1963; РасуловТ. А., Критика В. И. Лениным позитивистской социологии в 90-е годы XIX в., Баку, 1960; Чу ев а И. П., Критика идей интуитивизма в России, М.—Л., 1963.
V. Библиография. КолубовскийЯ. Н., Материалы для истории философии в России. 1855—1888, «Вопр. филос. и психол.», 1890—91, 1898, кн. 4—7, 8, 44; его же, Филос. ежегодник. Обзор книг, статей и заметок..., [т.] 1—2, М.,1894—96; Гиляров А. Н., Обзор филос. литературы за последние годы, Киев, 1898; Систематич. указатель рус. литературы... по новой философии, в кн.: Виндельбанд В., История новой философии..., т. 2, СПБ,1905, с. 380—417; Указатель статей, рецензий и заметок, напечатанных в ж. «Вопросы философии и психологии» за двадцатилетие 1889—1909, М., 1910; Нелидов Ф. Ф., Западники 40-х годов, М., 1910 (библ., с. 263—72); Книги по философии. Логика, теория познания, психология, метафизика, этика и эстетика, М., [1914]; Фомин И. И., Введение в историю новой философии, М., 1906 (имеется библ.); Я щ е н к о А., Рус. библиография по истории древней философии, Юрьев, 1915; [Д р е й М.], Опыт библиографич. указателя лит-ры по истории революц. движения 70-х годов (народничество), «Вестн. Комм. Акад.», 1925, № 10; К о л у б о в с к и й И. [сост.], Библиография. Рус. литература о Шеллинге, в кн.: Шеллинг Ф. В. И., Система трансцендентального идеализма, Л., 1936; Примакове-к и й А. П., Библиография по логике, М., 1955; История СССР. Указатель советской литературы за 1917—1952 гг., т. 1—2, М., 1956—58; История философии. Краткий указатель осн. литературы и источников, т. 2, М., 1957, с. 643—90, т. 4, М., 1959, с. 579—650; «Красный архив»— историч. журнал. 1922— 1941. Аннотированный указатель содержания, сост. Р. Я. Зверев, М., 1960; Дробленкова Н. Ф. [сост.], Библиография сов. рус. работ по литературе XI—XVII вв. за 1917— 1957 гг., М.—Л., 1961; История рус. литературы XIX в. Библ. указатель, под ред. К. Д. Муратовой, М.—Л., 1962; История рус. литературы конца XIX— начала XX в. Библ. указатель, под ред. К. Д. Муратовой, М,—Л., 1963.
В. Карпачев. Свердловск. РУССО (Russo), Алеку [17 (29) марта 1819 — 4(16) февраля 1859] — румыно-молд. писатель и мыслитель. Род. в Бессарабии в боярской семье. Образование получил в Швейцарии и Вене. Участвовал в революции 1848 и примыкал к ее революц.-демократич. крылу (Бэлческу, М. Когэлничану и др.). Выступал за уничтожение феод, привилегий, за освобождение крестьян и наделение их землей без выкупа. Особое значение в истории развития общества Р. придавал нар. массам, но не отрицал и роли личности. Во мн. произведениях Р. чувствуется влияние идей франц. энциклопедистов, в частности Ж. Ж. Руссо, и сен-симо-нистов. Р. близок к материалистич. эстетике. Лит-ру он рассматривал как «выражение жизни наций», как «одежду бытия», а обычаи, сказки, музыку и поэзию— пак «архивы народов», с помощью к-рых можно реконструировать «затемненное» прошлое.
С о ч.: Избранное, Кишинев, 1959; Scrieri alese, Buc, 1959.
Лит.: История литературий молдовенешть, вол. 1, Киши-нэу, 1958; Dima A., A. Russo, Buc, [1957].
В. Ермуратский, В. Иоробан. Кишинев.
РУССО (Rousseau), Жан Жак (28 июня 1712 — 2 июля 1778) — франц. политич. мыслитель, революц. демократ, философ, реформатор педагогики, писатель, драматург, композитор, теоретик иск-ва. Род. в Женеве в семье часовщика; систематич. образования Р. не получил. Меняя различные профессии, в 1741 приехал в Париж, где завязал
|
|
знакомство с Д' Аламбером, Гольбахом, Дидро и другими просветителями. По приглашению Дидро Р. сотрудничал в «Энциклопедии». Широкая известность Р. началась с «Рассуждения о науках и искусствах» (Gen., 1750; рус. пер. в Избр. соч., т. 1, М., 1961), где он дал отрицат. ответ на вопрос Дижонской академии: способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов. Слава оригинального мыслителя упрочилась за Р. после выхода др. его произведений: «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (Amst., 1755; рус. пер. под назв. «О причинах неравенства», СПБ, 1907), «Юлия, или Новая Элоиза» (Amst., 1761; рус. пер. 1769, последнее рус. изд. в Избр. соч., т.2, М., 1961). Бегство из Франции (1762) спасло Р. от ареста, но и в Швейцарии, куда он направился, его преследовали власти. Положение Р. осложнялось ранее происшедшим разрывом его с осн. группой просветителей. Особой ожесточенностью отличалась многолетняя полемика между Р. и Вольтером. В 1766—67 Р. был в Англии, но, поссорившись с пригласившим его туда Юмом, вернулся во Францию. Он жил уединенно, переписывал ноты, чтобы добыть средства к жизни, писал мемуары («Исповедь» — t. 1—4, pt. 1—2, Gen., 1782—89; рус. пер. под назв. «Исповедание», ч. 1—2, М., 1797; затем много изд., последнее в Избр. соч., т. 3, М., 1961), опубликованные после его смерти. В 1791 его прах по решению Законодат. собрания был перепесен в Париж.
Филос.-рели г. взгляды Р. сложились под влиянием англ. и франц. деизма; они дуалистичны и крайне противоречивы. Р. признавал несотворенность и объективность существования материи, определяя ее как то, что дано в ощущениях. Но он отказался решить вопрос о сущности материи, считая, что сущность вещей вообще непознаваема; по Р., материя инертна, не способна породить разум. В полемике с франц. материалистами Р. утверждал, что существует бог как мировая воля, мировой разум и источник добра. Человек, согласно Р., состоит из смертного тела и нематериальной бессмертной души. Р. абсолютизировал сенсуализм: для него чувства непогрешимы, а разум ведет к заблуждению; к теоретич. мышлению он относился отрицательно, считая единств, путем к истине непосредств. чувств, знание. Субъективная уверенность в правильности того или иного положения для Р. выше логич. доказательств. Антиматериали-стич. и агностич. линия в философии Р. оказала значит, влияние на Канта.
С позиций эмоционально окрашенного деизма Р. отвергал теологию, религ. фанатизм, религ. нетерпимость. Он был ярким критиком христианства, видя в его совр. форме наихудшую религию. В то же время Р. осуждал атеистов как плохих граждан, к-рых следует изгонять из разумно организованного общества и даже казнить, если они упорствуют. Р. стремился найти новую форму связи религии с морально-правовыми нормами (буржуазными по своей сути) в целях усиления их авторитета. Попытка создания «гражданской религии» таила в себе опасность возрождения религ. фанатизма. Религ. идеи Р. безуспешно пытались осуществить якобинцы во время революции (установление Робеспьером культа верховного существа) .
Со ци а ль н о-п о л и т ич. идеи Р.занимают центр, место в его мировоззрении. Страстное обличение
542
РУССО
 Пороков феодализма, поиски путей перехода к справедливой обществ, организации, разработанной Р. в учении об общественном договоре, составляют пафос всей деятельности Р. В целом он находился в границах идеалистич. понимания истории, для него идеи людей, их сознат. действия, в особенности если они выражены в форме законов, имеют решающее значение. Не чужд Р. и «географич. детерминизм» Монтескье: Р. считал, что политич. формы зависят от величины территории, климата и т. д. Среди др. просветителей Р. выделялся пониманием противоречивости обществ, прогресса, борьбой против всякого социального неравенства, революц. демократизмом. Р. высказал глубокую догадку о частной собственности как причине обществ, антагонизмов.
Пороков феодализма, поиски путей перехода к справедливой обществ, организации, разработанной Р. в учении об общественном договоре, составляют пафос всей деятельности Р. В целом он находился в границах идеалистич. понимания истории, для него идеи людей, их сознат. действия, в особенности если они выражены в форме законов, имеют решающее значение. Не чужд Р. и «географич. детерминизм» Монтескье: Р. считал, что политич. формы зависят от величины территории, климата и т. д. Среди др. просветителей Р. выделялся пониманием противоречивости обществ, прогресса, борьбой против всякого социального неравенства, революц. демократизмом. Р. высказал глубокую догадку о частной собственности как причине обществ, антагонизмов.
Развитие общества Р. представлял след. образом: вначале существует «естеств. состояние», когда люди свободны и равны; Р. идеализировал это состояние и воспевал его как счастливое детство человечества. «Способность к совершенствованию» приводит к улучшению орудий и способов труда. На этой основе возникает частная собственность, а вместе с пей иму-ществ. неравенство. Как следствие этого возникает гос-во, порождающее политич. неравенство. Высшей точки неравенство достигает в деспотич. гос-ве, где перед лицом всемогущего деспота все уравнены в бесправии. Успехи в хозяйств, деятельности, науке, иск-ве неразрывно связаны, по Р., с утратой людьми свободы и счастья, с регрессом в этике и политике. Выявление противоречий обществ, развития, в ходе к-рого люди, стремясь к улучшению своей жизни, становятся в условиях неограниченного господства частной собственности, все более несчастными, дает основание нек-рым совр. авторам говорить об Р. как об одном из первых исследователей проблемы отчуждения (см., напр., И. С. Нарский, Об историко-филос. развитии понятия «отчуждение»,в журн.: «Филос. науки», 1963, № 4, с. 97—99). Как революц. идеолог, Р. утверждал, что в конце концов сила бесправного большинства свергнет власть деспота и ликвидирует неравенство. Р. фактически обосновывал право народа на восстание против угнетателей. Энгельс отмечал диа-лектич. характер этих рассуждений Р.: «... процессы, антагонистические по своей природе, содержащие в себе противоречие; превращение определенной крайности в свою противоположность и, наконец, как ядро всего— отрицание отрицания» («Анти-Дюринг», 1966, с. 140).
Люди, освободившиеся от деспотич. власти, должны решить проблему: каким образом остаться свободными и вместе с тем создать обществ, союз. По Р., она решается заключением обществ, договора, суть к-рого состоит в том, что «каждый из нас отдает свою личность и всю свою мощь под верховное руководство общей воли, и мы вместе принимаем каждого члена как нераздельную часть целого» («Об обществ, договоре», М., 1938, с. 13). В результате этого образуется коллективное целое — гос-во, народ, обладающий верховной властью, суверенитетом. Политич. идеал Р.— прямая демократия, в к-рой законы принимаются непосредственно, собранием всех граждан. Этот идеал (при выработке его Р. исходил из опыта антич. горо-дов-гос-в и швейц. кантонов) был осуществим лишь для небольших гос-в, где физически возможно собрать в одном месте всех граждан. Правильно критикуя ограниченность англ. парламентаризма, Р. в целом недооценил возможностей развития демократии при представительной системе. Эта сторона политич. идеала Р. ориентировала на создание в Европе мельчайших гос-в, тогда как тенденция историч. развития действовала в противоположном направлении.
Вопрос о частной собственности решался Р. непоследовательно: считая, что ее возникновение привело к бесчисленным бедствиям, он предлагал не уничто-
жить ее, а лишь равномерно распределить между всеми гражданами в размерах, необходимых для их жизни. Это характеризует Р. как идеолога мелкой буржуазии. Р. не понимал, что существование частной собственности неизбежно ведет к имуществ. расслоению, Энгельс отмечал, что «государство разума — общественный договор Руссо,— оказалось и могло оказаться на практике только буржуазной демократической республикой» («Анти-Дюринг», с. 13).
В. Кузнецов. Москва.
Эстетич. идеи. Р. считал, что иск-во вредно для обществ, нравственности (см. «Рассуждение о науках и искусствах», «Письмо к Д'Аламберу ...» «J. J. Rousseau... a M. D'Alembert...», Amst., 1758; последнее рус. изд. в Избр. соч., т. 1, М., 1961; «Письмо о франц. музыке» — «Lettre sur la musique francaise», [P.], 1753; последнее рус. изд. в Избр. соч., т. 1, М., 1961). Однако это не было осуждением иск-ва вообще, но лишь его господствующей, гл. обр. аристократической, формы. Исходя из идеи о том, что иск-во должно быть верным природе, воспроизводить жизнь, Р. обосновал свой эстетич. идеал, основанный на единстве эстетич. и этич. начал.
Мораль Р. основана на идее равенства людей и
свободы личности. Это — мораль гражд. подвига,
респ. патриотизма. Добродетель для него — нена
висть к рабству и приверженность свободе; в этом
направлении и должно воздействовать эстетич. вос
питание. Поэтому, отвергая аристократич. иск-во,
он выдвигал проблему положит, героя, примера.
Картина, статуя, пьеса должны прославлять патрио-
тич. деяния, учить великодушию, справедливости. Р.
утверждал даже, что тема любви в драматургии
наносит ущерб ее гражд. содержанию. Театру для
избранных Р. противопоставил идею массовых пар.
празднеств, к-рые сближают и объединяют сограждан.
Эти идеи легли в основу художеств, политики яко
бинцев, вдохновили эстетику социалистов-утопистов,
позднее — Ромена Роллана. Борьба за свободу лично
сти у Р. носила глубоко демократич. характер. Но,
стремясь соединить индивидуализм с уравнитель
ностью, Р. впадал в неразрешимое противоречие.
Естеств. страсти добродетельной души, своеобразие
и неповторимость индивидуальных чувствований со
ставляют осн. содержание иск-ва для Р. Таковы его
романы «Новая Элоиза» и «Исповедь». В живописи он
критиковал стиль рококо, требуя мужественного, на
родного, естественного изобразит, иск-ва, в к-ром
содержание было бы определяющим началом, в связи
с чем отдавал приоритет рисунку по сравнению с
красками. В музыке он отвергал рационалистич. су
хость франц. придворной оперы, отстаивал мелодич.
нар.-песенное начало как живой язык страстей. Эта
сторона воззрений Р. питала европ. сентиментализм,
родоначальником к-рого Р. являлся, и позднее была
унаследована романтизмом. Т. Барская. Ленинград.
Педагогич. идеи Р. органически связаны со всей системой его взглядов. Они изложены гл. обр. в «Эмиле».Исходя из сенсуализма, Р.верил во всемогущество воспитания, к-рое должно сформулировать гражданина нового общества. Процесс воспитания мыслился Р. как развитие естеств. задатков и способностей ребенка, исключающее всякое насилие над его личностью. Большое значение Р. придавал физич. воспитанию. Обучение наукам должно сочетаться с изучением какого-нибудь ремесла. Формирование правств. качеств является гл. целью воспитания. Не понимая значения общества для решения задачи воспитания каждого индивида, Р. требовал, чтобы ребенок был изолирован от влияния окружающей среды. Несмотря на ряд утопич. моментов (отразивших невозможность осуществления педагогич. идеала Р. в условиях совр. ему общества), предложенная Р. система воспитания
РУССО —РУТКЕВИЧ
543
 обогатила педагогику мн. плодотворными идеями. Р. оказал влияние на реформаторов педагогики 18—19 вв. (Пееталоцци и др.). Его педагогич. идеи не утратили значения и поныне. Резко враждебная феод.-схоластич. образованию и воспитанию, отрицающая сам принцип сословности в воспитании, она имела революц. значение.
обогатила педагогику мн. плодотворными идеями. Р. оказал влияние на реформаторов педагогики 18—19 вв. (Пееталоцци и др.). Его педагогич. идеи не утратили значения и поныне. Резко враждебная феод.-схоластич. образованию и воспитанию, отрицающая сам принцип сословности в воспитании, она имела революц. значение.
На протяжении многих десятилетий идеи Р. были путеводной звездой для революционеров, боровшихся против феодализма и крепостничества, за демократизацию обществ, жизни. Под сильнейшим воздействием идей Р. находились деятели франц. революции 1789— 1794, особенно Робеспьер. Критика Р. противоречий общества, основанного на частной собственности, оказала большое влияние ыа развитие идей утопического социализма. Классики марксизма-ленинизма, вскрывая мелкобурж. ограниченность Р., отмечали великое прогрессивное значение его революц.-демократич. идей.
Соч.: «Об общественном договоре, или Принципы.политическогоправ a» («Du contrat social ou prineipes du droit politique», Amst., 1762). В 1762 вышло 10 изданий, затем переиздавалось на франц. яз. ок. ста раз. Во Франции оно было немедленно запрещено и осуждено на сожжение (одновременно с «Эмилем»). Был отдан приказ об аресте Р. Несмотря на преследования, соч. Р. широко распространялось во Франции. Работа была быстро переведена на мн. иностр. яз.: англ. (1763, последнее 1955), нем. (1763, последнее 1953), португ. (1767 или 1768, 1821), гол. (1793), дат. (1795, 1900), итал. (1796, последнее 1945), исп. (1799, последнее 1962), венг. (1819, 1958), новогреч. (1828), польск. (1839, 1948), чеш. (1871, последнее 1949), турец. (1910, 1960), рум. (1957), швед. (1919), фин. (1918), болг. (1887, 1896), иврит (1932), рус. (три издания в 1906; 1907, последнее изд. 193.8).
«3 миль, или О в ос п и т а н и и» («Emilc, ou de Г education»)—осн. педагогич. работа Р. В 4-й ч.«Эмиля» находится «Исповедание веры савойского викария» — концентрированное изложение филос.-религ. идей Р. 1-е изд. вышло в мае 1762. Оно было отпечатано в Париже, но в целях конспирации на титульном листе в качестве места издания была указана Гаага. Копия была конфискована парижской полицией, осуждена Сорбонной и сожжена по постановлению парижского парламента. «Эмиль» (вместе с «Обществ, договором») был сожжен также в Женеве. Голл. власти взяли назад разрешение на печатание «Эмиля». Несмотря на это, книга получила широкое распространение. Она множество раз издавалась на франц. яз. Переведена на англ. (1762, последнее 1933), нем. (1762, последнее 1933), голл. (1793, 1923), венг (1790, 1957), дат. (1801), исп. (1817, 1928), итал. (1887, 1949), рум. (последнее изд. 1937), польск. (1930, 1933), турец. (1930), португ. (б,г.), швед. (1912, 1917), чеш. (1889, 1926), словац. (1956), фин. (1933). Первый рус. пер.—ч. 1 — 4, М.,1807, далее СПБ, 1877 (Собр. соч., т.1); М., 1896 (2изд.,М., 1911); СПБ, 1912; последний полн. пер., М., 1913. Кроме того, издавались отрыеки под разными названиями: Размышление о величестве Божием, СПБ, [1770]; то же, в кн.: Философические уединенные прогулки, [2 изд.], СПБ, 1802, Зизд.,М., 1822; Емиль и София, или Благовоспитанные любовники, М., 1779; М., 1800; СПБ, 1811; М., 1820; Бытие бога и бессмертие души, СПБ, 1801; Исповедание' веры савойского викария, М., 1903; О боге, СПБ, 1908; Эмиль, или О воспитании, кн. 5, в Избр. соч., т. 1, М., 1961.
CEuvres completes, [nouv. ed.l, t. 1—4, P., 1883; Oeuvres completes, t. 1 —13, P., 1885—1905; Correspondence generale, v. 1—20, P., 1924—34 (Table, [ed. P. P. Plan], Gent, 1953).
Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 1, 3, 4, 12, 15, 16, 19, 20, 21 (см. имен, указат. в каждом томе); Плеханов Г. В., Ж. Ж. Р. и его учение о происхождении неравенства между людьми, Соч., 2 изд.,т. 18, М.—Л., 1928; М о р л е й Д., Руссо, пер. с англ., М.,1881; Ю ж а к о в С. Н., Ж. Ж. Руссо, СПБ,1894; Ш ю к э А., Ж. Ж. Руссо, пер. с франц., М., 1896; Г е ф ф д и н г Г.,Ж.-Ж. Руссо и его философия, пер. с нем., СПБ, 1898; К о м п е р е, Ж. Ж. Р. и воспитание естественное, пер. [с франц.], М., 1903; Пресс А., Руссо. Об естественном состоянии, СПБ, [1904]; Алексеев А. С, Политич. доктрина Ж. Ж. Р. в ее отношении к учению Монтескье о равновесии властей и в освещении одного из ее новейших истолкователей, СПБ, 1905; Грэхэм Г., Ж.-Ж. Руссо. Его жизнь, произведения и окружающая среда, 2 изд., М., 1908; Т р о и ц к и й И: В., Ж.-Ж. Р. перед судом педиатрии XX в., X., 1908; Розанов М. Н., Ж.-Ж. Р. и лит. движение конца XVIII и начала XIX в., т. 1, М., 1910; М flea в а Тадасу, Великий реформатор воспитания и образования Ж.-Ж. Р., пер. с англ., М., 1912; Б а х т и н Н., Р. и его пед. воззрения, СПБ, 1913; Ц и н г е р А. В., Двухвековая годовщина рождения Р. в Женеве, М., 1913; К р е в и н Э. П., Р.— источник новейших течений нем. педагогики, П., 1915; Голосов А., Разбор воззрений Ж.-Ж. Р. на индивидуум и человеч. общество, Х.,1915; Г у р в и ч Г., Р. и декларация прав,П.,1918; Крупская Н.,Ж.-Ж.Руссо, в ее кн.:Нар.образование и демократия, 3 изд., Берлин, 1921; Засулич В.,
Ж.-Ж.Руссо.Опыт характеристики его обществ, идей, [М.],1923;
Роланд-ГольстГ., Ж.-Ж. Руссо.Его жизнь и сочинения,
пер. с нем.Дм.], 1923; МаргериттВ., Жан-Жак и любовь,
пер. с франц., М., 1927; Р о з а н о в М. Н., Ж.-Ж. Р. и Толс
той, [Л., 1928]; БернадинерБ. М., Социально-политич.
философия Ж.-Ж. Р.. [Воронеж], 1940; Р о л л а н Р., Ж.-Ж.
Руссо, Собр. соч., т. 14, М., 1950; Станков С, Линней.
Руссо. Ламарк, М., 1955; В е р ц м а н И., Ж.-Ж. Руссо, М.,
1958; А см у с В. Ф , Ж.-Ж. Руссо, М., 1962; Тезисы Конфе
ренции, посвященной 250-летию со дня рождения Ж.-Ж. Руссо,
О., 1962; Cassirer E., Rousseau. Kant. Goethe, transl.
from the German, Princeton, 1945; M о r a n d о D., Rousseau,
[Brescia, 1946]; Petruzzellis N., II pensiero politico e
pedagogico di G. G. Rousseau, Mil., [1946]; F a u r e C, Essais
sur J. J. Rousseau, Grenoble—P., [1948]; Kevorkian В.,
L'Emile de Rousseau et l'Emile des ecoles normales, Nchat.—
P., [1948]; D e r a t h ё R., Le rationalisme de J.-J. Rousseau,
P., 1948; его же, J.-J. Rousseau et la science politique de son
temps, P., 1950; Groethuysen В., J. J. Rousseau, P.,
[1950]; С a r t о n P., Le faux naturalisme de J. J. Rousseaux,
2 ed., [P.], 1951; В u r g e I i n P., La philosophic de l'existence
de J. J. Rousseau, P., 1952; ZiegenfussW.,J. J. Rousseau,
В., 1952; N a p о 1 i G. d i, II pensiero di G. G. Rousseau, Bres
cia, [1953]; F 1 о r e s d'A г с a i s G., II problema pedagogico
nell'Emilio di G. G. Rousseau, 2 ed., Brescia, 1954; M о n d о 1-
fo D., Rousseau e la coscienza moderna, Firenze, [1954];
GreenF., J. J. Rousseau, Camb., 1955; Chapman J. W.,
Rousseau —totalitarian or liberal?, N. Y., 1956; E i n a u d i
L., J. J. Rousseau, la teoria della volont a generale e del partito
guida e il compito degli universitari, Basel, 1956; Glum
F., J. J. Rousseau. Religion und Staat, [Stuttg., 1956]; R a v a-
ry В., Un conscience chretienne devant la pensee religieuse
de J.-J. Rousseau, P., [1956]; T h о m a s J. F., Le pelagianisme
de J.-J. Rousseau, P., [1956]; V о i s i n e J., J.-J. Rousseau en
Angleterre a l'epoque romantique, P., 1956; H e a 1 e у F. G.,
Rousseau et Napoleon, Gen. — P., 1957; R 6 h r s H., J. J. Rous
seau: Vision und Wirklichkeit, Hdlb., [1957]; Krafft O.,
La politique de J.-J. Rousseau, P., 1958; Starobinski
J., J.-J. Rousseau. La transparence et l'obstacle, P., [1958];
T e m m e r M. J., Time in Rousseau and Kant, Gen.—P.,1958;
Fetscher I., Rousseau's politische Philosophie, Neuwicd,
1960; Grosclaude P., J.-J. Rousseau et Malesherbes, P.,
[I960]; Bretonneau В., Valeurs humaines de J. J. Rous
seau, P., [1961]; Cobban A., Rousseau and the modern state,
Hamden (Connecticut), 1961; DedeyanCh., Rousseau et la
sensibilite litteraire a la fin du XVIII siecle, P., [1961]; С г е s-
s о n A., J.-J. Rousseau, [3 ed.], P., 1962; D e 1 1 a V о 1 p e G.,
Rousseau et Marx, [3 ed., Roma, 1962]; D h б t e 1 A., Le reman
de Jean Jacques, [P., 1962]; Guehenno J., Jean Jacques,
nouv. ed., [pt.l 1—2, [P., 1962]; WilleH. J., Die Gcfahrtin,
das Leben der Therese Lavasseur mit J. J. Rousseau, [6 Aufl.],
В., 1962; S ё n e 1 i e г J., Bibliographie generate des oeuvres
de J.-J. Rousseau, P., 1950. В. Кузнецов. Москва.
РУСТАВЕЛИ, Шота (12 в.) — ср.-век. груз, поэт-гуманист и мыслитель. Филос. взгляды Р., изложенные им в поэме «Витязь в тигровой шкуре», являются выражением пантеистич. тенденций Ареопагитик и учения И. Пеприци о сущем. В своем мировоззрении Р.исходил из синтеза духовного и материального начал, единства неба и земли. Основа этого единства — бог —«полнота всего сущего». В этич. аспекте бог трактуется Р. как абс. добро, активное стремление к к-рому составляет осн. цель деятельности человека. Утверждая активность человека, Р. ставил успех человеч. деятельности в зависимость от ее целенаправленности. Эстетич. взгляды Р. связаны с его обще-филос. концепцией: идеал прекрасного — в реальной жизни. Осн. признаками красоты Р. полагает гармонию, мощь и целесообразность. Прекрасное в человеке Р. связывает с высшими моральными ценностями: любовью и дружбой. Р. выступает в поэме как защитник единого, сильного, политически независимого гос-ва.
Соч.: Витязь в тигровой шкуре, М., 1965; Юбилейный сборник, Тб., 1966 (на груз, и рус. яз.).
Лит.: Очерки по истошга филос. и общ.-политич. мысли
народов СССР, т. 1, М., 1955, с. 50—53; Нуцубидзе Ш.,
Творчество Руставели, Тб., 1958; его же, История груз,
филос, Тб., 1960; Деятели рус. культуры о Ш. Руставели,
Тб 1966. Ш. Хидашели. Тбилиси.
РУТКЕВИЧ, Михаил Николаевич (р. 2 окт. 1917)— сов. философ, профессор (1960), д-р филос. наук (1961). Член КПСС с 1944. Окончил фнзич. ф-т Киевского ун-та (1939). Преподает философию с 1947, с 1953 — зав. кафедрой философии Уральского ун-та (Свердловск). Работает над проблемами: роль практики в процессе познания, законы и категории материа-
544
РУТКОВСКИЙ — РУФ
 листич. диалектики, формы движения материи и их взаимосвязь, роль естествознания в развитии общества, социальные аспекты науч.-технич. прогресса и т. д. Член редколлегии журн. «Филос. науки». Автор учеб-вика «Диалектич. материализм» (2 изд., М., 1960).
листич. диалектики, формы движения материи и их взаимосвязь, роль естествознания в развитии общества, социальные аспекты науч.-технич. прогресса и т. д. Член редколлегии журн. «Филос. науки». Автор учеб-вика «Диалектич. материализм» (2 изд., М., 1960).
С оч.: Практика—основа познания и критерий истины, М., 1952 (изд. на польск., чешек., венг., нем. яз.); Марксизм-ле-еинизм о естествознании и его роли в жизни общества, Свердл., 1952; К вопросу о роли практики в процессе познания, «ВФ», 1954, Л»3; Религия и ее реакц. роль в жизни общества, Свердл., 1954; Движение и развитие в природе и обществе, М., 1954; Роль практики в познании мира, Свердл., 1956; О формах движения в неорганич. природе, «Уч. зап. Уральск, ун-та», 1957, вып. 21; Необходимость и случайность, Свердл., 1958; К вопросу о классификации форм движения материи, «ФН» (НДВШ), 1958, № 1; О сущности закона отрицания отрицания и сфере «го действия, там же, № 4; Диалектич. характер критерия практики, «ВФ». 1959, № 9; Практика — критерий истины в науке, М., 1960 (ред. сб. и автор двух статей); Краткий очерк истории философии (автор, гл. 12, 15, § 2; 21, § 1, 2; 25), М., 1960; О методах конкретно-социологич. исследования, «ВФ», 1961, JV» 3 (соавтор); Подъем культурно-технического уровня советского рабочего класса, М., 1961 (ред.); Коммунизм и наука, «ФН» (НДВШ), 1962, № 2, 3; Некоторые категории диалектики, М., 1963 (ред. и автор двух статей); О диалектике природы как философской науке, «ВФ», 1963, № 3 (совм. с Г. В. Платоновым); Проблема общественного прогресса, в кн.: Человек и эпоха, М., 1964; Развитие СССР к бесклассовому обществу и интеллигенция, в кн.: Марксистская и бурж. социология сегодня, М., 1964; О структуре и единстве философии марксизма, «ФН» (НДВШ), 1965, Ns 1; Развитие, прогресс и законы диалектики, «ВФ», 1965, № 8; Век науки и искусство, М., 1965 (совм. с А. Ереевым); Fur cine dialektische Aulfassung der Praxis, «Dtsch. Z. Philos.», 1962, [№] 11; Progress In science and technology In relation to art, в сб.: Philosophy, science and man. The Soviet delegation reports for the XIII world congress of philosophy, Moscow, 1963.
РУТКОВСКИЙ, Леонид Васильевич (1859—10 марта 1920) — рус. логик. Окончил историко-филоло-гич. ф-т Петербургского ун-та (1880). Там же, после защиты диссертации на звание магистра, читал лекции по англ. эмпирич. философии, не занимая, однако, должности штатного сотрудника. В течение мн. лет Р. служил чиновником особых поручений при государств, контроле. После Октябрьской революции заведовал общим отделом Одесской РКИ.
Уже в первом своем труде «Элементарный учебник логики применительно к требованиям гимназического курса» (СПБ, 1884) Р. выступает как сторонник материализма. Наиболее значит, произведениями Р. являются: «Основные типы умозаключений», диссертация на звание магистра (СПБ, 1888; см. в кн.: Избр. труды рус. логиков 19 в., М., 1956, с. 265—344) и «Критика методов индуктивного доказательства» (СПБ, 1899; см. там же, с. 193—264).
В диссертации Р. примыкает частично к классификации выводов Карийского (выделяя два осн. типа выводов — выводы подлежащих и выводы сказуемых), однако даваемая им характеристика этих типов выводов и описание их отд. форм свидетельствуют о самостоятельном характере созданной им классификации. Выводы подлежащих характеризуются, согласно Р., тем, что признак подлежащего посылки переносится на подлежащее заключения на основе такого правила логич. вывода, к-рое раскрывает определ. отношение между подлежащим посылки и заключения. Этим отношением, согласно Р., может быть не только отношение тождества, но и др. отношения — отношение сходства и отношение условной зависимости. Вывод сказуемого состоит в приписывании нового признака подлежащему посылки на основе правила логич. вывода, устанавливающего определ. отношения между признаком, высказанным в посылке, и признаком, высказанным в заключении.Эти отношения еще более многообразны, чем в выводах подлежащих (отношение сосуществования, отношение последовательности, отношение причинной зависимости и др.). Традиц. логика совершенно упускала из виду специфику выводов, относящихся к этой группе, рассматривая их как обычную форму дедукции (в частности, как силлогизм).
Выводы подлежащих Р. делит в свою очередь на традукцию, индукцию и дедукцию (различающиеся между собой в зависимости от того, что является подлежащим посылки и заключения — соответственно: различные единичные предметы; или единичный предмет и класс, к-рому он принадлежит; или класс и отд. его элементы), а выводы сказуемых (в зависимости от отношения между сказуемым посылки и сказуемым заключения — соответственно: отношения сосуществования и сопоследования; отношения части и целого; отношения целого и части) — на продукцию, субдукцию и е д у к -ц и ю (последние три термина введены Р.). Хотя классификация Р. не отличается полнотой и не во всех своих частях достаточно убедительна, ее все же можно рассматривать как важный этап в развитии учения об умозаключении и его видах.
Вторая осн. работа Р. «Критика методов индуктивного доказательства» ценна богатым фактич. материалом. В ней Р. знакомит читателя с мнениями различных логиков и философов относительно науч. ценности методов исследования причинных связей и дает собственную критич. оценку значению и роли этих методов в познании, настаивая, в частности, на том, что ни один из этих методов «... не в состоянии доказать, что мы имеем дело с причиной в научном смысле этого слова; методы эти, если и ведут к доказательству причин, то лишь в смысле популярном, ненаучном, чем подрывают свое значение научных методов доказательства причинной связи явлений» (указ. соч., см. там же, с. 243).
Соч.: Общий характер англ. философии, «Журн. М-ва нар. просвещения», 1894, № 1.
Лит.. Кондаков Н. И., Выдающиеся произв. рус.
логич. науки XIX в., в сб.: Избр. труды рус. логиков 19 в.,
М., 1956; II о в а р н и н С, Логика отношений, П., 1917,
гл. 14 и 15; П о п ов П. С, Учение Л. В. Р. об умозаключениях
и их классификации, в сб.: Очерки по истории логики в Рос
сии, [М.], 1962. А. Ветров. Москва.
РУФ, Муциан (Mutianus Rufus), наст, имя — Конрад М у т (Conrad Muth) (15 окт. 1470 или 1471 — 30 марта 1526) — нем. гуманист, глава т. н. эрфуртского гуманистического кружка. Р. стремился объединить христианскую религию с античной философией. Он признавал единого бога, к-рый лишь принимал в истории народов разные названия: Юпитер, Гелиос, Аполлон, Моисей, Христос, Юнона и др. В представлении Р. бог лишен каких бы то ни было внешних атрибутов и воплощает высшую мораль мира. «Бог» и «идея Христа» проявляются, по мнению Р., в законе взаимной любви людей. Поэтому Р. считал, что истинная религия проявлялась уже задолго до христианской эры и первоисточником религии нельзя считать «Священное писание». Изучение классич. лит-ры убедило Р. в том, что к библейским «чудесам» нужно подходить критически.
В своем религ. свободомыслии Р. последовательнее Эразма Роттердамского и Рейхлина, поскольку он отвергал в религии необходимость каких бы то ни было внешних символов и знаков, доступных чувств, восприятию, и сводил религиозность только к внутр. совершенству. В мировоззрении Р. сильнее, чем у Эразма и Рейхлина, проявилась характерная черта нем. гуманизма (социальной базой к-рого являлись пестрые элементы гор. и рыцар. оппозиции), рассматривавшего религию как этич. содержание человеч. жизни, подчиненной идее внутр. совершенства и справедливости, а не внешней целесообразности, не идее внешнего порядка. Воззрения Р. известны лишь по его личной переписке — «Der Briefwechsel des Mutianus Rufus», опубл. в «Zeitschrift des Vereins fur hessische Geschichte und Landeskunde», neue Folge, Supplement 9, Kassel, 1885; «Der Briefwechsel des Conradus Mutianus», H. 1—2, Halle, 1890 (в серии: «Geschichtsquellen der Provinz Sachsen», Bd 18).
РЫЛЕЕВ — РЭНДЕЛЛ
545
 Лит.: С м и р и и М. М., Немецкий гуманизм, «Историк-марксист», 1941, № 3; е г о ж е, Германия в первые десятилетия XVI в. и Ульрих фон Гуттен, в кн.: Ульрих фон Гуттен. Диалоги. Публицистика. Письма, М., 1959; Winter G., Em Hauptfiihrer des deutschen Humanismus, «Nord und Slid», 1888, Bd 47; HalbauerP., Mutianus Rufus und seine geis-tesgeschichtliche Stellung, Lpz.—В., 1929; Steinmetz M., Deutschland von 1476 bis 1648, В., 1965.
Лит.: С м и р и и М. М., Немецкий гуманизм, «Историк-марксист», 1941, № 3; е г о ж е, Германия в первые десятилетия XVI в. и Ульрих фон Гуттен, в кн.: Ульрих фон Гуттен. Диалоги. Публицистика. Письма, М., 1959; Winter G., Em Hauptfiihrer des deutschen Humanismus, «Nord und Slid», 1888, Bd 47; HalbauerP., Mutianus Rufus und seine geis-tesgeschichtliche Stellung, Lpz.—В., 1929; Steinmetz M., Deutschland von 1476 bis 1648, В., 1965.
M . Бур. ГДР, М. Смирим. Москва.
|
|
РЫЛЕЕВ, Кондратам Федорович [18 (29) сент. 1795—13 (25) июля 1826]—рус. поэт, публицист, один из вождей Сев. об-ва декабристов. Окончил первый Петербургский кадетский корпус (1814), с 1824 — правитель канцелярии Россий-ско-амер. торг. компании. В своих социально-политич. взглядах эволюционировал от либерально-монархич.взглядов к бурж.-демократич. республиканизму. Был казнен как один из руководителей восстания.
Мировоззрение Р., формировавшееся гл. обр. под влиянием идеологии рус. и зап.-европ. Просвещения, , носило яркий антиклерикальный характер (см. «Причина падения власти пап», в кн.: Полн. собр. соч., 1934, с. 368—70). В агитац. песнях (написаны совм. с А. Бестужевым), адресованных гл. обр. солдатам, Р. обличал рус. духовенство как соучастника «бар» в угнетении народа (см. там же, с. 270, 678—79, 272). Как видно из полемики Р. с Е. Оболенским (см. в кн.: «Обществ, движения в России в первой половине XIX в.», т. 1, СПБ, 1905, с. 245), Р. враждебно относился к попыткам создать некую реформированную религию, основанную на идеализме Шеллинга.
Р. стремился к теоретич. осмыслению законов обществ, жизни; в его сознании складывалась своеобразная концепция философии истории (см. «Дух времени, или Судьба рода человеческого», «О промысле», а также «Восстание декабристов», т. 1—2, М.—Л., 1925—26). Согласно этой концепции, история человечества есть прогресс, «...усовершенствование рода человеческого...» (см. «Восстание декабристов», т. 2, 1926, с. 251; ср. Полн. собр. соч., с. 417), пружиной к-рого является «промысел». Понятие «промысел» у Р. лишено мистич. содержания и отражает поиск им термина для выражения идеи объективной историч. закономерности. «Промысел» действует не непосредственно, а во взаимодействии с сознат. деятельностью людей, а потому историч. закономерность осуществляется через активную борьбу людей за реализацию идеалов обществ, устройства. Этапами истории человечества являются состояния христианства, «деспотизма» (господствовавшего до нач. 19 в., когда повсеместной становится «борьба народов с царями»), подлинной свободы. Утверждая, что от этапа к этапу человечество двигалось силою разума, просвещения, нравственности (см. Полн. собр. соч., с. 412, 416—17), Р., однако, не становился на волюнтаристяч. т. зр.: произвольные «деяния» отд. человека «худы или хороши только в отношении к нему... на судьбу же всего человечества они не имеют никакого влияния» (там же, с. 418). Такое влияние оказывают лишь те поступки, к-рые «...не противоречили воле промысла» (там же). Обнаруживается же эта последняя «в духе времени» — совокупности идей, к-рые на данном этапе и в данной стране «промысел» имел в виду осуществить. Эта социологическая концепция Р. служила теоретическому обоснованию революционной программы декабризма.
Р. был виднейшим представителем декабристской поэзии и эстетики; его творчество характеризуют пафос гражд. служения, идея народности искусства, свободолюбивое, патриотич. осмысление истории России. Критикуя романтизм, в т. ч. и его рус. представителя — Жуковского (см. Избранное, 1946, с. 146), Р. считал неправомерным само деление на романтизм и классицизм, стремился рассмотреть историю словесности как поступат. развитие «истинной поэзии», к-рая всегда зависела от обстоятельств места и времени, жизни народа, но «в существе своем всегда была одна и та же» (Полн. собр. соч., с. 310), проводила «...идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близко к человеку и всегда не довольно ему известных» (там же, с. 313).
В своих высказываниях по вопросам этики Р. выступал против индивидуализма, за гражд. мораль, связанную с идеей «общего блага», борьбы за справедливое общество.
Соч.: Стихотворения, вступ. ст., ред. и примеч. Н. И. Мор-довченко, [М., 1947]; Поэзия декабристов, вступ. ст. Б.Мейла-ха, Л., 1950; Из неизданного лит. наследия К. Ф. Р., в кн.: Лит. наследство, т. 59, М., 1954.
Лит.: П и г а р е в К., Жизнь Р., М., 1947; Б а з а н о в В. Г., Поэты-декабристы. К. Ф. Рылеев. В. К. Кюхельбекер. А. И. Одоевский, М.—Л., 1950; Т о й б и н И. М., О прозаич. набросках Р. философско-историч. содержания, «Уч. зап. Курского пед. ин-та», 1954, вып. 3; Цейтлин А. Г., Творчество Р., М., 1955. См. также лит. при ст. Декабристы.
3. Каменский. Москва.
РЭДУЛЁСКУ-МОТРУ (Radulescu-Motru), Константин (2 февр. 1868—6 февр. 1957) — рум. философ-идеалист.Чл. Рум. академии (с 1923); руководил рядом фи-лос. изданий, был основателем Рум. филос. об-ва и Рум. об-ва психологич. исследований. В психологии — сторонник экспериментального направления, в ряде вопросов разделял учение И. П. Павлова. Однако в работе «Энергетич. персонализм» («Personalismul energetic», Buc, 1927) утверждал, что личность как «духовная реальность» есть результат эволюции нематериальной космич. энергии.
Соч.: Puterea sufleteasca, Buc, 1908; Elemente de meta-fizica, Buc.,1912; Curs de psihologie, 2 ed., Buc, 1930; Vocafia, Buc, 1932; Romlnismul, Buc, 1936; Timp si destin, Buc, 1940.
JJu - m .: История философии, т. 5, M., 1961, с. 437—38.
РЭНДЕЛЛ (Randall), Джон (р. 1899) — амер. философ и социолог, проф. Колумбийского ун-та. Филос. концепция Р. эклектична; сам он признает, что опирается па то «общее»,что было«...между теориямиАрис-тотеля, Гегеля, Маркса и Дьюи» («Nature and historical experience», N. Y., 1958, p. 31). Однако ближе всего он стоит к прагматизму, открыто объявляя себя сторонником этого учения. В гносеологии Р. примыкает к инструментализму. Р. выступает с критикой диалек-тико-материалистич. теории отражения; марксизм же он истолковывает в духе прагматизма. Отстаивая теорию факторов (см. Факторов теория), он выдвигает концепцию об относительности принципов отбора историч. фактов. Историч. процесс, по Р., не имеет закономерности, в нем непрерывно появляются новые «факторы» и действует неподдающееся учету «непостоянное ускорение». Плюрализм в истолковании истории сочетается у Р. с пиететом по отношению к теологии. Р.— сторонник экономич. децентрализации, «экономического федерализма» в развитии США, к-рое, по ого мнению, обеспечивает сохранение свободы; в политике занимает относительно либеральные позиции.
Соч.: The problem of group responsibility to society, N. Y.,
1922; The making of the modern mind, Boston—N. Y., [19261;
Our changing civilization, N. Y., 1929; Historical naturalism,
в кн.: American philosophy today and tomorrow, N. Y., 1935;
Philosophy. An introduction, N. Y., [1942] (совм. с. J. Buch-
ler); Nature and historical experience, N. Y., 1958; The career
of philosophy. From the middle ages to the enlightenment,
N. Y.— L., 1962. А. Титаренко. Москва.
с
 СААВЁДРА ФАХАРДО (Saavedra Fajardo), Диего (6 мая 1584—24 авг. 1648) — исп. философ-гуманист, историк, публицист и дипломат. Изучал право и теологию в Саламанкском ун-те (окончил в 1606). Д-р прав. Длит, время жил в Италии. Гл. труд С. Ф.— этико-политич. трактат «Идея о христианском политическом принципе, изложенная в ста притчах» («Idea de im principe politico christiano representada en cien empresas», Mil., 1642; поел. изд. — v. 1—3, Md, 1927) — направлен против макиавеллизма (см. Макиавелли); автор рисует в нем свой идеал основанных на принципах первонач. христианства отношений между людьми и гос-вами.
СААВЁДРА ФАХАРДО (Saavedra Fajardo), Диего (6 мая 1584—24 авг. 1648) — исп. философ-гуманист, историк, публицист и дипломат. Изучал право и теологию в Саламанкском ун-те (окончил в 1606). Д-р прав. Длит, время жил в Италии. Гл. труд С. Ф.— этико-политич. трактат «Идея о христианском политическом принципе, изложенная в ста притчах» («Idea de im principe politico christiano representada en cien empresas», Mil., 1642; поел. изд. — v. 1—3, Md, 1927) — направлен против макиавеллизма (см. Макиавелли); автор рисует в нем свой идеал основанных на принципах первонач. христианства отношений между людьми и гос-вами.
Соч.: Obras, v. 1—3, Md, 1789—90; Obras, Bibl. de Ant. Esp., v. 25, Md, 1853; Cartas (1-643—1648). Colb. de docum. ine-ditos para la Hist, de Esp., v. 82, Md, 1884, p. 3—62, 501—57; Saavedra Fajardo. Sus pensamientos, sus poesfas, sus opusculos, precedidos de ..., por el С de Roche у D. J. P. Tejera, Md, 1884; Corona gotica, Barcelona, 1887; Locuras de Europa, Md. 1918; Repdblica literaria, Md, 1922.
Лит .: Benito L. E., Juicio critico de las Empresas
politicas de Saavedra Fajardo, Zaragoza, 1904; Cortines у
Murube F., Ideas juridicas de Saavedra Fajardo, Sevilla,
1907; Argorin, De Canada a Castelar, Md, 1922, p. 79—
136. В. Афанасьев. Ленинград.
САВЙР, Мирза Алекпер Таирзаде (1862—1911) — азерб. поэт, публицист и просветитель. Род. в г. Шемахе. "Ученик и духовный преемник Ширвани, оказавшего сильное влияние на формирование революц. демократизма С. В ранний период творчества поэзия С. имела интимно-лирич. характер, а его обществ, деятельность — просветительский оттенок. Однако под влиянием революции 1905—07 он начал создавать сатирич. произведения, направленные против бурж.-помещичьего строя. С. — активный участник революц.-демократия, сатирич. журн. «Молла Насреддин». С. выступал как поэт-рсволюциопер, призывая к борьбе с эксплуататорским строем, с иранско-тур. деспотизмом, разоблачал реакц. сущность пропаганды пантюркизма и панисламизма. Творчество С. нашло широкий отклик не только в Азербайджане, но и на всем Ближнем Востоке. Его произведения переведены на рус, арм., перс, и др. языки. Сборник соч. С. вышел в Баку через год после смерти поэта под названием «Хоп-хоп наме».
С о ч.: БУтУн эсэрлэри, Бакы, 1934; Сечилмиш шеирлэр, Бакы, 1946; НопЬопвамэ, Бакы, 1954 (Э. Мир Эпмэдовун мУгоддэмэсилэ).
САБО (Szabo), Эрвин (1887 — 1918) — венг. философ-марксист, деятель венг. рабочего движения. Наибольшее внимание С. уделял проблемам история, материализма, допускал при этом ошибки, трактуя роль личности в духе Лаврова. В 1905 С. отошел от активного участия в рабочем движении, а в области теории стал на позиции анархо-синдикализма. В период 1-й мировой войны вновь вернулся к политич. деятельности, к-рая имела антимилитаристскую направленность.
Мн. ученики С. стали активными деятелями Комму-нистич. партии Венгрии. В 1918 С. был избран почетным членом московской Социалистич. академии. Соч.: Valogatott irasai, [Bdpst], 1958.
Лит.: История философии, т. 5, М., 1961, с. 461—63; Revai J., Szabo Ervin szerepe a munkasmozgalomban, Eloadas 1919 Junius 17-en; его же, Szabo Ervin helye a magyar munkasmozgalomban, в сб.: Marxismus, nepiesseg, magyarsag, Szikra, 1955; В raun R., Szabo Ervin es a FG-varosi Konyvtar, Bdpst, 1945; К aim an J., Szabo Ervin a szocializmus nagy tanitoja, Bdpst, [1946].
САБУРОВ, Николай Иванович (1803— г. смерти неизв.)— рус. крепостной вольнодумец, служитель Сысертского завода на Урале. В 1825 подвергся преследованию за признание естеств. равенства людей и «дерзкие» высказывания о царях. Поселянину, считал С, следует рассматривать историю со своей собств. т. зр. Главное — в уяснении «важности и пользы» трудового народа, в раскрытии того, что его мастерство было «...первым основанием общества; что его труды есть первый источник силы и богатства...» (см. Гос. архив Свердл. обл., ф. 12, оп. 1, д. 801, л. 51 об.).
Лит.: Горловский М. А., Пятницкий А. Н., Из истории рабочего движения на Урале, [Свердл.], 1954.
Л. Коган. Москва.
САВИНЬЙ (Savigny), Фридрих Карл, фон (21 февр. 1779—25 окт. 1861) — нем. юрист, глава реакц. исто-рич. школы права, считавшей, что право является выявлением «духа народа», почему оно и не может быть реформировано с помощью законодательства.
САВОНАРОЛА (Savonarola), Джироламо (21 сент. 1452—23 мая 1498) — итал. проповедник и религ.-политич. реформатор. С 1491—приор флорентийского монастыря Сан-Марко. Обличая в своих проповедях продажность и развращенность духовенства и папского двора, С. требовал от верующих и клира искренности и простоты; в монастыре восстановил обет нищеты. Проповеди С. послужили толчком к свержению тирании Медичи во Флоренции в 1494; по предложению С. были проведены нек-рые демократич. реформы, а также реформа нравов: у частных лиц конфисковывались предметы роскоши, книги и произв. иск-ва вольного содержания и публично сжигались на кострах. Отлученный от церкви в 1497, С. был арестован папскими агентами и после трех инквизиц. процессов казнен.
Осн. лит. наследство С. составляют: ряд богословских трактатов, опубл. при жизни политич. трактат «Об управлении Флоренцией» («Tractato circa el reg-gimento e governo della citta di Firenze», Florence, [1498]; nuova ed., Torino, 1954) и четыре филос. трактата, опубл. после смерти С. как единое соч.— «Краткое изложение философии, морали, логики, разделение и достоинства всех наук» («Compendium totius philosophie ... nunc primum in lucem editum», Venetius, 1534). Придерживаясь в целом аристоте-лизма в интерпретации Фомы Аквинского, в учении
САЙМОН — САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
547
 о морали, С. приближался в то же время к идеям неоплатоников; был в тесном контакте с нек-рыми членами платоновской Академии во Флоренции (влияние Фи-чино и Пико делла Мирандолы на С. заметно, в частности, в его учении о свободе воли). Для понимания мировоззрения С. очень важен его предсмертный трактат — написанные в тюрьме накануне казни «Размышления о XXX псалме» («Expositione ... sopra il psal-mo. In te domine speraui», Modena, [1498]), где в полемике с эпикурейской философией сопоставляются доводы верующего и аргументы атеиста, высказывающего сомнения в бессмертии души.
о морали, С. приближался в то же время к идеям неоплатоников; был в тесном контакте с нек-рыми членами платоновской Академии во Флоренции (влияние Фи-чино и Пико делла Мирандолы на С. заметно, в частности, в его учении о свободе воли). Для понимания мировоззрения С. очень важен его предсмертный трактат — написанные в тюрьме накануне казни «Размышления о XXX псалме» («Expositione ... sopra il psal-mo. In te domine speraui», Modena, [1498]), где в полемике с эпикурейской философией сопоставляются доводы верующего и аргументы атеиста, высказывающего сомнения в бессмертии души.
Соч.: Prediche italiane ai Fiorentini, v. 1—4, Perugia — Venezia, 1930—35; П trionto della croce, Mil., 1939; Le let-tere, Firenze, 1933; Prediche sopra l'Esodo, v. 1—2, Roma, 1955—56.
Лит .: О с о к и н Н. X., С. и Флоренция, [Каз., 1865]; В и л л а р и П., Д. С. и его время, пер. с итал., т. 1—2, [СПБ], 1913; Ridolfi R.,Vita di G. Savonarola, v. 1—2, Roma, 1952; Klein R., Leprocesde Savonarole, [P.,1957];Mounin G., Savonarole, [P.], 1960; Gari n E., GirolamoSavonarola: Ricerche sugli scritti filosofiei di Girolamo Savonarola, в его кн.: La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Firenze, 1961, p. 183—212; Klein R., La derniere meditation de Savonarole, Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, t. 23, Geneve, 1961, p. 441—48; Goukowslti M., Rgponse a. M. Robert Klein, там же, t. 25, Geneve, 1963, p. 222—26; F erra r a M., Biblio-graphia savonaroliana..., Firenze, 1958. Л. Брагина. Москва.
САИМОН (Simon), Герберт Александр (р. 15 июня 1916) — амер. бурж. социолог, представитель по-литич. науки. Председатель отдела политич. и социальных наук в Иллинойсском технологич. ин-те, в последние годы — один из руководителей и проф. Высшей школы по подготовке руководящих кадров для амер. пром-сти в Технологич. ин-те Карнеги. Специалист в области организации управления, один из пионеров социального моделирования.
Работы С. представляют методологич. интерес с т. зр. использования количеств, методов в социологии, моделирования поведения людей и обществ, систем, планирования деятельности учреждений и корпораций. Согласно С, математика — это язык совр. науки, и не существует принципиальных препятствий для математич. анализа любых науч. проблем. По его мнению, применение математики в науке вызвано возрастающей сложностью науч. проблем и стремлением к точности. Дальнейшие перспективы развития обществ, наук С. прямо связывает с их формализацией и разработкой спец. математич. аппарата.
Соч.: Administrative behavior, N. Y., 1947; Publicadmi-
nistration, N. У., 1950; Models of man: socialandrational, N. Y.,
1957; Organizations, N. Y., 4958 (соавтор); New science of
management decision, N. Y., 1960; Report on a general problem-
solving program, в кн.: Proc. of the Internat. Conference on
information processing. Paris. June 15—20, 1959, Butterworth,
1960 (совм. с A. Newell and J. С Shaw); The control of the mind
by reality. Human cognition and problem solving, в кн.: Man
and civilization: control of the mind, N. Y., 1961; Simulation of
human thinking, в кн.: Management and the computer of the
iuture, N. Y. — L., 1962. 9. Араб-Оглы. Москва.
САКЫЗОВ (Сакъзов), Янко (1860—1941) — деятель болг. социалистич. движения, родоначальник и теоретик оппортунизма в Болгарии. Учился сначала в России, затем в Англии, Франции и Германии. В конце 80-х гг. С. стал участником возникшего тогда в Болгарии социалистич. движения. Под влиянием бери-штейнианства С, отступив от теоретич. и практич. принципов марксизма, стал вождемправой фракции оп-п-ортунистич. «широко-социалистич.» партии, стал приверженцем 2 1/2-го Интернационала, выступал против политики БКП и сов. пути развития Болгарии.
С АЛИЕВ, Азиз Абдыкасымович (р. 10 ноября 1925)— сов. философ, чл.-корр. АН Кирг. ССР (с 1954). Член КПСС с 1948. Работает над проблемами эстетики, историч. материализма, а также в области искусствоведения и лит. критики. Переводчик филос. произведений Энгельса и Ленина на кирг. язык.
Соч.: Жизнь — в стихах (Заметки об эстетич. природе поэзии), Фрунзе, 1962; Художеств, творчество и некоторые вопросы теории, «Изв. АН Кирг. ССР», 1963, т. 5, вып. 2.
САЛЛЮСТИИ (ScdXoocmog) (4 в.) (не нужно смешивать с историком 1 в. до н. э. Саллюстием) —■ представитель пергамской школы неоплатонизма. Известен единств, трактатом «О богах и о мире» («De diis et mundo», опубл. в изд. «Fragmenta philosophorum Graecorum», ed. F. W. A. Mullach, v. 3, P., 1881, p. 30—50). Никаких биографич. сведений о С. не сохранилось. Трактат С. дает в краткой форме спсте-матич. изложение всей системы неоплатонизма, в т. ч. конкретное разделение и видов мифологич. исследования, и самих богов. В 3-й гл. этого трактата говорится о необходимости разыскания в мифах их внутр. смысла. В 6-й гл. С. дал разделение богов на домпро-вых и мировых. Домировые —те, которые создают сущности, ум и души (это разделение воспроизводит доми-ровую триаду Ямвлиха — ср. Jamblichi de mysteriis liber, II, 7), мировые боги создают мир (Зевс, Посейдон, Гефест), одушевляют его (Деметра, Гера, Артемида),, упорядочивают (Аполлон, Афродита, Гермес) и охраняют (Гестия, Афина, Арес). Др. боги принадлежат этим 12 основным. Остальные главы посвящены различным вопросам — о космосе (гл. 7), о душе (гл. 8), о судьбе (гл. 9), об этике (гл. 10), о политич. формах (гл. 11) и т. д.
Лит .: Passamonti E., La dottrina dei miti di Sal-
Iustio filolsofo neoplatonico, «Rendiconti dell' Academia nazio-
nale dei Lincei. CI. di scienze morali, storiche e filologiche»,
1892, ser. 5, v. 1, p. 643—64; его ж е, Le dottrine morali
e religiosi di Sallustio filosofo neoplatonico, там же, р. 712—27;
С u m о n t F., Salluste le philosophe, «Rev. de philologic,
de litterature et l'histoire anciennes», nouv. serie, 1892, t. 16,
p. 49—56; Zeller E., Die Philosophie der. Griechen ..., 5
Aufl., Tl 3, Abt. 2, Lpz., 1923. А. Лосев. Москва.
|
|
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (псевд. — H. Щедрин), Михаил Евграфович [15(27) янв. 1826—28 апр. (10 мая) 1889]— РУС- писатель-сатирик, революц. демократ. Род. в с. Спас-Угол Калязпнского у. Тверской губ. в помещичьей семье. Учился в Моск. дворянском ин-те (1836—38), затем в Царскосельском лицее (1838—44). Определяющую роль в идейном развитии молодого С.-Щ. сыграли статьи Белинского. В 1844—48 С.-Щ. служил в Петербурге в канцелярии Воен. мин-ва. В 1845—47 посещал «пятницы» Петрашевского, в 1847 сблизился с кружком В. Майкова и В. А. Милютина и познакомился с утопич. социализмом Сен-Симона, Фурье и др. Повести «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848), вскрывавшие острые социальные противоречия России, повлекли за собой арест С.-Щ. (апр. 1848) и ссылку его в Вятку. «Губернские очерки» (1856) знаменовали начало деятельности С.-Щ. как сатирика. Попытки С.-Щ. защищать нар. интересы на адм. постах (в 1858—61 он был вице-губернатором сначала в Рязани, затем в Твери) не имели успеха. В 1862 С.-Щ. оставляет службу, работает в редакции «Современника». В 1864 возвращается на гос. службу (в мин-во финансов). В 1866 уходит в отставку, вступает в редакцию «Отечественных записок», где (с 1878-до закрытия журнала в 1884) был ответств. редактором.
Идейно-творч. развитие С.-Щ. было противоречивым. Уже в 40-х гг. С.-Щ. был противником существующего строя, демократом, сторонником социализма. Но его демократизм не был свободен от реформистских иллюзий. Предпочитая легальные формы борьбы, С.-Щ. выступал за консолидацию людей «различных оттенков партии прогресса». К концу 60-х гг. он ставит1
548 САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН — САМАРИН
 в центр своей деятельности борьбу за пробуждение ре-волюц. сознания масс и передовой интеллигенции. Преследуя эту цель, сатира С.-Щ. обнажала «хищничество» как подоплеку действий крепостников-помещиков и нарождавшейся буржуазии. Ленин отмечал, что С.-Щ. «...беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеймил их формулой „применительно к подлости"» (Соч., т. 18, с. 287). С.-Щ. также «классически высмеял» бурж. Францию 70-х гг. как «.. .республику без республиканцев» (см. там же, т. 11, с. 384). Однако С.-Щ. не понял сущности рабочего движения и значения Парижской Коммуны 1871.
в центр своей деятельности борьбу за пробуждение ре-волюц. сознания масс и передовой интеллигенции. Преследуя эту цель, сатира С.-Щ. обнажала «хищничество» как подоплеку действий крепостников-помещиков и нарождавшейся буржуазии. Ленин отмечал, что С.-Щ. «...беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеймил их формулой „применительно к подлости"» (Соч., т. 18, с. 287). С.-Щ. также «классически высмеял» бурж. Францию 70-х гг. как «.. .республику без республиканцев» (см. там же, т. 11, с. 384). Однако С.-Щ. не понял сущности рабочего движения и значения Парижской Коммуны 1871.
Ленин относил С.-Щ. к «...писателям „старой" народнической демократии» (там же, т. 35, с. 32). Солидаризируясь с народниками 70-х гг. в демократам, критике самодержавия, пережитков крепостничества, бурж. либерализма, в ряде вопросов С.-Щ. расходился с народничеством: считал, что Россия вступила на путь капитализма, не верил в общину как «оплот» некаппталистич. пути развития страны.
В центре теоретич. устремлений С.-Щ. была борьба за «сознат. отношение» к природе и обществ, жизни, под к-рым С.-Щ. понимал признание естеств. законов в природе и обществе, стремление познать эти законы и использовать их в интересах человека (см. Поли. собр. соч., т. 8, 1937, с. 146). Защита свободного от религ. опеки науч. исследования ярко выразилась в ст. «Уличная философия» (1869), в к-рой С.-Щ. выступил против осуждения материалистич. идей «молодого поколения». Идеалистич. взгляду на человека С.-Щ. противопоставлял «антропологический принцип» (см. там же, с. 143). С.-Щ. отвергал агностицизм, считая его одной из форм подчинения человека «таинств, силам», и отстаивал возможность познания мира, подчеркивая неисчерпаемость природы как объекта познания.
Закономерность изменения политич. и обществ, форм С.-Щ. трактовал идеалистически, считая «внутренним содержанием», определяющим то или иное устройство общества и смену его форм, «открытия и изобретения человеческого ума». С этим убеждением связаны взгляды С.-Щ. на обществ, идеал. Будучи сторонником социализма, С.-Щ. считал возможным представить идеальный обществ, строй лишь самым общим образом как строй, отвечающий потребностям «человеческой природы», обеспечивающий всеобщее материальное довольство, гармонич. сочетание личных и обществ, интересов, разумное направление че-ловеч. страстей, делающих труд «привлекательным». Путь человечества к достижению истины, обществ, идеала, по С.-Щ., сложен и противоречив: представления, составляющие «временную истину», «идеал минуты», абсолютизируются, превращаются в «призраки», препятствующие свободному развитию человеч. сознания («Совр. призраки», 1864). Хотя такой взгляд страдал просветит, преувеличением роли сознания в истории, он служил С.-Щ. основанием для решит, борьбы против «совр. призраков» — религ.-идеалистич. мировоззрения, права и морали эксплуататорских классов («Благонамеренные речи», «Круглый год», «Господа Головлевы»).
Демократам, вера в массы, убеждение в том, что нар. жизнь «заключает в себе единственный базис, помимо которого никакая человеческая деятельность немыслима» (там же, т. 5, 1937, с. 323), сочетались у С.-Щ. с трезвым пониманием слабости совр. нар. движения, с борьбой против идей славянофильства (см. Славянофилы) и почвенничества, возвеличивавших нар. «терпение» и «смирение». Проводя различие между народом как «воплотителем идеи демократизма» и «историческим народом», т. е. народом на данной стадии развития (см. там же, т. 8, с. 449), С.-Щ. считал оси. слабостью совр. ему народа то, что он не
только беден, но и «беден сознанием этой бедности» (см. там же, т. 7, 1935, с. 255). Говоря о неразвитости обществ, самосознания народа («История одного города»), стремясь к уничтожению его «бессознательности», С.-Щ. не разделял народнич. веры в крестьянство как носителя социалистам, идеалов. Не смог он связать достижение этих идеалов и с растущим рус. рабочим классом. Отсюда — ноты скептицизма и пессимизма.
В эстетике С.-Щ. защищал взгляд на иск-во как особую форму познания действительности, критиковал теорию «иск-ва для иск-ва», отстаивал обществ.-воспитат. назначение иск-ва, утверждал, что лит-ра должна быть «воспитательницею и руководительницею общества в его исканиях идеалов будущего» (там же, с. 457). «Подготовлению почвы будущего», считал С.-Щ., лит-ра может служить двояким образом: либо «провожая в царство теней все отживающее», либо «приветствуя новое». Продолжая борьбу своих революцион-но-демократич. предшественников за реализм, С.-Щ. обогатил ее критикой натурализма, получившего в 70—80-х гг. распространение в рус. и зарубежной лит-ре. Важнейшая задача реализма, по С.-Щ.,— создание типов и разъяснение через них «положения», т. е. обществ, порядка, порождением к-рого являются данные типы; не отступать от принципа художеств, обобщения, раскрытия внутр. смысла фактов. С.-Щ. выдвинул глубокое и оригинальное понимание предмета сатирич. обличения — «порока» и «порочных» явлений жизни: «порок» не есть нечто раз навсегда определенное; поэтому сатира призвана разгадать порок, разъяснить его; она имеет право на преувеличение; истинная сатира предполагает наличие у автора ясного положит, идеала, отвечающего интересам народа. Сатира самого С.-Щ. характеризуется многообразием художеств, приемов, использованием публицистам, элементов, фантастики, переосмыслением лит. типов.
С оч.: Поли. собр. соч., т. 1 — 20, М,—Л., 1933 — 41; Собр. соч. б 20 тт., т. 1—3, М.—Л., 1965; О лит-ре и иск-ве, М., 1953; Неизд. и несобр. письма С.-Щ., в кн.: Лит. наследство, т. 67, М., 1959.
Лит.: Маркс К., Замечания и пометки на книге М.В.С.-Щ.
«Убежище Монрепо», «Дружба народов», 1958, Ni 5; Э н-
гельс Ф., [Письмо] Н. Ф. Даниельсону от 19 февр. 1887,
в кн.: Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с рус. политич.
деятелями, 2 изд., М.. 1951, с. 130—31; Л е н и н В. И., Соч.,
4 изд., т. 1,3,5,11,12,15,17, 18, 20, 24, 33, 35 (см. имен,
указат.); Луначарский А. В., Статьи о лит-ре, М.,
1957, с. 259—67; Чернышевский Н. Г., Поли. собр.
соч., т. 3, М., 1947, с. 700 — 704, т. 4, М., 1948, с. 263—302;
Добролюбов Н. А., Собр. соч. в 9 тт., т. 2, М.—Л.,
1962, с. 119 — 46; Макашин С. А., С.-Щ., Биография,
т. 1, М., 1949; Э л ь с б е р г Я. Е., С.-Щ., Жизнь и творче
ство, М., 1953; Горячки наМ.,Лаврецкий А., С.-Щ.,
в кн.: История рус. лит-ры, т. 9, ч. 1, М.—Л., 1956, с. 161 — 27 4;
Борщевский С. С, Щедрин и Достоевский, М., 1956;
Обществ.-политич. и филос. взгляды Н. А. Некрасова и
М. Е. С.-Щ., в кн.: Очерки по истории филос. и обществ.-
политич. мысли народов СССР, т. 2, М., 1956, с. 334—52;
Кирпотин В. Я., Филос. и эстетич. взгляды С.-Щ.,
М., 1957; М. Е. С.-Щ. в воспоминаниях современников, М.,
1957; Горячкина М. С, С.-Щ.— критик, в кн.: История
рус. критики, т. 2, М.—Л., 1958, с. 146 — 81; М. Е. С.-Щ. в
рус. критике, М., 1959; Бушмин А. С, Сатира С.-Щ.,
Л., 1959; Покусаев Е. И., Революц. сатира С.-Щ.,
М., 1963. 3. Смирнова. Москва.
САМАРИН, Юрий Федорович (21 апр. 1819—19 марта 1876) — рус. философ-идеалист, обществ, деятель, историк и публицист славянофильского направления (см. Славянофилы). Из родовитых дворян. Окончил словесное отд. филос. фак-та Моск. ун-та (1838). В 1838—39 сблизился с К. Аксаковым, а через него с сотрудниками жури. «Моск. наблюдатель». В это время С. увлекался философией Гегеля.
Под влиянием лекций Погодина и Шевырева, а также взглядов К. Аксакова у С. пробудился интерес к рус. истории и культуре. В письме (авг.—сент. 1840) к франц. политич. деятелю Могену (Maugin) С. развивал мысли «о трех периодах (исключительной
САМАРИН — САМНЕР 549
 национальности, подражания и разумной народности) и о двух началах нашей народности, православии и самодержавии» (Соч., т. 12, М., 1911, с. 19, 60—69, см. также 447—57). В 1841—42 С. деятельно участвовал в обсуждении славянофилами вопроса о развитии христианства и христианских церквей (см. там же, с. 82-— 95, 458—71). В 1843 С. написал большую (не опубл.) статью «О развитии начала личности в христианском мире по случаю книги Л. Штейна „Der So-cialismus und Communismus des heutigen Frankreichs"», свидетельствующую о присутствии в славянофильстве 40-х гг. элементов христианского социализма. В 1844 С. защитил в Моск. ун-те магистерскую дисс. «Стефан Яворский и Феофан Прокопович», посвященную религ. и культурно-историч. проблемам конца 17 — нач. 18 вв. Конец 30-х — 1-я пол. 40-х гг.— время эволюции С. от Гегеля к философии Хомякова и Киреевского — гл. представителей славянофильства.
национальности, подражания и разумной народности) и о двух началах нашей народности, православии и самодержавии» (Соч., т. 12, М., 1911, с. 19, 60—69, см. также 447—57). В 1841—42 С. деятельно участвовал в обсуждении славянофилами вопроса о развитии христианства и христианских церквей (см. там же, с. 82-— 95, 458—71). В 1843 С. написал большую (не опубл.) статью «О развитии начала личности в христианском мире по случаю книги Л. Штейна „Der So-cialismus und Communismus des heutigen Frankreichs"», свидетельствующую о присутствии в славянофильстве 40-х гг. элементов христианского социализма. В 1844 С. защитил в Моск. ун-те магистерскую дисс. «Стефан Яворский и Феофан Прокопович», посвященную религ. и культурно-историч. проблемам конца 17 — нач. 18 вв. Конец 30-х — 1-я пол. 40-х гг.— время эволюции С. от Гегеля к философии Хомякова и Киреевского — гл. представителей славянофильства.
Впоследствии С. много занимался крест, вопросом; составил в сер. 50-х гг. один из самых влият. проектов отмены крепостного права, участвовал в подготовке и проведении крест, реформы в России (1861), много писал о социалыю-экономич. и нац. проблемах в Прибалтике, работал в земских учреждениях.
Из филос. работ С. важны «Предисловие к отрывку из записок А. С. Хомякова о всемирной истории» («Рус. беседа», 1860, № 2); «По поводу мнения „Рус. вестника" о занятиях философией, о народных началах и об отношении их к цивилизации» («День», 1863, № 36); «Иезуиты и их отношение к России» (М., 1866); «Разбор соч. К. Д. Кавелина „Задачи психологии"» («Вест. Европы», 1875, № 5—7). Особенно отчетливое выражение филос. и обществ.-политич. воззрения С. 60-х гг. получили в полемике С. с Герценом, с к-рым он встречался в Лондоне в 1864 (см. А. И. Герцен, Письма к противнику, Собр. соч., т. 18, М., 1959; Переписка Ю. Ф. С. с А. И. Герценом, «Русь», 1883, № 1,2).
С.— воинствующий идеалист, филос. взгляды к-рого неотделимы от религ. представлений славянофилов о православии как истинном христианстве. В полемике с Кавелиным в 1875 сам С. указывал, что все положительное в его воззрениях «сводится окончательно к Христианскому Катехизису» (там же, т. 6, М., 1887, с. 444). Опыт, ум и науку как источники познания С, следуя за Хомяковым, противопоставлял целостному духу. «Полная и высшая истина,— писал он,— дается не одной способности логического умозаключения, но уму, чувству и воле вместе, то есть духу в его живой цельности» (там же, с. 561). На сознании личной свободы, на живом ощущении «Я» и «не-Я», т. е. мира внутреннего и мира внешнего покоится, по С, нравств. мир человека. Филос. материализм 19 в. С. трактовал как учение, находящееся в зависимости от системы Гегеля. По мнению С., «.. .возрождение материализма во второй половине XIX века...» объясняется тем, что «...по общему закону логического возмездия, материализм...» заступился за обиженный Гегелем «мир явлений» «...и, не выходя из круга понятий Гегелевской философии, нашел оправдание самосущности материи в том же законе необходимости, только не логической, а вещественной». «Сам же по себе, как учение, материализм вовсе не вытекает из естественных наук. Физиология, химия, физика говорят нам, каждая в своей области: вот, что мы высмотрели, взвесили, ощупали, измерили и разложили. А материализм прибавляет: и, кроме этого, ничего нет; все остальное... не существует вовсе. Очевидно, что естественные науки отнюдь не причастны в этом выводе» (там же, т. 1, М., 1877, с. 273, 272).
Однако, идейно борясь с материалистич. взглядами, С. отвергал направленные против материализма на-сильств. меры, к-рые предлагали реакц. представители
царских властей и православной церкви (см. «Письма о материализме», там же, т. 6, с. 540—54).
С о ч.: Соч., т. 1 —10, 12, М., 1877 — 1911.
Лит.: Кавелин К. Д., Ю. Ф. С. Некролог, «Вестн. Европы», 1876, апр.; Панов И., Славянофильство как филос. учение, «Журн. М-ва нар. просвещения», 1880, ч. 212, № 11; Колубовский Я. Н., Материалы для истории философии в России, «Вопр. философии и психологии», 1891, № 2; Колюпанов Н. П., Очерк филос. системы славянофилов, «Рус. обозрение», 1894, № 7—11; Введенский С. Н., Осн. черты филос. воззрений Ю. Ф. С, Каз., 1899; Р а д л о в Э., Очерк истории рус. философии, 2 изд., П., 1920; Нольде Б. Э., Ю. С. и его время, Р., [1926]; Дмитриев С, Славянофилы и славянофильство, «Историк-марксист», 1941, № 1. С. С. Дмитриев. Москва.
САМНЕР (Sumner), Уильям Грэм (30 окт. 1840— 12 апр. 1910) — амер. социолог, один из зачинателей амер. бурж. социологии. С 1872— проф. Иельского ун-та.
Последователь Спенсера, испытавший также влияние Гумпловича, Ратценхофера и Липперта, С. в осн. труде «Народные обычаи» («Folkways», Boston, 1907) пытался объяснить происхождение и обществ, функции обычаев и нравов, рассматривая их как первичный фактор, определяющий структуру и развитие общества. Осн. цель жизни, по С,— поддержание самой жизни. В процессе борьбы за существование люди путем проб и ошибок вырабатывают формы поведения, к-рые наилучшим способом служат достижению этой цели. Привычное для индивидуума становится, благодаря подражанию, обычаем всех членов группы, поставленных в сходные условия. Под «народными обычаями» («folkways»—словообразование С, вошедшее в англ. язык) С. понимает «всякий способ мышления, чувствования, поведения и достижения цели, общий для членов социальной группы». Обычаи, получившие санкцию религии или морали, становятся нравами. Обычаи и нравы, дополненные к.-л. аппаратом для их поддержания, образуют общественные институты.
С. вводит понятия внутр. группы или «мы-группы» и внешней группы. Чувство превосходства своих обычаев над чужими С. назвал этноцентризмом. Возникновение и изменение обычаев — бессознат. стихийный процесс. Обществ, процессы, по мнению С, не могут контролироваться людьми и поэтому идея о сознат. улучшении мира абсурдна. В конкретном анализе обычаев и нравов С. ограничивался пспхологнч. и социал-дарвинистской интерпретацией. Движущей силой формирования обычаев и нравов является конкуренция. Частная собственность соответствует естеств. условиям борьбы за существование. Общество — совокупность конкурирующих групп, социальная природа к-рых не раскрывается С. Классовые противоречия, по С, неустранимы.
Типичный представитель амер. бурж. консерватизма конца 19 в., С. в публицистич. работах («Вызов фактам» — «The challenge of facts», New Haven, 1914; «Забытый человек» — «The forgotten man», New Haven, 1918, и др.), получивших в США широкую известность, выступал в духе т. н. грубого индивидуализма, против всякого вмешательства гос-ва в обществ, жизнь, попыток социальных реформ. С. обрушивался на социалистам, идеи (социализм —• «вызов фактам»), причисляя к ним эгалитарные учения. В то же время он отразил нек-рые черты мелкобурж. идеологии того времени, защищая «забытого человека» — мелкого собственника, исчезающего под напором капиталн-стич. поляризации, высказывался против милитаризма и империалистам, войн.
Значение С. в истории бурж. социологии определяется тем, что он на основе обширного историко-этнографич. материала положил начало социологнч. изучению норм социального поведения, внутригруп-повых и межгрупповых отношений; в становлении структурно-функционального анализа имела значение
550 САМОДВИЖЕНИЕ—САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА
 «го теория развития культуры путем массового процесса проб и ошибок.
«го теория развития культуры путем массового процесса проб и ошибок.
Соч.: The science of society, v. 1—4, New Haven, 1927 <совм. с A. G. Keller, использовавшим неизданные работы С); Essays of W. Gr. Summer, v. 1—2, New Haven—L., 1934.
Лит.: Кон И. С, Позитивизм в социологии, Л., 1964.
А. Завадье. Москва.
САМОДВИЖЕНИЕ — собственное, внутренне необходимое самопроизвольное изменение системы, к-рое определяется ее противоречиями, опосредствующими воздействие внешних факторов и условий.
Все диалектпч. системы антич. философии в той или др. форме придерживались идеи С: материалистич. системы — С. всего мира, идеалистические — С. сознания. Идея С. имплицитно содержалась и в филос. системах нового времени, разрабатывавших проблему субстанции [Спиноза, Лейбниц). В естествознании нового времени первым, не вполне еще адекватным выражением идеи С. явились закон сохранения количества механич. движения (Декарт) и законы инер-циального движения (Галилей, Ньютон). Существ, вклад в проблему С. материи внесли Дж. Толанд и франц. материалисты 18 в. Материализм нового времени, однако, не смог поставить и решить наиболее существ, проблемы С: вопрос о его источнике и о применении общей идеи. С. материи к анализу С. конкретных систем. Эти проблемы нашли идеалистич. истолкование в классич. нем. философии, в особенности у Гегеля.
Диалектико-материалистич. концепция С. исходит из того, что С. присуще не только материи в целом, но и всем ее конкретным видам. Источником С. являются внутр. причины. Это прежде всего противоречия, свойственные всем объектам с системным строением, либо иные силы — напр., взаимодействие отд. составляющих системы. Влияние внешних условий на конкретную самодвижущуюся систему осуществляется опосредованно, через внутр. источники. С, связанное с направленным, необратимым изменением, составляет особый тип С.— саморазвитие. В этом пункте концепция С. непосредственно смыкается с общей диалектич. концепцией развития, в к-рой «... главное внимание устремляется именно на познание источи и к а „с а м о" движения» (Л е н и н В. И., Соч., т..38, с. 358).
Материя как таковая абсолютно не обусловлена в своем С. к.-л. внешними воздействиями. Однако абс. характер С. материи в целом проявляется в относительных С. конкретных материальных систем — относительных потому, что всякая материальная система подвержена воздействию др. материальных систем, выступающих по отношению к данной системе как условия ее С. Воздействие внешних факторов на самодвижущуюся систему тем значительнее, чем менее организованна система. Поэтому одним из существ, условий и критериев повышения организации системы является усиление ее «автономности» по отношению к внешним воздействиям, т. е. возрастание роли внутр. источников развития — возрастание С, благодаря чему система получает большие возможности как для сохранения, устойчивости, так и для адекватной реакции на изменения среды.
В человеч. обществе С. основывается на специфически человеч. деятельности, прежде всего — па развитии материального произ-ва. На высших стадиях развития общества (коммунистич. формация) С. утрачивает стихийный характер, присущий ему в условиях антагонистич. формаций. Постоянным условием и элементом С, наряду с объективными условиями, здесь становится сознат. планирование, превращающееся в материальную силу развития через планомерную деятельность всего общества.
Лит.: Хрустов Г. Ф., О возникновении материального производства, «ВФ», 1960, № 3; О р л о в В. В., Особенности чувств, познания, Пермь, 1962, с. 12—24; Петрушен-но Л. А., К вопросу об общем характере и особенностях
авторегуляционных систем, «Изв. Ленингр. электротех-
нич. ин-та им. В. И. Ульянова (Ленина)», 1963, вып. 49. См.
также лит. при ст. Единство и борьба противоположностей t
Противоречие, Развитие. Ф. Вяккерев. Пермь.
САМОНАБЛЮДЕНИЕ (лат. introspectio — внутреннее наблюдение) — прием исследования явлений сознания, состоящий в фиксации и описании течения собств. переживаний при совершении нек-рых действий или нек-ром состоянии психики. В 19 — нач. 20 вв. С. было одним из осн. методов исследования человеч. психики (см. Психология, Интроспективная психология, Вюрцбургская школа). Как правило, в паре исследователь — испытуемый в качестве последнего выступал квалифицированный в С. человек (напр., в экспериментах вюрцбургской школы испытуемыми были О. Кюльпе, Н. Ах, А. Мессер, К. Бюлер и др.). С распространением объективных методов исследования прием С. был подвергнут критике. В наст, время С. используется как один из второстепенных приемов психологич. исследования, а его результаты служат лишь дополнением к результатам, фиксируемым при помощи объективных методов.
Лит.: Кюльпе О., Совр. психология мышления, пер.
с нем., в сб.: Новые идеи в философии, N° 16, СПБ, 1914;
Рубинштейн С. Л., Основы общей психологии, 2 изд.,
М., 1946, гл. 2; Выготский Л. С, Развитие высших
психич. функций, М., 1960, гл. 2; Ярошевский М. Г.,
История психологии, м., 1966, гл. 10; Пиаже Ж.,
Фресс П., Экспериментальная психология, пер. с франц.,
М., 1966, гл. 1 — 2. Н. Алексеев. Москва.
САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА — сложная динамич. система, способная при изменении внешних или внутр. условий ее функционирования и развития сохранять или совершенствовать свою организацию с учетом прошлого опыта. Типы объектов, к-рые могут быть названы С. с, по своему субстрату весьма различны; примерами их являются живая клетка, организм, биологич. популяция, человеч. коллектив.
С. с. впервые начали исследоваться в кибернетике. Термин «С. с.» ввел в 1947 Эшби (см. «Principles of self-organizing dynamic system» в «J. Gen. Psychol.», 1947, v. 37, p. 125—28). Широкое изучение С. с. началось в конце 50-х гг. В понятии С. с. фокусируется целый ряд проблем и специфич. трудностей, стоящих перед теоретич. кибернетикой и др. связанными с ней отраслями совр. науки и техники. С одной стороны, изучение таких систем открывает совершенно новые принципы построения технич. устройств с высокой надежностью, способных работать в широком диапазоне внешних условий. С другой, именно на этом пути возможна передача машине ряда логич. операций, считающихся до сих пор исключит, привилегией человека. В наст, время понятие самоорганизации вышло далеко за рамки кибернетики и все более широко применяется в биологии, а также социальных науках. Характерно, напр., рассмотрение отд. нейрона как С. с. либо как ее элемента в структуре функционально выделенного участка нейронной сети (работы группы Мак-Каллока — Питса в США, Напалкова и др. в СССР). Это направление составляет осн. содержание нейрокибернетики.
В наст, время в науке исследуются различные типы С. с. Их типология определяется выделением той или иной группы св-в в качестве ведущей: саморегулирующиеся, самонастраивающиеся, самообучающиеся, самоалгоритмизирующиеся системы.
Уже первые работы по созданию теории С. с. показали, что здесь наука столкнулась с принципиально новым классом познават. задач, для решения к-рых необходима выработка существенно новых средств и методов анализа. Одна из первых задач в исследовании таких систем состоит в том, чтобы определить и ограничить класс тех реальных объектов, относительно к-рых можно адекватно употреблять понятие
САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА
551
 самоорганизации. Поскольку «самоорганизующийся» означает не только организующийся сам, но и организующийся для себя, постольку даже обнаружение естеств. С. с. оказывается сложной исследовательской задачей.Чтобы выявить самоорганизующийся характер объекта, исследователь должен так построить взаимодействие с ним, чтобы на «вход» подавать определ. последовательность сигналов и на «выходе» получать последовательность ответов, на основании к-рой можно было бы судить о структуре поведения системы. Иными словами, процесс исследования здесь должен рассматриваться как взаимодействие двух С. с.—объекта и исследователя, причем это взаимодействие является значимым для обеих этих систем. Впервые на это обратил внимание известный англ. кибернетик Г. Паск (см. его ст. в рус. пер.—«Естеств. история цепей», в сб.: С. с, М., 1964), к-рый назвал такой метод исследования «стратегией естествоиспытателя», в отличие от традиционно применяемой «стратегии специализированного наблюдателя».
самоорганизации. Поскольку «самоорганизующийся» означает не только организующийся сам, но и организующийся для себя, постольку даже обнаружение естеств. С. с. оказывается сложной исследовательской задачей.Чтобы выявить самоорганизующийся характер объекта, исследователь должен так построить взаимодействие с ним, чтобы на «вход» подавать определ. последовательность сигналов и на «выходе» получать последовательность ответов, на основании к-рой можно было бы судить о структуре поведения системы. Иными словами, процесс исследования здесь должен рассматриваться как взаимодействие двух С. с.—объекта и исследователя, причем это взаимодействие является значимым для обеих этих систем. Впервые на это обратил внимание известный англ. кибернетик Г. Паск (см. его ст. в рус. пер.—«Естеств. история цепей», в сб.: С. с, М., 1964), к-рый назвал такой метод исследования «стратегией естествоиспытателя», в отличие от традиционно применяемой «стратегии специализированного наблюдателя».
Тот факт, что развитие организации С. с. преследует свои «цели», должен приниматься во внимание и при конструировании искусств, технич. устройств, основанных на принципе самоорганизации: параллельно с методами построения таких систем должны создаваться и методы управления пх поведением. В противном случае либо нельзя будет использовать их самоорганизующийся характер, либо самоорганизация пойдет в направлении, противоположном замыслам создателей такой системы (см. в этой связи И. Винер, Останется ли машина рабой человека?, «Америка», 1963, № 80, а также У. Росс Эшби, Принципы самоорганизации, в сб.: Принципы самоорганизации, пер. с англ., М., 1966). Еще не так давно подобная перспектива казалась утопической, но практич. конструирование С. с, поставленное совр. наукой в порядок дня, делает такую постановку проблемы реальной и необходимой. Опасные последствия, к-рые могут возникнуть при создании искусств, систем, осуществляющих собств. цели и трудно контролируемых человеком, рассматривает, напр., С. Лем (см. ст. «Введение в интеллектронику», ж. «Знание — сила», 1965, № 3). В общем виде теоретич. проблема здесь такова: либо создание С. с. для реализации заранее заданного диапазона задач без выхода за их пределы и, следовательно, планируемое существ, ограничение возможностей и направления самоорганизации, либо создание неполностью С. с. в том смысле, что система может функционировать лишь после получения задач извне. Понятно, что исследование естеств. С. с. не связано с этой проблемой.
Наиболее абстрактную схему С. с. можно представить след. образом. Имеется множество элементов и связей между ними; связи двух типов: жесткие и изменяющиеся (следует отметить, что до наст, времени не удалось выделить связи, специфические для С. с). Нек-рый механизм управляет изменением связей и (в общем случае) элементов. Большинство исследователей рассматривает механизм как ту часть системы, к-рая определяет ее самоорганизующийся характер, «несет ответственность» за управление и самоорганизацию, однако вопрос о физич. сущности этого механизма остается открытым. Наиболее распространена т. зр., согласно к-рой механизм воплощается материально как определ. регулирующий «орган», однако отд. исследователи считают, что этот механизм можно рассматривать как нек-рый логич. закон, к-рому следует система. К этим последним можно, в частности, отнести Эшби, к-рый утверждает, что каждую изолированную динамич. систему, подчиняющуюся постоянному закону, можно считать самоорганизующейся. У др. ученых в качестве такого механизма m.rr/rvnaeT «ппоект». «илгеял» и т. п. По-rh-
димому, возможно и совмещение обоих этих подходов, когда в системе регулятор к.-л. физич. природы является вместе с тем логич. механизмом, обусловливающим ее функционирование и развитие. В исследованиях С. с. у этих последних выделяются и специально описываются такие аспекты, как способность к обучению; самовоспроизведение структуры согласно нек-рому «проекту» (эталону); взаимодействие С. с. с ее окружением (рассматриваемое по типу взаимодействия организма со средой); надежность систем, созданных из элементов, каждый из к-рых ненадежен; поведение (деятельность) системы при решении задач и т. п. Исторически изучение каждой из этих проблем началось раньше, чем развилось понятие С. с. Поэтому на анализ такого рода проблем в связи со спецификой самоорганизации сильное влияние оказывает предшеств. традиция, к-рая в ряде случаев затрудняет анализ, приводит к односторонности в подходе исследователя, что особенно сказывается на методах и языке, применяемых в попытках построить теорию самоорганизации.
Обычно описание С. с. производится в спец. терминах и понятиях той или иной науч. дисциплины. Напр., Г. фон Ферстер оперирует понятиями теории информации и термодинамики, Эшби описывает самоорганизацию с помощью понятий теоретич. кибернетики, Паск — при помощи языка теорий игр, сов. исследователи Напалков, Брайнес п Свечинский идут к проблеме самоорганизации от нейрофизиологии и свойственного ей аппарата; большое число исследователей привлекает для описания С. с. аппарат биологии, в той или иной мере связанный с кибернетическим (теория нейронных сетей, цитология, генетика, эмбриология и др.). Все эти методы позволяют успешно решать ряд важных проблем, однако оказываются недостаточными для построения общей теории С. с. Это особенно относится к анализу поведения С. с. Обычно в кибернетике поведение системы изучается как «история выхода» для «черного ящика», т. е. как совокупность реакций системы в ответ на входные воздействия. Но применительно к С. с. такой подход позволяет фиксировать не само поведение с его механизмом, а лишь результаты, итог поведения. В качестве простейшего элемента, единицы поведения у большинства исследователей выступают отд. состояния системы, а цели системы рассматриваются как логич. связи. Однако такой подход оказывается малоперспективным. Паск (см. Г. Паск, Модель эволюции, в сб.: Принципы самоорганизации, пер. с англ., М., 1966) предпринял попытку произвести расчленение структуры поведения иным путем: в качестве элементов у него выступают отд. характеристики (св-ва автоматов); связи можно интерпретировать как логич. механизмы модели поведения системы, объясняющие изменения св-в. Такой способ позволил обосновать ряд интересных особенностей рассматриваемой Паском системы автоматов — корреляцию стратегий отд. автоматов, объединение их в колонии (домены) и т. п. Однако логич. необходимость этих св-в не доказывается. Тем не менее в таком подходе можно усмотреть элементы новой логики — логики поведения систем, т. е. методов и способов обобщенного описания поведения, необходимых как для теории С. с, так и для науч.-технич. практики.
Лит.: Полетаев И. А., Сигнал. О нек-рых понятиях кибернетики, М., 1958; Брайнес С. Н., Напалков А. В., Некоторые вопросы теории самоорганизующихся систем, «ВФ», 1959, N° 6; Тьюринг А., Может ли машина мыслить?, пер. с англ., М., 1960; Гааз е-Р а п о и о р т М. Г., Автоматы и живые организмы, М., 1961; Беркович Д. М., Машины управляют машинами, М., 1962; Принципы построения самообучающихся систем, К., 1962; Брайнес С. Н., Напалков А. В., Свечинский В. Б., Нейрокибер-нетика, М., 1962; Винер Н., Новые главы кибернетики, пер. с англ., М., 1963; Глушков В. М., Самоорганизация и самонастройка, К., 1963: Автоматизация производ-
552
САМОРАЗВИТИЕ — САНКХЬЯ
 ства и промышленная электроника. Энциклопедия coup, тех
ства и промышленная электроника. Энциклопедия coup, тех
ники, т. 3, М., 1964, с. 293; Возможное и невозможное в ки
бернетике. Сб. ст., М., 1964; Зуев А. К., Самонастройка
в технике и живой природе, Рига, 1964; Самонастраивающиеся
автоматич. системы, М., 1964; Самоорганизующиеся системы,
пер. с англ., М., 1964; Проблемы бионики, пер. с англ., М.,
1965; Смолян Г. Л., Техника и мозг, «ВФ», 1965, М 5;
Self-organizing systems, eds. М. С. Yovits, G. Т. Jacobi,
G. D. Goldstein, Wash., 1962. Б. Юдин. Москва.
САМОРАЗВИТИЕ — см. Самодвижение.
САМОСОЗНАНИЕ — осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе; С. предполагает выделение и отличение человеком самого себя, своего «Я» от всего, что его окружает. Возникновение С. связано с определ. уровнем развития сознания и является необходимым условием становления личности (подробнее см. в ст. Сознание).
САМСОН, Вилис Петрович (р. 3 дек. 1920) — сов. философ и историк, чл.-корр. АН Латв. ССР (с 1951). Чл. КПСС с 1943. Герой Сов. Союза (1945). Окончил Резекненский учительский ин-т (1940), ВПШ (1946), АОН при ЦК КПСС (1949). Был зав. кафедрой философии в респ. партшколе, преподавал философию в Латв. ун-те им. П. Стучки (1949—51). С 1960 — акад.-секретарь АН Латв. ССР. Отв. редактор издания «Литературное наследство Я. Райниса» («Literarais Ман-tojums», t. 1—2, Riga, 1957—62). С.— один из авторов разделов о философии в Латвии в кн.: «История философии» (т. 2, М., 1957) и «Очерки по истории фи-лос. и обществеино-политич. мысли народов СССР» (т. 2, М., 1956). Гл. редактор «Малой Энциклопедии Латв. ССР». Работает в области истории филос. и обществ, мысли и истории революц. движения Латвии.
С оч.: Progresivas sabiedriskas in filozofiskas domas at-tTstlba Latvija 19. gadsimta otra puse, «Padomju Latyijas sko-la», 1951, № 12; 1952, № 1, 3_; Latviesu nacionalistiska burzua-zija—tautas izglltlbas niknakals ienaidnieks, там же, 1954, JMb 2; Общественно-филос. взгляды Я. Райниса,_ «Коммунист Сов. Латвии», 1955, № 9; Rainis — revolucionars domatajs, «Изв; АН Латв. ССР», 1965, j4i 10 (219).
САНКХЬЯ (сапскр., букв.— число, счет, рассуждение через перечисление принципов бытия, истинное значение и т. п.) — одна из самых ранних, наиболее разработанных и влият. школ индийской философии. Основателем С. считается мудрзц Капила, однако его сутры до нас не дошли. Первые сведения об отд. элементах учения С. встречаются уже в Упанишадах и в источниках раннего буддизма. Полнее учение С. представлено в эпосе Махабхарата (т. н. эпическая С), здесь оно тесно смыкается с йогой. Идеи С. широко используются в др.-инд. мед. трактатах Чараки и Сушруты, в религиозно-правовых кодексах (особенно в «Законах Many») и др. Изложение С. в этих памятниках составляет древний период ее истории.
Наивысшего этапа своего развития С. достигает в раннее средневековье (с 3—4 до 8—9 вв. н. э.) (т. н. «классическая санкхья»), В этот период создаются ее осн. источники: «Санкхъя-карика» Ишвара Кришны, комментарии к ней Гаудапады («Санкхья-кари-кабхашья», 5 в.), Вачаспати Мишры («Санкхья-таттвакаумуди», 9 в.), Нараяна Тирхти («Санкхья-чандрика», 9 в.) и др. Поздняя С. представлена работами «Санкхья-сутра» (или «Сапкхья-правачана-сутра»), к-рая приписывается самому Капиле, но написана не ранее 14 в., и комментариями на нее Анируддхи («Санкхья-сутра-вритти», 15 в.) и Виджняна Бхикшу («Санкхья-правачана-бхашья», 16 в.); в этих источниках учение С. сближается с ведантой и растворяется в ней.
Центр, место в философии классич. С. занимает учение о пракрити (материи), к-рая является субстанциальной основой бытия, о ее развитии и трансформации (паринама). Сама пракрити описывается как особо тонкая, невоспринпмаемая чувствами субстанция, природа к-рой раскрывается в ее производных, в возникшем из нее предметном мире, являющемся
ее следствием. Причем следствие (карья) существует (сат) (вернее предсуществует) в своей причине, причина же сохраняется в своем следствии; т. о., причина и следствие по сути тождественны.
В своей трансформации пракрити проходит ряд по-следоват. этапов психич. и материального порядка. Первым этапом этого развития является махат или буддхи, представляющий собой чистое сознание, нечто вроде субстрата всех индивидуальных сознаний. Из него возникает ахамкара — самость, «Я», к-рое в свою очередь порождает, с одной стороны, одиннадцать органов (индрий) (пять воспринимающих, пять действующих или исполнительных и одиннадцатый связующий и управляющий орган — ум, манас), а с другой стороны, пять тонких, невоспршшмао-мых зародышей веществ, элементов (танматры). Все это образует внутр. основу эмпирич. индивида, его материальную душу — лингам. Танматры порождают из себя пять грубых, веществ, элементов (бхуты) —■ эфир (или пространство — акаша), воздух, огонь, вода, земля; из их различных комбинаций образуется весь чувственно-воспринимаемый мир объектов, как органический, так и неорганический. Т. о., в. С. насчитывается 24 категории, к-рые охватывают собой всю реально существующую действительность. Признание принципа развития первопричины мира составляет отличит, черту С.
Но хотя буддхи, ахамкара и органы чувств н возникают, по С, до веществ, элементов, из комбинации к-рых образуется предметный мир, однако в своем реальном функционировании эти духовно-психич. способности человека не стоят над миром объектов, а, напротив, обусловлены им, ц только он является источником человеч. знания. С. признает три средства познания (нрамана) действительности: чувств, восприятие (пратьякша), логич. рывод или умозаключение (анумана) и словесное свидетельство авторитетного источника (шабда); под последним подразумевалось сообщение мудреца (учителя) или священное писание (Веды). «Основным средством познания является чувственное восприятие, ибо остальные два покоятся на нем» (комментарий Вачаспати Мишнры на карику 4). Однако С. не уделяет особого внимания проблемам познания, принимая в общем теорию познания и логику школы нъяя.
Несмотря на трактовку пракрити как единств, причины реальной действительности, С. признает наряду с ней и независимо от нее духовное начало — пурушу, являющуюся 25-й категорией в этой системе. Пуруша играет роль фактически только в этич. сфере: якобы по незнанию своей полной отчужденности от пракрити нуруша отождествляет себя с эмпирич. душой (лингам), а через нее как бы вовлекается в круговорот мирского существования (самсара); но увидев пракрити во всех ее модификациях, пуруша «осознает» свою полную непричастность к ним и обретает свое имманентное состояние абс. свободы (мокша).
В онтологии и гносеологии С. понятие пурушн привлекается для объяснения тех филос. проблем (источник движения материи, переход от материи к осознанию п т. п..), к-рые не могли получить убедительного решения с позиций метафизич. материализма. Эта непоследовательность С. дает повод многим исследователям характеризовать ее взгляды как дуалистические. Однако гл. принципы системы С.— ее учение о пракрити как материальной причине и субстанции мира, о неотделимости пространства и времени от пракрити, о заложенной в ней способности к саморазвитию, в процессе к-рого возникают сознание и психика человека и т. д., дают гораздо больше оснований отнести ее к материалистич. направлению.
Лит.: Лунный свет С.— истины, пер. с санскр. Р. Гарбе* рус. пер. и предисл. Н. И. Герасимова, М., 1900; Махабхарата,
«САНКХЬЯ-КАРИКА» — САНТАЯНА
553
 [вып.] 2—7 (пер. с санскр., введение, послесловие, примечание
[вып.] 2—7 (пер. с санскр., введение, послесловие, примечание
Б. Л. Смирнова), Аш., 1956—63; Аникеев Н. П., О
материалистических традициях в индийской философии, М.,
1965; К а р i I a, The sankhya aphorisms of Kapila, transl.
by J. Ballantyne, 3 ed., L,—Edin., 1885; Iswarakrislma. Sankhya-
karikas. Ed. by Pandit Sri Hariram Shukla, Banaras, 1932; The
sanikhya-karika. Is' vara Krsna memorable verses on Samkhya
philosophy with the commentary of Gawdapadacarya (Critically
ed. with introduction, translations and notes) by Har Dutt
Sharma, Poona, 1933; Vacaspati Mishra, The tattva-
kaumudi on the sankhya-karikas. Transl. by G. N. Jha, Poona,
1934; Vijnanabhiksu, The samkhya-pravacana-bhasya,
ed. by R. Garbe, Camb. (Mass.), 1943; S a s t r i N. S., Biblio
graphy of Sankhya system, «Journal of Sri Venkateswara Orien
tal Institute», [s. I.], v. 13, № 1; The sankhya-karika of Iswara
Krishna. An exposition of the system of Kapila, 2 ed., Calcutta,
1957. , H. Аникеев . Москва.
«?АНКХЬЯ-КАРЙКА>> — один из осн. лит. источников древнейшей школы индийской философии санк-хъя. Автором «С.-к.» считается мудрец Ишвара Кришна (4—5 вв.). «С.-к.» состоит из 72 двустиший, в лапидарной форме излагающих осн. положения учения санкхьи.
Лит.: Радхакришнан С, Индийская философия, пер. с англ., т. 2, М., 1957.
САНС ДЕЛЬ РЙО (Sanz del Rio), Хулиан (16 мая 1814—12 окт. 1869) — исп. философ, последователь, переводчик и пропагандист идей Краузе; вел широкую педагогич. деятельность в ун-тах Испании. Понимал философию в сократич. смысле как метод и инструмент личного совершенствования. Оказал влияние на дальнейшее развитие исп. обществ, и филос. мысли. Соч.: Lecciones sobre el sistema de Filosofia analitica de K. Ch. F. Krause, Md, 1850; Sistema de la Filosofia. Metafi-sica. Primera parte. Analisis, expuesto de la obra de Krause, amplicaciun у correcciun de la anterior, Md, 1860; Segunda parte. Sintesis, Md, 1874; El ideal de la Humanidad para la vida, Md, 1860.
Лит .: Menendez у Pelayo, Historia de los hetero-doxos espanoles, Md, 1881 (lib. 8, cap. Ill, p. 715 — 46).
|
|
САНТАЯНА (Santayana), Джордж (16 дек. 1863— 12 сент. 1952) — бурж. философ-идеалист, представитель критического реализма, создатель метафизич. системы, автор многочисленных работпо эстетике, культуре и лит-ре; блестящий стилист. Испанец по происхождению, С. долгое время прожил в США (1872—1912) и был признан классиком амер. философии. Испытав воздействие абс. идеализма Ройса и прагматизма Джемса, С. в дальнейшем проводит иррационалистич. линию философии жизни. Осн. задача философии, согласно С, состоит не в объяснении мира, а в выработке «моральной позиции» по отношению к нему. Соответственно, философия — это «...дисциплина ума и сердца, нецерковная религия» («The realm of spirit», N. Y., 1940, p. 273).
С. явился одним из первых критиков массовой культуры. «Бунт животности» и «победу варварства» он связывает не только с извращенными формами капиталистической индустриализации, но и с социальной активизацией масс. Философия С. выразила протест против «материализма» буржуазной, в особенности американской, практики и ее враждебности духовной культуре, против подавления индивида обществом, иррациональности исторического развития и т. д. ХВ ранней работе «Чувство красоты» («The sense of beauty», N. Y.— [a. o.], 1896) С. сделал вывод, превратившийся в дальнейшем в гл. кредо его моральной и социальной философии, что наиболее интеллектуальное отношение к совр. миру —эстетическое и что уровень развития народов должен определяться не производством материальных благ, а количеством энергии, посвящаемой «...украшению жизни
и культуре воображения» (указ. соч., р. 27). В дальнейшем (см. «Интерпретация поэзии и религии» —• «Interpretations of poetry and religion», N. Y., 1900; «Три философских поэта — Лукреций, Данте и Гёте» — «Three philosophical poets: Lucretius, Dante, and Goethe», Camb., 1910, и др.) тенденция С. рассматривать поэзию, религию, искусство как высшие формы человеч. деятельности выливается в противопоставление их науке как неподлинному видению мира, или чисто технич. системе символов, имеющей лишь операциональное значение. С. отрицал «эмпирическую истинность» традиц. религии и считал ее «разновидностью поэзии»; он пытался создать новую «интеллектуальную религию», приспособленную для «скептического ума» человека 20 в. Последнюю он мыслил как филос. симбиоз морали, религии и поэзии.
В пятитомной «Жизни разума» («The life of reason», N. Y., 1905—06, переизд. N. Y., 1962), задуманной по примеру «Феноменологии духа» Гегеля, С. анализирует обыденное сознание, науку, общество, искусство и религию с т. зр. «моральных благ», достигнутых человеком в его попытке гармонизировать свои «животные импульсы» и установить равновесие со средой. Биологически и прагматически понимаемую практич. деятельность человека он противопоставляет «чуждой утилитаризму» духовной деятельности как идеалу человеч. самовыражения.
Характерное для критич. реализма различение непосредственно данных элементов опыта и внешних объектов в философии С. выступает в форме резкого противопоставления сущности и существования (т. е. идеальных и физич. объектов). Не отрицая существования внешнего мира, убеждение в объективной реальности к-рого он основывает на «животной вере», С. тем не менее считает, что только о «данных опыта» можно утверждать с абс. уверенностью. Т. о., проблема познания ставится как проблема трансцендентной связи сущности и существования. А так как, согласно С, «являясь частью этой реальности, мы не можем — телом или сознанием — быть или становиться какой-либо другой ее частью» («Apologia pro mente suo», см. в сб.: «The philosophy of G. Santayana», Evanston — Chic, 1940, p. 518), он делает вывод,что знание внешнего мира всегда субъективно истолковано и символично. Истина трактуется С. в духе прагматизма и бихевиоризма как биологич. приспособление к среде. Роль внешнего мира сводится у него к «удару», к-рый вызывает «взрыв фантазии» и побуждает видеть в сущностях, данных нам в интуиции, «...знаки для среды, в которой они движутся, изменяя ее и испытывая ее влияние» («The realm of essence», N. Y., [1927], p. VII). Символизм у С. перерастает в мифологизм. Он объединяет категорией символа явления самого различного порядка, объявляя его единств, средством восприятия действительности, а миф — единств, формой миропонимания. Осн. моральный вывод гносеоло-гич. изысканий С. сводится к умению пользоваться практич. стороной мифов и наслаждаться их красочной игрой.
В 20—30-е годы С. строит плюралистич. систему бытия в 4-томном соч. «Царства бытия» («The realms of being»). Бытие заключает в себе четыре сферы: «Царство сущности» («The realm of essence»,N.Y.,1927), «Царство материи» («The realm of matter», L., 1930), «Царство истины» («The realm of truth», L., 1937) и «Царство духа» («The realm of spirit», N. Y., 1940). Называя эти «царства» «аспектами морального опыта», он фактически толкует их как онтологич. реальности. Основополагающей реальностью этой филос. системы является «царство сущности», в понимании к-рой С. близок Гуссерлю, Уайтхеду, реалистам и др. совр. философам платоновской традиции. Это царство —«бесконечный каталог» всех действительных, а также
554 САНТО —САПАТА
 возможных качеств и определений, все то,«.. .чем бытие когда-либо может стать или что оно может содержать в себе» («The realm of essence», p. 22). «Непространственное», «вневременное», «несубстанциальное» бытие сущностей С. считает «высшим бытием» и даже «...единственно необходимой формой реальности» (там же, р. 14). Материя является, по определению С, «...единственной субстанцией, силой и стимулом во вселенной» («Apologia pro mente suo», p. 509), порождающей все многообразие внешнего предметного мира. Однако, хотя С. объявляет себя материалистом, материя выступает в его системе только как одна из реальностей наряду с другими, несубстанциальными, от к-рых зависят все качеств, и онтологич. характеристики материи. Без них материя невыразима и непознаваема. Формы, организующие существование и придающие ему упорядоченность, закономерность и качеств, определенность, С. помещает в «Царство истины», представляющее собой «сегмент Царства сущности» — своего рода телеологич. основу всего проявившегося земного бытия. «Царство духа» описывается С. как сфера некоего космич. «горения», одушевляющего все живое, определяющего деятельность человеч. психики и, главное, делающего возможным интуицию сущностей. Посредством интуиции сущность связывается с существованием, с ее помощью человек освобождается от «плоти», «мира» и «дьявола» (познания) и достигает высшего морального блага, эстетич. гармонии и счастья.
возможных качеств и определений, все то,«.. .чем бытие когда-либо может стать или что оно может содержать в себе» («The realm of essence», p. 22). «Непространственное», «вневременное», «несубстанциальное» бытие сущностей С. считает «высшим бытием» и даже «...единственно необходимой формой реальности» (там же, р. 14). Материя является, по определению С, «...единственной субстанцией, силой и стимулом во вселенной» («Apologia pro mente suo», p. 509), порождающей все многообразие внешнего предметного мира. Однако, хотя С. объявляет себя материалистом, материя выступает в его системе только как одна из реальностей наряду с другими, несубстанциальными, от к-рых зависят все качеств, и онтологич. характеристики материи. Без них материя невыразима и непознаваема. Формы, организующие существование и придающие ему упорядоченность, закономерность и качеств, определенность, С. помещает в «Царство истины», представляющее собой «сегмент Царства сущности» — своего рода телеологич. основу всего проявившегося земного бытия. «Царство духа» описывается С. как сфера некоего космич. «горения», одушевляющего все живое, определяющего деятельность человеч. психики и, главное, делающего возможным интуицию сущностей. Посредством интуиции сущность связывается с существованием, с ее помощью человек освобождается от «плоти», «мира» и «дьявола» (познания) и достигает высшего морального блага, эстетич. гармонии и счастья.
Социально-политич. завершением соч. «Царства бытия» является последняя работа С. «Господство и власть» («Dominations and powers», N. Y., 1951), в основе к-рой лежит также платоновская схема.
С. не создал школы, но его идеи оказывают влияние на амер. мысль: к ним не перестают обращаться те мыслители, которые видят в философии средство морально-эстетической ориентации в действительности.
С о ч.: Character and opinion in the United States, N. Y., 1920; Persons and places, v. [1]—3, N. Y., 1944—53; The idea of Christ in the gospels or god in man, N. Y., 1946; Transcendental absolutism, в сб.: Twentieth century philosophy, N. Y., [1947]; The letters, ed. by D. Cory, L., [1955]; Essays in literary criticism, N. Y., [1956]; System in lectures, «Review of Metaphysics», 1957, v. 10, J\I5 4; Winds of doctrine and platonism and the spiritual life, N. Y., [1957].
Лит.: Ендовицкий В. Д., «Созерцание сущности»
и «животная вера» в философии Дш. Сантаяны, «ВФ», 1964,
№ 11; Юдина Н. С, Философия Дш. Сантаяны и амер.
«реализм», в кн.: Совр. объективный идеализм, М., 1963; Л у-
канов Д. М., Соотношение непосредств. и опосредованного
познания в гносеологии Дж. Сантаяны, «Веетн. ЛГУ. Сер,
экон., филос. и права», 1965, вып. 2, № 11; М u n i t z M. К.,
The moral philosophy of Santayana, N. Y., 1939; Kinney
M. C. E., A critique of the philosophy of G. Santayana in the
light of thomistic principles, Wash., 1942; Duron J., La
pensee de G. Santayana, P., [1950]; В о s с о N., II realismo
critico di G. Santayana, Torino, 1959; Butler R., The mind
of Santayana, Chi., 1955; Arnett W. E., Santayana and
the sense of beauty, Bloomington, 1957; Singer I., Santa-
yana's aesthetics, Camb., 1957; Dialogue on G. Santayana,
N. Y., 1959; К i r k w о о d M. M., Santayana: saint of the
imagination, [Toronto], 1961; M и n s о n T. N., The essential
wisdom of G. Santayana, N. Y.—L., 1962; S z m у d J., San-
tayany antropologia filozoficzna, в сб.: Filozofia i socjologia XX
wieku, 2 wyd., Warsz., 1965. H . Юлина. Москва.
САНТО (Szanto), Ладислав (р. 30 апр. 1894) — сло-вац. марксистский публицист, акад. Чл. КПЧ. С. стал марксистом в рус. плену во время 1-й мировой войны; был лектором Интернациональной бригады в Красноярске, работал в парт, журнале венг. секции РКП(б) в Сибири «Voros ujsag» («Красная газета»), издаваемом в Омске. После возвращения на родину С. публиковал в парт, журналах статьи по филос, по-литич., науч. и культ, вопросам.
Соч.: Osobnost' vo fasizme, socializme a l'udovej demo-kracii, в кн.: Kammari M., О ulohe osobnosti v historii, Brat., 1946; Hospodarstvo dvoch svetov. Podstata hospodarst-va SSSR a USA, Brat., 1948; Vybrane state, Brat., 1958.
А. Нопчоп. ЧССР.
САНЧЕС (Sanches, Sanchez), Франсиско (25 июля 1551 —1632) — испано-португальский философ и врач, доктор медицины (1573). С 1602 и до конца жизни был гл. врачом госпиталя и проф. философии и медицины Тулузского ун-та. Автор ряда медицинских трудов («Opera medica», Tolosae, 1636) и комментариев к соч. Аристотеля (в кн.: Tractatus philo-sophici, Roterodami, 1649).
С. считают обычно сторонником скептицизма, однако правомерность этого весьма условна. В «Трактате о весьма благородной и первой всеобщей науке, заключающейся в том, что ничто не познаваемо» («Tractatus de multum nobili..., Lugduni, 1581, первый исп. пер. опубл. под названием «Qve nada se sabe», Md., 1924), С. утверждал,что истинная наука основана не на вере, а на опыте и заключается в абсолютном, совершенном познании вещей с помощью разума. Однако человек создать такую науку не в состоянии в силу ограниченности познания. Последняя, по С, обусловлена рядом причин. Во-первых, всякое познание основано на ощущениях, вне к-рых все смутно и неопределенно; по мере отдаления от источника ощущений наши знания лишаются ясности и точности. Во-вторых, наше познание ограничено количественно (предметы слишком мелкие или слишком крупные ускользают от органов чувств) и качественно (в силу изменчивости и др. свойств предметов и явлений). В-третьих, человек знает только то, что сделал сам и что осознал во всех связях, однако человечеством пока сделано очень мало. Вместе с тем, С. не был сторонником агностицизма. В противовес ср.-век. схо-ластич. философии, С. отстаивал необходимость создания новой науки и новых методов исследования природы, основанных на наблюдении и эксперименте, что сближает его с Ф. Бэконом и др. передовыми мыслителями 17 в. и позволяет считать его предшественником Декарта. С. не отрицал возможности проникновения человеч. разума в наиболее трудные для исследования области объективного мира. Он, в частности, полагал, что после того, как будет всесторонне исследован макромир, может быть начато познание микромира. С. считал, что опыт, строгая проверка результатов всякого науч. исследования и критич. оценка достигнутого предшественниками способствуют постоянному углублению познания, хотя и не могут привести к абсолютному познанию, доступному только богу.
Соч.: Opera philosophica, Coimbra, 1955.
Лит.: Александров Г., Из истории исп. философии, «ПЗМ», 1939, № 2; Gerkrath L., F. Sanchez. Ein Beitrag zur Geschichte der philosophischen Bewegungen im Anfange der neueren Zeit, W., 1860; С a z а о Н. P., Lieu d'origine et les dates de naissance et de mort du philosophe F. Sanchez, [s. 1.], 1903; GiarratanoC.,11 pensiero di F. Sanchez, Napoli, 1903; S e n с h e t E., Essai sur la mcthode de F. Sanchez, P., 1904; I r i a r t e-A g u i r r e-Z a b a 1 J., Karte-sischer odor Sanchezischer Zweifel?, Bonn, 1935; В r i t e R., О Portugues F. Sanchez, Lisboa, 1940; T a v a r e s S., F. Sanchez e о problema de sue naturalidade, «Rev. portuguesa de Filosofia», Braga, 1945; Moreirade Sa A., Sanchez em Motpellier e Toulouse, «Rumo», 1946, nov.; его ше, F. Sanchez filosofo e matematice, v. 1—2, Lisboa, 1947; Calmette J.( Etudes medievales, Toulouse, 1946, p. 95 — 123; M о г а е s E. d e, F. Sanchez na renescen<;a portuguesa, [Rio de Janeiro, 1953].
В. Афанасьев. Ленинград.
САПАТА (Zapata), Диего Матео (годы рождения и смерти неизв.) — исп. естествоиспытатель и врач 17 —18 вв. В условиях духовного гнета католицизма и террора инквизиции отстаивал антисхоластич. естеств.-науч. идеи, в частности в соч. «Подлинная апология в защиту разумной философии медицины» («Verdadera apologia en defensa de la medicina racional philosophica», Md, 1691). В 1697 основал в Севилье «Королевское об-во медицины и наук», вскоре закрытое по требованию церковных властей.
Соч.: Dissertacion medico-theologica, Md, 1733.
САРАБЬЯНОВ — САРТР
555
 САРАБЬЯНОВ, Владимир Николаевич (7 ноября 1886—4 марта 1952) — сов. философ, историк и экономист, профессор. Род. в Астрахани. С 1903—в ре-волюц. движении. До 1918 — меньшевик. С 1930— ялен КПСС. Окончил юридич. фак-т Моск. ун-та по экономич. и гражд. отделениям (1911). В 1918—23 работал экономистом в Москве, в 1922—30—в «Правде». С 1930—в основном на преподават. работе.
САРАБЬЯНОВ, Владимир Николаевич (7 ноября 1886—4 марта 1952) — сов. философ, историк и экономист, профессор. Род. в Астрахани. С 1903—в ре-волюц. движении. До 1918 — меньшевик. С 1930— ялен КПСС. Окончил юридич. фак-т Моск. ун-та по экономич. и гражд. отделениям (1911). В 1918—23 работал экономистом в Москве, в 1922—30—в «Правде». С 1930—в основном на преподават. работе.
Круг науч. исследований С.— проблемы диалек-тич. и исторпч. материализма, истории марксистской философии, атеизма, экономики. С. активно участвовал в филос. дискуссиях 20—30-х гг., выступал против «противопоставления мировоззрения методу», к-рый им рассматривался как «...м и р о в о з з р е-н и е... в д е й с т в и и» (см. «В защиту философии марксизма», 1929, с. 8); он критиковал отрыв теории от практики, формализм и схоластич. искажения марксистско-ленинской философии. Однако ряду работ С. тех лет были свойственны ошибки механистич. характера (понимание противоречий как результата «сменяющихся противоборствующих сил», противопоставление практики абстрактному мышлению, сведению производит, сил к технике и т. п.). Эти ошибочные положения работ С. были подвергнуты критике в парт, и сов. печати (см. «Механисты»). В дальнейшем, как писал сам С, он «разделался как с механицизмом, так и с идеалистическими ошибками» («Диа-лектич. и историч. материализм», 1934, с. 3).
С оч.: Историч. материализм, М., 1922; Очередное извращение марксизма, М., 1924; Беседы о марксизме, М., 1925; Введение в диалектич. материализм, [X.], 1925; Кооперация в системе сов. х-ва, М.—Л., 1925; Что читать по диалектич. материализму, М., 1925; От капитализма к коммунизму, М.—Л., 1926; Осн. проблемы НЭПа, М.—Л., 1926; Итоги восстановит, периода, М.—Л., 1927; Индустриализация страны, М.—Л., 1928; В защиту философии марксизма, М.—Л., 1929; Промышленная пятилетка, [X.], 1929; Божественная «социология», X., 1930; Техникой по религии, М.—Л., 1931; Филос. учение Маркса. Хрестоматия по Плеханову, М.—Л., 1933 (составитель); Диалектич. и историч. материализм (Очерки), (М.), 1934; Религия — опиум народа, М., 1937; Архитектура и обществ, сознание, М., 1952.
Лит.: За поворот на филос. фронте. Сб. ст., М.— Л.,
1931, с. 26—29; История и историки. Сб. ст., М., 1965,
с. 155—60; История философии, т. 6, кн. 1, М., 1965, с.
141—42, 221j 235. В. Клушин. Ленинград.
САРАГУЭТА (Zaragiieta у Bengoechea ), Хуан (род. 26] января 1883) — испанский философ - неотомист, психолог и публицист. Доктор философии (1929). В 1907—27 — профессор и ректор Мадридской семинарии, в 1917—31— профессор Высшей педагогия, школы в Мадриде, в 1931—53 — проф. Мадридского ун-та (ныне заслуж. проф.), одновременно — директор Ин-та философии им. Л. Вивеса и секретарь Королевской Академии политич. и моральных наук в Мадриде. Чл. Лувенского филос. об-ва и Междунар. ин-та философии, директор Высшего ин-та философии Лувенского ун-та. Уже в ранних работах выступил как неотомист п последователь Шопенгауэра. В дальнейшем, наряду с разработкой неотомистской концепции, занимается историей философии, педагогикой, психологией. С.— составитель и осн. автор «Филос. словаря» («Vocabulario filosofico», Md, 1955).
С о ч.; Introduccion general a la Filosofia, Md,1909;Modernas orientaciones de la psicologia experimental, Md, 1910; Teorfa psicogenetica de la voluntad, Md, 1914; Contribucion del len-guaje en la filosofia de los valores, Md, 1920; La intuicion en la filosofia de Henri Bergson, Md, 1941; Una introducciun moderna a la filosofia escolastica, Granada, 1946; Filosofia у vida, v. 1—3, Md, 1950—54.
Лит .: Pedromo Garcia J., El pensamiento filo
sofico de J. Zaragiieta, «Giornale di Metafisiea», 1950, anno 5,
Л"» 6, p. 663—71. В. Афанасьев. Ленинград.
САРТР (Sartre), Жан Поль (р. 21 июня 1905) — франц. философ, представитель экзистенциализма (т. н. атеистпч. его варианта), писатель, драматург и эссеист. Обществ, деятель, участник франц. Движения Сопротивления, в послевоен. годы — многочисл. демократия, движений и организаций. Основатель и директор журн. «Les Temps Modernes» (1945). Обра-
|
|
зование получил в лицеях Ла-Рошели, кончил Высшую нормальную школу в Париже, стажировался во Франц. институте в Берлине (1934). Преподавал философию в различных лицеях Франции (1929—39 и 1941—44); с 1944 целиком посвятил себя лит. работе. Известность С. принесли ромэк «Тошнота» («La nausee», P., 1938) и сборник рассказов «Стена» («Le mur», P., 1939). Осн. филос. работа — «Бытие и ничто» («L'etre et le neant», P., 1943). Но популярность С. приобрел в послевоен. годы.
Мировоззрение С. сложилось под влиянием прежде всего Бергсона, Гуссерля и Хейдегге-ра (влияние Маркса относится в основном к концу 40-х гг.). Экзистенциальная философия С. обнаруживает себя как одно из совр. ответвлений феноменологии Гуссерля, как приложение его метода к «живому сознанию», к субъективно-деятельной стороне того сознания, с каким конкретный индивид, заброшенный в мир конкретных ситуаций, предпринимает к.-л. действие, вступает в отношения с др. людьми и вещами, стремится к ч.-л., принимает житейские решения, участвует в обществ, жизни и т. д. Все акты деятельности рассматриваются С. как элементы определ. феноменология, структуры и расцениваются фактически в зависимости от задач личностного самоосуществления индивида. С. рассматривает роль «субъективного» (подлинно-личностного) в процессе человеч. персонализации и историч. творчества. По С, акт специфически человеч. деятельности есть акт обозначения, придания смысла (тем моментам ситуации, в к-рых проглядывает объективность — «другое», «данное»). Предметы лишь «знаки» индивидуальных человеч. значений, смысловых образований человеч. субъективности (см. «Critique de la raison dialectique», t. 1, P., 1960, p. 97). Вне этого они — просто данность, сырая материя, пассивные и инертные обстоятельства. Придавая им то или иное нндиви-дуально-человеч. значение, смысл, человек формирует себя в качестве так или иначе очерченной индивидуальности. Внешние предметы — здесь просто повод для «решений», «выбора», к-рый должен быть «выбором» самого себя.
Поскольку у С. человеч. деятельность — в той мере, в какой она свободная и творческая,— лишена корней в содержании объективности, в том числе и в содержании форм опредмеченной человеч. деятельности (т. е. культуры), то содержанием ее оказывается натуралистически взятое содержание природы самого индивида, его уникальные биологич. зависимости, события и травмы глубокого детства, довлеющие над индивидом, как рок. В этой связи С. развивает метод, называемый им экзистенциальным психоанализом, к-рый призван прояснить облик индивидуальности путем выявления тех обстоятельств детства и тех специфич. биологич. зависимостей, в ответ на к-рые она себя строит.
Филос. концепция С. развивается на основе абс. противопоставления и взаимоисключения понятий: «объективность» и «субъективность», «необходимость» и «свобода». Источник этих противоречий С. усматривает не в конкретном содержании сил социального бытия, а во всеобщих формах этого бытия (веществ, свойства предметов, коллективные и обобществленные формы бытия и сознания людей, индустриализация, тех-ния. оснащенность совр. жизни и т. д.). Свобода индивида как носителя беспокойной субъективности может быть лишь «разжатием бытия» (decompression d'etre), образованием в нем «трещины», «дыры», ничто (см.
556
САРТР
 «L'etre et le neant», P., 1960, p. 119—21). Индивида совр. бурж. об-ва С. понимает как отчужденное существо, возводя это конкретное состояние в метафизпч. статус человеч. существования вообще. Всеобщее значение космнч. ужаса приобретают у С. отчужденные формы человеч. существования, в к-рых индивидуальность стандартизирована и отрешена от история, самостоятельности, подчинена массовым, коллективным формам быта, организаций, гос-ва, стихийным экономия, силам, привязана к ним также и своим рабским сознанием, где место самостоят, критич. мышления занимают общественно принудит, стандарты и иллюзии, требования обществ, мнения и безличной «молвы» и где даже объективный разум науки представляется отделенной от человека и враждебной ему силой. Отчужденный от себя человек, обреченный на неподлинное существование, не в ладу и с вещами природы — они глухи к нему, давят его своим вязким и солидно-неподвижным присутствием, и среди них может чувствовать себя благополучно устроенным только общество «подонков» («salauds»), человек же испытывает «тошноту» (см. роман «Тошнота»). В противовес всяким вообще «объективным» и опосредствованным вещами отношениям, порождающим надиндивидуальные производит, силы, С. утверждает особые, непосредств., натуральные и цельные человеч. отношения, от реализации к-рых зависит подлинное содержание человечности.
«L'etre et le neant», P., 1960, p. 119—21). Индивида совр. бурж. об-ва С. понимает как отчужденное существо, возводя это конкретное состояние в метафизпч. статус человеч. существования вообще. Всеобщее значение космнч. ужаса приобретают у С. отчужденные формы человеч. существования, в к-рых индивидуальность стандартизирована и отрешена от история, самостоятельности, подчинена массовым, коллективным формам быта, организаций, гос-ва, стихийным экономия, силам, привязана к ним также и своим рабским сознанием, где место самостоят, критич. мышления занимают общественно принудит, стандарты и иллюзии, требования обществ, мнения и безличной «молвы» и где даже объективный разум науки представляется отделенной от человека и враждебной ему силой. Отчужденный от себя человек, обреченный на неподлинное существование, не в ладу и с вещами природы — они глухи к нему, давят его своим вязким и солидно-неподвижным присутствием, и среди них может чувствовать себя благополучно устроенным только общество «подонков» («salauds»), человек же испытывает «тошноту» (см. роман «Тошнота»). В противовес всяким вообще «объективным» и опосредствованным вещами отношениям, порождающим надиндивидуальные производит, силы, С. утверждает особые, непосредств., натуральные и цельные человеч. отношения, от реализации к-рых зависит подлинное содержание человечности.
В мифологизирующем утопич. мышлении С. все же на первый план выступает неприятие действительности совр. общества и его культуры, выражающее сильную струю совр. социального критицизма. Жить в этом обществе, согласно С, как жнвет в нем «довольное собой сознание», можно лишь отказавшись от себя, от личной подлинности, от «решений» и «выбора», переложив последние на ч.-л. анонимную ответственность — на гос-во, нацию, расу, семью, др. людей. Но и этот отказ — ответственный акт личности, ибо человек обладает свободой воли.
Концепция свободы воли развертывается у С. в теории «проекта», согласно к-рой индивид не задан самому себе, а проектирует, «собирает» (пли «тотали-зирует») себя в качестве такового. Поэтому трус, напр., ответствен за свою трусость, и «для человека нет алиби». Экзистенциализм С. стремится заставить человека осознать, что он полностью в ответе за самого себя, свое существование и окружающее, ибо исходит из утверждения, что, не будучи чем-то заданным, человек постоянно строит себя посредством своей активной субъективности («проекта», «выбора»). Он всегда «впереди, позади себя, никогда — сам» (см. там же, р. 185). Отсюда то выражение, к-рое С. дает общему принципу экзистенциализма: «...существование предшествует сущности...» (см. «L'exis-tentialisme est un humanisme», P., 1946, p. 24). По сути это означает, что всеобщие, общественно-значимые (культурные) объективации, к-рые post festum выступают как «сущности», «природа человека», «всеобщие идеалы», «ценности» и т. д., являются лишь отложениями, застывшими моментами деятельности, с к-рыми конкретный субъект никогда не совпадает. «Экзистенция» и есть постоянно живой момент деятельности, взятый в виде внутрииндивидуалыюго состояния, субъективно. В более поздней работе «Критика диалектич. разума» С. формулирует этот принцип как принцип «несводимости бытия к знанию». Но экзистенциализм С. не находит иной основы, из к-рой человек мог бы развить себя в качестве подлинно са-модеят. субъекта, кроме абс. свободы и внутр. единства «проектирующего я». В этом своем возможном развитии личность одинока и лишена опор. Место активной субъективности в мире, ее онтология, основу С. обозначает как «ничто». Помысли С, «...человек,
без всякой опоры и без всякой помощи, осужден в каждый момент изобретать человека» (там же, р. 38) и тем самым «человек осужден на свободу». Но тогда основой подлинности (аутентичности) могут быть только иррац. силы человеч. подполья, подсказки подсознательного, интуиции, безотчетные душевные порывы и рационально неосмысленные решения, неминуемо приводящие к пессимизму или к агрессивному своеволию индивида: «История любой жизни есть история поражения» («L'etre et le neant», p. 561). Появляется мотив абсурдности существования: «Абсурдно, что мы рождаемся, и абсурдно, что мы умираем» (там же, р. 631). Человек, по С,— бесполезная страсть. Все эти темы своей философии С. развивает в виде определ. психологич. диалектики жизни индивида в обществе, схемы к-рой он переводит также и на язык художеств, творчества (для экзистенциализма характерно вообще слияние философии с формами иск-ва). По своему содержанию эта диалектика очень близка к религ. переживанию, воспроизводит его морально-психологич. схему и своеобразную логику, но освобожденную от теистич. аппарата представлений и ритуалов, от бога. Напряженность атмосферы, царящей в романах и филос. трактатах С. (как и др. экзистенциалистов), часто выглядит как выражение эмоция потери бога в отчужденном мире (нечто вроде религии наоборот), а самое ее содержание легко может быть расшифровано в терминах «греха», «бренности существования», «страдания и искупления», болезненно ощущаемой «вины», «ответственности», «визионерства» и т. д. Такое сочленение экзистенциализма и религии связано с общими им элементами социального утопизма. Особенно явственными эти элементы стали у С. в послевоенные годы. Но то, что в сознании С. его теоретич. эволюция приняла форму движения к марксизму, есть на самом деле лишь иллюзорно выраженная радикализация его социально-полптич. позиции; теория же, сформулированная в «Критике диалектич. разума», остается экзистенциалистской. В этой работе С. уже включает в «проект» материальную обусловленность человеч. деятельности и пытается, исходя отсюда, дать картину общественно-историч. процесса как целого. Проект обладает структурой практики. Индивид практически «тотализирует» выступающие в поле «проекта» материальные обстоятельства и отношения с др. людьми и сам творит историю — в той же мере, в какой она — его. Строение общественно-историч. процесса должно быть понято и выведено из цельности индивидуального действия, из его логики. Но зависимость индивида в диалектике его проекта от бытия, материальную его обусловлеЕшость С. понимает как схему отчуждения и продолжает в качестве человеческого рассматривать лишь субъективность индивида и его «отношения внутреннего» с другими людьми. Объективные экономические. и социальные структуры выступают в целом как отчужденная надстройка над внутренне-индивидуальными элементами «проекта». Объективно-материальное как таковое оказывается чуждым, «колдовским», его элементом, приводящим к иррациональному отклонению всех человеч. намерений и целей. Оно — «античеловеческое». «...Материальность вещи или института есть радикальное отрицание изобретения пли творчества...» и «через социальную материю и материальное отрицание как инертное единство человек конституируется в качестве другого, чем человек» («Critique de la raison dialectique», t. 1, с 249, 206). Т. о., историч. процесс рассматривается в плане экзистенциалистской антитезы социальных отношений и отношений непосредственно «человеческих», а объективное социальное бытие введено в структуру индивидуального проекта в виде мифология, силы. Сумма отношений, складывающихся в этой обла-
САРТР —САТИРА 557
 сти, очерченной взаимодействием и борьбой между
сти, очерченной взаимодействием и борьбой между
«человеческим» и «античеловеческим» внутри проекта,
и является, по С, источником историч. судеб людей,
скрытым двигателем истории. Но это скорее движение
судьбы. М. Мамардашвили. Москва.
С. завершил курс философии в 1929, когда разразился мировой экономич. кризис. Он был степендиатом Франц. ин-та в Берлине в 1934, когда гитлеризм угрожал миру разрушением всех человеч. ценностей. Во франц. университетской культуре тогда господствовал абстрактный идеализм Брюнсвика.
Миропонимание С. сформировалось в мире, зашедшем в тупик, абсурдном, где все традиц. ценности рухнули. Первый акт философа должен был, следовательно, быть отрицанием, отказом, чтобы выбраться из этого хаотич. мира без порядка, без цели. Отстраниться от мира, отвергнуть его — это п есть в человеке специфически человеческое: свобода. Сознание — это именно то, что не увязает «в себе», это противоположность «в себе», дыра в бытии, отсутствие, это ничто. Это сознание свободы человека есть в то же время сознание одиночества человечества и его ответственности: ничто в «Бытии» не обеспечивает и не гарантирует ценности и возможности успеха действия. Существование — это именно переживаемый опыт субъективности и тран-цендентности, свободы и ответственности. Воспроизводя формулу Достоевского «Если бога нет, все позволено», С. добавляет: «Это отправная точка экзистенциализма». Этот опыт восприятия мира, подкрепленный у С. изучением Кьеркегора, Хейдеггера и Гуссерля, нашел выражение прежде всего в его пси-хологич. этюдах и романах. Он изучает прежде всего воображение, в к-ром открывается существенный акт сознания: суть его в том, чтобы отстраниться от данного мира «в себе» и оказаться в присутствии того, что отсутствует. «Акт воображения — магический акт: это колдовство, заставляющее появиться вещь, которая желательна».
Романы С. переводят тот же опыт в план морали или политики: в «Тошноте» С. показывает, что мир не имеет смысла, «Я» не имеет цели. Через акт сознания и выбора «Я» придает миру значение и ценность. Докторская диссертация С. «Бытие и ничто» (1943) — изложение в филос. форме пережитого опыта. Отправляясь от основной идеи экзистенциализма — существование предшествует сущности,— С. пытается избежать одновременно и материализма и идеализма. Идеализма потому, что он предстает перед ним только в гегелпанской форме: «Действительность измеряется сознанием» и потому, что, следуя в этом Гуссерлю, он утверждает, что сознание есть всегда сознание чего-либо (какой-либо вещи). Материализма—потому, что, по его мнению, бытие не порождает сознание, «для себя» не может быть порождением «в себе».
В действительности концепция С. является эклектичной: он дает в качестве отправного пункта некое «в себе», о к-ром мы ничего не знаем, кроме того, что оно «нацеленное» сознанием и является его основой. Но если сознание есть цель, трещина в себе, то спрашивается, как оно могло родиться, поскольку в себе, по исходному определению, ничего не происходит.
Это противоречие С. никогда не мог преодолеть, хотя не переставал направлять к этому свои усилия. Причина этого в том, что его отправная точка глубоко индивидуалистическая. С. остается пленником экзистенциалистской, субъективистской настроенности. По причине своих исходных постулатов С. не может выйти за рамки позитивизма, агностицизма и субъективности. Даже в своей последней филос. работе «Критика диалектического разума» он противопоставляет «позитивистский разум», к-рый должен довольствоваться пределами естеств. наук, «разуму диалектическому», единственно достойному называться разумом,
поскольку он позволяет понимать, а не только предугадывать, но который применим только для наук о человеке.
В области морали С. не смог выйти за пределы своего изначального индивидуализма, позиции чистой субъективности; он может приобщиться к «другим» только «взглядом», но этот взгляд, к-рый направлен на других как на «объект», замораживает их как в мифе о медузе. Возвестив в 1943 о «морали», С. не смог ее изложить. В перспективе он может превозносить и ответственность и свободу индивидуума, но он не может ответить на вопрос, что же нужно делать с этой свободой.
Подобная концепция не согласуется ни с социальной действительностью, ни с существованием классов, ни с объективной реальностью природы. С. занял патриотич. позиции как участник Сопротивления, как и в борьбе против колониализма, и в борьбе за мир, но во имя метафизич. бунта индивидуума, а не в результате анализа действительного положения нации и классов. Каждый раз, когда надо оценить отношения класса, он не располагает для этого, эффективным критерием, отсюда, напр., несостоятельные заявления во время войны с Алжиром, затруднявшие сплочение широких масс нации для борьбы против колониалистов, отсюда его шатания между революцией и контрреволюцией в Венгрии в 1956, к-рые послужили пищей для реакц. кампаний; отсюда, наконец, его тщетные попытки установления третьей силы и после краха этих попыток его постоянное стремление искать союз скорее с группировками раскольников, чем с Ком-мунистич. партией.
Пример жизни и творчества С. показывает, как
ошибка в филос. основе создает препятствия для вся
кой эффективной политнч. деятельности и осуждает
его на то, чтобы оставаться революционером лишь
субъективно, пока он не пересмотрит свои исходные
филос. постулаты. -Р- Гароди . Франция.
С оч.: Reflexions sur la question juive, P., 1946; Theatre, P., 1947; Les chemins de la liberte, v. 1—3, P., 1946—49; Situations, v. 1—6, P., 1947—64; Les mains sales, [P., 1948]; Les sequestres d'Altona, P., [1960], в рус. пер.— Слова, [М.. 1966]; Дьявол и господь бог, «Иностр. лит-ра», 1966, Л"» 1.
Лит.: Совр. экзистенциализм, М., 1966, с. I'i9—204; С о-л о в ь е в Э. Ю., Экзистенциализм, «ВФ», 1966, № 12; 1967, № 1; L u i ] р е n W., Existential phenomenology, Pittsburg, 1960; М о u n i е г Е., Introduction aux existentialismes, [P., 1962]; Marxisme et existentialisme. Controverse sur la dialectique, [P., 1962]; Chiodi P., Sartre e il marxisme, Mil., 1965; Warnoch M., The philosophy ot Sartre, L., 1965; Colette A., Sartre et la realite humaine, [P., 1966]; J.-P. Sartre, «Livres de France», 1966, № 1, p. 3—27.
САТИРА (лат. satira) — уничтожающее осмеяние действительности, раскрывающейся в художеств, изображении как нечто превратное и внутренне несостоятельное. По классич. определению Ф. Шиллера, впервые рассмотревшего С. не как специфич. лит. жанр, а как универсальную эстетич. категорию, «в сатире действительность как некое несовершенство противополагается идеалу, как высшей реальности» («О наивной и сентимеит. поэзии», см. Статьи по эстетике, М.—Л., 1935, с. 344), причем идеал не обязательно должен высказываться непосредственно: сатирик «...борется за идеал, только не всегда его высказывая» (там же, с. 348).
Предметом С. являются не отрицат. стороны единичного реального объекта, но противоречие между идеалом и действительностью в целом; даже в эпиграм-матпчески-афористич. форме С. всегда ориентируется на создание целостной картины превратного мира, частным рефлексом к-рого оказывается непосредств. объект сатирич. изображения.
В отличие от внехудожеств. критики и полемики, осн. методом к-рых является логич. доказательство и опровержение, отрицание действительности в С. реализуется в образной структуре, стиле, интонации
558
САУТРАНТИКА — СВЕДЕНБОРГ
 произведения — как непосредственно созерцаемое саморазоблачение действительности в художеств, образе. Только таким, специфически эстетич. путем осуществляется этич. тенденция С. Идеал как постоянно опровергаемая наличной действительностью возможность лучшего вырисовывается в С. лишь из по-следоват. развенчания и эстетич. уничтожения несостоятельной в своих ложных притязаниях действительности. См. Комическое.
произведения — как непосредственно созерцаемое саморазоблачение действительности в художеств, образе. Только таким, специфически эстетич. путем осуществляется этич. тенденция С. Идеал как постоянно опровергаемая наличной действительностью возможность лучшего вырисовывается в С. лишь из по-следоват. развенчания и эстетич. уничтожения несостоятельной в своих ложных притязаниях действительности. См. Комическое.
Лит.: Б о р е в IO. Б., С, в кн.: Теория лит-ры, [кн. 2], М., 1964, с. 363—407; Pannenborg W. A., Ecrivains satiriques, P., 1955; Baum G., Humor und Satire in der biirgerlichen Asthetik, В., 1959; EIliottR. С, The power of satire, Princeton, 1960; Arntien H., Deutsche Satire im 20. Jahrhundert, в кн.: Deutsche Literatur im 20. Jahrhundert, Bd 1, Hdlb., [1961], S. 224—55; Highet G., The anatomy of satire, Princeton, 1962; Satire: theory and practice, ed. C. A. Allen, G. D. Stephens, Belmont, [1962]; Lazarowicz K., Verkehrte Welt, Tubingen, 1963.
САУТРАНТИКА — одна из восемнадцати религ. филос. школ хинаянистского буддизма (см. Хинаяна). Ее возникновение нек-рые ученые приурочивают к 200 до н. о., другие — к 200 н. э. Скептически относясь к схоластич. распрям множества школ, на к-рые разделились последователи Будды, саутрантики отрицали аутентичность филос. трактатов Абхидхадрмы— третьей «корзины» буддийского канона Трипитаки, считая бесспорно авторитетной только Сутрапитаку (отсюда и название школы). Оригинальные произв. саутрантиков не сохранились. Гл. источником для изучения этой школы, как и мн. др. буддийских школ, является своего рода буддийская энциклопедия, написанная философом Васубандху (4 в. н. э.) под назв. «Абхидхармакоша».
Одним из осн. теоретич. затруднений буддийских схоластов было противоречие между отрицанием существования вечной души и признанием существования воздаяния (кармы) и спасения (нирваны). В качестве решения этого противоречия саутрантики предлагают неуязвимое «семя добра», к-рое существует с незапамятных времен, никогда не изменяет свою сущность, пребывает в нас всю нашу жизнь и ведет нас к нирване; наряду с «семенем добра» саутрантики вынуждены ввести также противоположное начало — «семя зла», под к-рым они имеют в виду «врожденную способность порождать (новую) страсть как следствие прошлой страсти». С помощью понятий «семени добра» и «семени зла», к-рые представляют собой внутр., «нерушимые» элементы (дхармы), саутрантики пытаются объяснить, как существуют воздаяние и спасение.Причем они считают, что эти дхармы не могут быть уничтожены, они сохраняются как «семя», к-рое прорастает при благоприятных условиях. Эти теоретич. построения впоследствии находят завершение в понятии «сокровищницы сознания» (alaya-vijnana) Асанги — основателя школы йогачар.
В отличие, напр., от сарвастивадинов (представители сарвастивады, см. Вайбхашика), утверждавших, что материальные и духовные дхармы реально существуют, а «семя», к-рое ни тождественно мысли, ни отлично от нее, существовать не может, саутрантики считали, что, помимо «внутренних» дхарм, реально существуют лишь мгновенные дхармы, а все то, что обладает длительностью, существует лишь номинально. Общие понятия — лишь полезные выдумки, умственные построения (prajnapti), пригодные для описания явлений, к абс. реальности они не применимы. Понятия относятся к сфере рассуждения, абсолютная же реальность постигается не путем рассуждений, а путем медитации. Саутрантики отрицали реальное существование нирваны, к-рая, являясь, по их мнению, простым отсутствием действий, не может быть познана ни путем прямого восприятия, ни путем логич. вывода. Сопоставляя С. с сарвастивадой и нек-рыми др. школами буддизма, можно сделать
вывод, что т. зр. саутрантиков сходна со ср.-век. номинализмом. Из всех хинаянистских школ С. оказала наибольшее влияние на махаянистское направление в буддизме (см. Махаяна ).
Лит .: Vasubandhu, L'Abhidharmakosa, [t. 1 — 6],
P.— Louvain, 1923—31; Frauwallner E., Die Phi-
losophie des Buddismus, В., 1956; С о n z e Ed., Buddhist
thought in India, L., 1962. И. Нутасова. Москва.
СВАЧЯН, Арутюн (1831 — 74) — арм. просветитель и демократ, взгляды к-рого сложились под ие-посредств. влиянием идей Налбаидяна. Газета «Мегу», основанная С. в Константинополе в 1856, в короткий срок стала одним из наиболее авторитетных органов арм. демократия, печати. На страницах «Мегу» пс-репечатывались наиболее важные произведения Налбаидяна. В своих публицистич. статьях, печатавшихся в «Мегу», С. активно выступал против тур.-арм. вельмож и либералов, боролся за демократич. разрешение арм. вопроса, за нац. воссоединение арм. народа и его освобождение от чужеземного ига.
Лит.: Очерки по истории филос. и общественно-политич. мысли народов СССР, т. 2, М., 1956, с. 776—77.
СВЕДЕНБОРГ (Swedenborg), Эмануэль (29 янв. 1688—29 марта 1772) — швед, теософ. С 1729—член Науч. общества в Упсала, с 1734 — почетный член Петербургской Академии наук.
В первый период своей жизни С. занимался физико-математич. науками и горным делом. В 30-х годах опубликовал ряд филос. трактатов («Opera philosophica et mineralia», t. 1 — 3, Dresdae— Lipsiae, 1734; «Prodro-mus philosophiae ratiocinantis de infinito et causa finali creationis, deque mechanismo operationis, ani-mae et corporis», Dresdae — Lipsiae, 1734), в к-рых пытался геометрич. путем построить систему мироздания. Эту систему он распространил и на человека («Oeconomia Regni Animalis»,pt 1—2, Londini — Amstelodami, 1740—41; «Regnum animale», Hagae, 1744).
В 40-х годах («De cultu et amore Dei», pt 1—2, L., 1745) С. впал в мистицизм и оккультизм, объявил себя «духовидцем», призванным самим Христом дать истинное толкование Библии и основать церковь «нового Иерусалима» (см. в рус. пер.: «Избр. соч.», вып. 1, Лондон, 1872; «О небесах, о мире духов и об аде», Лейпциг, 1863). Согласно С, человек по своей сути есть дух, общающийся с добрыми или злыми духами. Естеств. мир., по С, соответствует духовному, ибо естеств. мир возникает из духовного и оба они происходят из божественного.
С. до сих пор является авторитетом для спиритов (см. Спиритизм). В Англии и Сев. Америке после смерти С. образовались общины его последователей. Он оказал известное влияние на Эмерсона (см. Р. Эмерсон, Избранники человечества, [М., 1912]). Кант в работе «Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики» (Konigsberg, 1765, рус. пер., в кн.: И. Кант, Соч., т. 2, М., 1964) подверг остроумной критике-мис-тич. вымыслы С. о возможности «общения с духами».
Соч.: Autographa [фототипич. факсимиле рукописей], t. 1—18, Holmia, 1901 — 16.
Лит.: Краткая биография Эм. Веденборга [Сведенббрга], [б. м.], 1870; Zimmermann R., Kant und der Spiritis-mus, W., 1879; Schlieper H., E. Swedenborgs System der Naturphilosophie..., В., [1901] (Diss.); Hoffmann R. A., Kant und Swedenborg, Wiesbaden, 1909; В у s e C, Swedenborg, v. 1—5, [Lausanne], 1911—13; Trobridge G. A., Life of E. Swedenborg..., L., 1912; Lamm M. G., Swedenborg, Lpz., 1922; Block M. (В е с k), The new church in the new world. A study of Svedenborgianism in America, N. Y., [1932]; M a 1 t z a h n H., E. Swedenborg. Sein Werk, sein Weg, scin Weltbild, Lpz., 1939; В e n z E., Swedenborg in Deutsch-land, Fr./M., 1947; Sigstedt С. С, The Swedenborg epic. The life and works of E. Swedenborg, N. Y., 1952; S с h m i-e 1 e W., Skandinavische Geisteswelt. Von Swedenborg bis Niels Bohr, Darmstadt—Genf, [1954]; Hyde J., A bibliography of the works of E. Swedenborg, L., 1906.
А. Мысливчепко. Москва.
СВЕТИЛИН —СВОБОДА 559
 СВЕТЙЛИН, Александр Емельянович (1842—87) — рус. логик, проф. Петерб. духовной академии, испытал определ. влияние Линднера. Его «Учебник логики» меньше чем за полвека (1871—1916) выдержал 14 изданий и был наиболее распространенным руководством в уч. заведениях дореволюц. России. Сущность познават. деятельности человека С. сводил к двум осн. противоположным процессам: различению и отождествлению. Логику С. определял как науку о правильных способах сочетания мыслей и об общих средствах, позволяющих отличать правильное убеждение от ложного и делил на две части: чистую логику, изучающую законы и формы мышления, и прикладную логику, изучающую правила приложения чистой логики к действиям мышления. Мышления законы (в традиционном формально логическом их понимании) С. считал такими началами, к-рыми определяется логич. состоятельность каждого действия мышления, в какой бы форме оно ни происходило. Закон тождества, по мнению С, относится к содержанию мыслей и требует, чтобы, принимая (отвергая) одну из неск. мыслей одинакового содержания, принимали (отвергали) и остальные. Др. словами, согласно этому закону, все, что служит доказательству (опровержению) одной мысли, служит доказательству (опровержению) всех др. мыслей, содержательно равных ей. Закон противоречия определяется С. как отрицат. форма тождества. Согласно этому закону, тождеств, мысли должны быть утверждаемы или отрицаемы все, коль скоро принята или (соответственно) отвергнута одна из них. Дополнением к закону противоречия является закон исключенного третьего. Для понимания взглядов С. на логику представляет интерес его анализ книги «Логика» М. Владиславлева (см. «Журн. М-ва нар. просвещения», 1874, № 8, 10; 1875, № 5).
СВЕТЙЛИН, Александр Емельянович (1842—87) — рус. логик, проф. Петерб. духовной академии, испытал определ. влияние Линднера. Его «Учебник логики» меньше чем за полвека (1871—1916) выдержал 14 изданий и был наиболее распространенным руководством в уч. заведениях дореволюц. России. Сущность познават. деятельности человека С. сводил к двум осн. противоположным процессам: различению и отождествлению. Логику С. определял как науку о правильных способах сочетания мыслей и об общих средствах, позволяющих отличать правильное убеждение от ложного и делил на две части: чистую логику, изучающую законы и формы мышления, и прикладную логику, изучающую правила приложения чистой логики к действиям мышления. Мышления законы (в традиционном формально логическом их понимании) С. считал такими началами, к-рыми определяется логич. состоятельность каждого действия мышления, в какой бы форме оно ни происходило. Закон тождества, по мнению С, относится к содержанию мыслей и требует, чтобы, принимая (отвергая) одну из неск. мыслей одинакового содержания, принимали (отвергали) и остальные. Др. словами, согласно этому закону, все, что служит доказательству (опровержению) одной мысли, служит доказательству (опровержению) всех др. мыслей, содержательно равных ей. Закон противоречия определяется С. как отрицат. форма тождества. Согласно этому закону, тождеств, мысли должны быть утверждаемы или отрицаемы все, коль скоро принята или (соответственно) отвергнута одна из них. Дополнением к закону противоречия является закон исключенного третьего. Для понимания взглядов С. на логику представляет интерес его анализ книги «Логика» М. Владиславлева (см. «Журн. М-ва нар. просвещения», 1874, № 8, 10; 1875, № 5).
Н. Кондаков. Москва. СВЕТЛОВ, Василий Иосифович (19 авг. 1899—11 авг. 1955) — сов. философ, профессор (с 1939), д-р фплос. наук (с 1952). Член КПСС с 1926. Окончил Академию коммунистич. воспитания (1930) и ИКП философии (1936). С 1930 преподавал историю и философию в вузах Москвы. В 1944—46 — директор Ин-та философии и одновременно зав. кафедрой истории заи.-овроп. философии в МГУ, в 1946 — 52 — зам. министра высшего образования СССР, с 1953 — зам. директора Ин-та истории искусств АН СССР. Вел науч. работу по проблемам истории античной, зап.-европ. и марксистско-ленинской философии, а также исто-рич. материализма.
Соч.: Брак и семья при капитализме и социализме, М.,
1939; Античная философия, в кн.: Краткий очерк истории
философии, М., 1940; Формирование филос. взглядов Маркса
и Энгельса, М., 1946; Мировоззрение Лукреция, (К двухтыся
челетию со дня смерти), в кн.: Общее собрание АН СССР 15 —19
января 1946 г., М.—Л., 1946; Возникновение марксизма —
революц. переворот в философии, М., 1948 (совм. о Т. И. Ойзер-
маном). А. Калинина. Москва.
СВИДЁРСКИЙ, Владимир Иосифович [р. 18 аир. (1 мая) 1910] — сов. философ, д-р филос. наук (с 1956), проф. (с 1956). Чл. КПСС с 1929. Окончил физич. ф-т Ленингр. ун-та (1936). Преподает философию с 1940. Зав. кафедрой философии естеств. ф-тов ЛГУ. Работает над проблемами диалектич. материализма и филос. вопросами естествознания (проблемы движения, пространства и времени, бесконечности, элементов и структуры развития и др.).
Соч.: Филос. значение пространственно-временных представлений в физике, Л., 1956; О диалектико-материалистиче-ском понимании противоречивости бесконечности, «Вестн. ЛГУ. Сер. экономики, философии и права», 1956, вып. 1, Лг» 5; Пространство и время, М., 1958; Противоречивость движения и ее проявления, Л., 1959; Вступ. ст. и примечания (совм. с Г. Кребером), в кн.: Лейбниц Г. иКларк С., Полемика Г. Лейбница и С. Кларка по вопросам философии и естествознания. (1715 —1716), Л., 1960; О диалектике элементов и структуры в объективном мире и в познании, М., 1962; Диалектический материализм об общих свойствах дви-
жения материи, в кн.: Философские вопросы совр. учения о движении в природе, Л., 1962; О противоречивости механического движения, «ФН» (НДВШ), 1962, № 5; Нек-рые особенности развития в объективном мире, Л., 1964; Нек-рые вопросы диалектики изменения и развития, М., 1965.
СВОБОДА — осознанная необходимость и действия человека в соответствии со своими знаниями, возможность и способность выбора в своих действиях. На познании и использовании объективных законов покоится и С. людей по отношению к природе, возрастающая по мере науч. и технич. прогресса.
Проблема С. традиционно сводилась к вопросу, обладает ли человек свободой воли.
Марксизм исходит из того, что историч. необходимость, к-рая в конечном счете является результатом обществ, деятельности людей, включает в себя С. выбора ими и целей, и средств их достижения в более или менее широких пределах, допускаемых объективными условиями их существования. Считая обществ, развитие естественноисторич. процессом, Маркс и Энгельс вместе с тем категорически возражали против изображения его в виде неотвратимого пути, по к-рому с фатальной неизбежностью должно следовать все человечество, где исключена какая бы то ни было случайность и в каждый данный момент осуществима только одна реальная возможность, так что у людей не остается никакой иной С, кроме как осознать необходимость лишь одного определ. способа действия и добровольно ей подчиниться.
В повседневной практич. деятельности люди сталкиваются не с абстрактной необходимостью как таковой, а с ее конкретно-историч. воплощением в виде реально существующих социальных и экономич. отношений, к-рые обусловливают круг их интересов, а также в виде материальных ресурсов, к-рыми они располагают в качестве средств для достижения поставленных целей. Люди не вольны в выборе объективных условий своей деятельности, однако они обладают известной С. в выборе целей, поскольку в каждый данный, момент обычно существует не одна, а неск. реальных возможностей, хотя и с разной долей вероятности; даже тогда, когда такой альтернативы нет, они в состоянии замедлить наступление не желаемых для них явлений либо ускорить приближение желаемых. Наконец, они более или менее свободны и в выборе средств: к одной и той же цели можно идти разными путями. С, следовательно, не абсолютна, а относительна и претворяется в жизнь путем выбора определ. плана действия. Она тем больше, чем лучше люди сознают свои реальные возможности, чем больше средств для достижения поставленных целей находится в их распоряжении, чем в большей мере совпадают их интересы со стремлениями больших масс людей, обществ, классов и с объективными тенденциями обществ, прогресса. Отсюда вытекает марксистское положение о С. как «познанной необходимости», согласно которому С. личности, коллектива, класса, общества в целом заключается «не в воображаемой независимости» от объективных законов, но в способности выбирать, «...принимать решения со знанием дела» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1966, с. 112).
С. отнюдь не равнозначна произволу. Человек свободен в своих мыслях и поступках вовсе не потому, что они причинно ничем не обусловлены. Причинная обусловленность человеч. мыслей, интересов, намерений и поступков не отменяет С.— они не детерминированы однозначно. Под воздействием одних и тех же причин в одинаковой социальной среде люди могут мыслить и действовать различно, сообразуясь с целями, к-рые они преследуют. Независимо от происхождения их целей и намерений люди обладают С. постольку, поскольку они сохраняют реальную возможность выбора и предпочтения, к-рая объективно
ЙШ
СВОБОДА
 соответствует их интересам, поскольку внешние обстоятельства не вынуждают их поступать вопреки их личным интересам и потребностям. Абстрактной С. вообще не существует. С. всегда конкретна и относительна. В зависимости от объективных условий и конкретных обстоятельств люди могут обладать С. или же быть лишены ее; они могут обладать С. в одних сферах деятельности и быть лишены ее в других; наконец, и степень их С. может быть весьма различной — от С. в выборе целей через С. в выборе средств до С. приспособления к действительности.
соответствует их интересам, поскольку внешние обстоятельства не вынуждают их поступать вопреки их личным интересам и потребностям. Абстрактной С. вообще не существует. С. всегда конкретна и относительна. В зависимости от объективных условий и конкретных обстоятельств люди могут обладать С. или же быть лишены ее; они могут обладать С. в одних сферах деятельности и быть лишены ее в других; наконец, и степень их С. может быть весьма различной — от С. в выборе целей через С. в выборе средств до С. приспособления к действительности.
В реальной действительности С. присутствует в необходимости в виде непрерывной цепи С. выбора, к-рая осуществлена людьми в прошлом и привела общество к его данному состоянию, в свою очередь, и необходимость присутствует в С. в виде объективных обстоятельств и не может претвориться в жизнь иначе, как благодаря свободной деятельности людей. Историч. детерминизм, следовательно, не отрицает С. выбора в обществ, деятельности людей, но предполагает ее и включает в себя как ее результат.
С. в ее диалектико-материалистич. понимании принадлежит большая роль в постулат, развитии общества. Свободная сознат. деятельность, по определению Маркса, составляет родовой признак человека, выделяющий его среди животных, а сама С, к-рой обладают люди в каждую данную эпоху, является необходимым продуктом историч. развития. «Первые выделившиеся из животного царства люди были во всем существенном так же несвободны, как и сами животные; но каждый шаг вперед по пути культуры был шагом к свободе» (там же). Несмотря на все противоречия и антагонистич. характер обществ, развития, оно сопровождается в общем и целом расширением рамок С. личности и в конечном итоге ведет к освобождению человечества от социальных ограничений его С. в бесклассовом коммунистич. обществе, где «...свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 4, с. 447). Если объем человеч. С. может служить мерой обществ, прогресса, то, в свою очередь, его темпы непосредственно зависят от степени С, к-рой располагают люди в процессе своей деятельности: чем большее количество людей может свободно развивать свои творческие способности, делать свой вклад в развитие цивилизации и одновременно свободно пользоваться ее плодами, тем быстрее совершается поступят, развитие человечества.
Мера С, к-рой в каждую конкретную историч. эпоху обладают люди, в общем и целом определяется уровнем развития производит, сил, уровнем познания ими объективных процессов в природе и обществе, наконец, социальным и политич. строем данного общества, обусловливающим фактич. распределение реальной С. между различными обществ, классами, социальными группами и отд. личностями. С. личности всегда представляет собой лишь часть С, к-рой располагает данное общество в целом. И в этом смысле, как отмечал Ленин, опровергая анархия, ин-дивидуалистич. концепции С. личности, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» (Соч., т. 10, с. 30).
Рост производит, сил и накопление знаний на протяжении истории человечества, однако, далеко не сопровождались равномерным увеличением С. всех и каждого. В антагонистич. обществе разделение труда, частная собственность на средства произ-ва и раскол общества на антагонистич. классы обусловливают господство партикулярных интересов и стихийно действующих процессов, выходящих из-под контроля людей и сопровождающихся социальными бедствиями. В таких условиях С. одних выступает как
социальное и индивидуальное ограничение С. других и противостоит ей как внешняя необходимость. С. выбора, осуществленная прежними поколениями, превращается в необходимость для каждого последующего в виде предвидимых и непредвиденных последствий их деятельности; в социальном отношении С. господствующего класса распоряжаться собственностью, материальными богатствами и знаниями оборачивается для эксплуатируемого класса необходимостью трудиться ради обогащения других и выполнять чужую волю; во взаимоотношениях между отд. личностями индивидуальная С. одних подрывается произволом других поступать по своему усмотрению. Мерой индивидуальной С. становятся размеры частной собственности и обусловленная этим возможность распоряжаться материальными и духовными благами. При этом ущемляется не только С. подавляющей массы людей, одновременно происходит колоссальная растрата материальных и людских ресурсов данного общества. С. антагонистич. общества по отношению к природе, в определении путей всего дальнейшего развития и т. п. оказывается ниже его потенциальной С, зависящей от наличных материальных ресурсов и накопленных знаний.
«...Личная свобода существовала только для индивидов, развившихся в рамках господствующего класса, и лишь постольку, поскольку они были индивидами этого класса» (М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 2 изд., т. 3, с. 75). В свою очередь, и их С. была относительной: они также находились во власти стихийных обществ, закономерностей, их С. основывалась на привилегии максимально использовать благоприятное стечение обстоятельств. «Это право беспрепятственно пользоваться, в рамках известных условий, случайностью называли до сих пор личной свободой» (там же, с. 76). Стремясь экспроприировать в свою пользу по возможности всю С, к-рой потенциально обладало общество в целом, правящий класс в антагонистич. обществе всегда максимально регламентировал поведение всех остальных людей различными кастовыми, сословными, иерархич., правовыми и др. нормами социальными. Такая возведенная в закон необходимость поведения большинства людей становится условием С. и произвола привилегированного меньшинства. Вследствие этого объективные возможности С. далеко не всегда реализовывались в соответствующих им социальных и политич. формах и в зависимости от исхода обществ, конфликтов в одни и те же историч. эпохи могли возникать как демократия., так и тиранич. режимы (напр., Афины и Спарта в античности, бурж. республика и фашизм в 20 в.).
На протяжении всей истории человечества борьба людей против кастовых, сословных, классовых и др. социальных ограничений своей С, в какие бы идеоло-гич. формы она ни облекалась, была могучей движущей силой обществ, прогресса. На протяжении веков требования С. и равенства были взаимно обусловлены, хотя обосновывались идеологами различных классов по-разному. Накануне бурж. революций в Зап. Европе и Сев. Америке они были провозглашены как естественное право всех людей в равной мере пользоваться достижениями цивилизации и распоряжаться плодами своего труда и своей судьбой. Под лозунгом «свобода, равенство, братство!» прогрессивная буржуазия повела за собой нар. массы на борьбу против феодализма. Однако эти принципы неосуществимы в условиях капиталистич. общества. Сословные ограничения С. нар. масс и личности были уничтожены в результате бурж. революций и последующей борьбы трудящихся. Однако еще больше определились ограниченные экоиомич. и социальные рамки С. в антагонистич. обществе.
СВОБОДА
561
 История капиталистич. общества опровергла бурж. доктрины С, в частности популярную в 19 в. бурж.-либеральную концепцию И. Бентама и Дж. С. Мил-ля, к-рые полагали, будто макс, ограничение сферы деятельности гос-ва, свободное распоряжение людьми своей частной собственностью и преследование каждым своих разумных интересов будет сопровождаться всеобщим благом и расцветом индивидуальной С. всех членов общества.
История капиталистич. общества опровергла бурж. доктрины С, в частности популярную в 19 в. бурж.-либеральную концепцию И. Бентама и Дж. С. Мил-ля, к-рые полагали, будто макс, ограничение сферы деятельности гос-ва, свободное распоряжение людьми своей частной собственностью и преследование каждым своих разумных интересов будет сопровождаться всеобщим благом и расцветом индивидуальной С. всех членов общества.
Даже в самых развитых капиталистич. странах С. личности в значит, мере остается формальной, а те реальные права, к-рых нар. массы добились в ходе упорной борьбы, испытывают постоянные посягательства со стороны реакц. нмпериалистич. буржуазии.
Лозунг «С.» широко используется идеологами реакц. буржуазии в пропагандистских целях, поскольку он обладает неотразимой привлекательностью в глазах широких нар. масс. Именно этим объясняется, напр., применение лозунга «свободный мир» для обозначения капиталистич. Запада, слова «С.» в самых различных сочетаниях наиболее реакц. орг-циями в целях саморекламы. Многие бурж. идеологи, напр. М. Фридман, Г. Уоллич, Ч. Уайтейкер и др., ныне открыто противопоставляют С. и равенство; на Западе получила также распространение концепция т. н. иерархии ценностей (Р. Арон, Дж. Бёрнхем и др.), к-рая сводится к попытке доказать, будто С. стоит на первом месте в списке ценностей «западной» цивилизации и на одном из последних у коммунистов. Наряду с этим среди ми. бурж. философов, социологов и экономистов, придерживающихся различных технократич. концепций, наблюдается тенденция умалить значение С. в обществе; по их мнению, индивидуальная С. по мере развития общества будет уменьшаться во всех сферах; человек будет обладать все меньшей С. как производитель и все большей С. как потребитель товаров массового произ-ва и услуг. В историч. перспективе, однако, расширение С.— это диалектический и необратимый процесс, развивающийся в направлении последовательного социального и нац. освобождения человечества. В ходе этого процесса уже достигнутая С. распространяется на все больший круг людей и народов; формальная С. становится все более реальной; политич. С. дополняется социальной С. и т. п. В конечном счете то общество, к-рое оказывается не в состоянии обеспечить С. большинству своих членов, объективно возможную при достигнутом им уровне произ-ва и знаний, рано или поздно вынуждено уступить место другому, более прогрессивной форме обществ, организации, удовлетворяющей этому требованию.
Объективные условия подлинной С. реализуются только в результате ликвидации антагонистич. отношений между людьми, порожденных частной собственностью. Когда на смену стихийным процессам в обществе приходит планомерное развитие, в значит, мере исключающее непредвиденные экономил, и социальные последствия, обществ, деятельность людей становится подлинно свободным и сознат. историч. творчеством. Вместе с тем для того чтобы в полной мере была достигнута индивидуальная С, цели, к-рые ставит перед собой каждая отд. личность, должны согласовываться с интересами остальных составляющих общество людей. Равенство становится необходимым условием и социальной основой индивидуальной С, а сама С. личности в свою очередь способом реализации равенства в практич. деятельности. Одновременно с этим каждый член общества должен обладать реальными возможностями для всестороннего и полного развития заложенных в нем способностей и талантов, свободным доступом к накопленному человечеством опыту, знаниям и остальным духовным ценностям, а также достаточным свободным временем для
овладения ими. Человек никогда не сможет выйти за пределы своих физич. и духовных способностей, а также историч. ограничений С. общества; однако его индивидуальная С. может быть умножена благодаря индивидуальной С. солидарных с ним остальных членов такого общества, и в меру своих способностей и знаний он может в возрастающей степени становиться носителем той совокупной С, к-рой располагает общество в целом.
Социалистич. революция кладет начало этому процессу освобождения людей во всех сферах жизни общества. Он протекает все ускоряющимися темпами вместе с бурным ростом производит, сил, развитием научно-технич. революции, совершенствованием эко-номич. и социальных отношений, утверждением нар. самоуправления, всеобщим культурным подъемом и завершается в коммунистич. обществе. В коммунистич. обществе «объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль самих людей. И только с этого момента люди: начнут вполне сознательно сами творить свою историю, только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в преобладающей и все возрастающей мере и те следствия, которых они желают. Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы» (Э н-гельс Ф., Анти-Дюринг, 1966, с. 288).
В коммунистич. обществе С. воплотится в создании необходимых условий для всестороннего гармо-нич. развития личности. Историч. необходимость окажется «снятой» индивидуальной С. и, как отмечал Маркс, при коммунизме, по ту сторону царства необходимости, «.. .начинается развитие человеческой силы, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвесть лишь на этом царстве необходимости, как на своём базисе» («Капитал», т. 3, 1955, с. 833).
Лит.: Маркс К., Энгельс Ф., Нем. идеология,
Соч., 2 изд., т. 3; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там же,
т. 20, отд. 1, гл. 11, отд. 2, гл. 2; отд. 3; е г о же, Людвиг
Фейербах и конец классич. нем. философии, там же, т. 21,
гл. 4; е г о же, Происхождение семьи, частной собствен
ности и гос-ва, там же, гл. 5; его же, [Письма И. Блоху,
Ф. Мерингу, К. Шмидту, Г. Штаркенбургу], в кн.: Маркс К.
и Энгельс Ф., Избр. письма, М., 1953; Маркс К., Эко-
номико-филос. рукописи, в кн.: Маркс К., Энгельс Ф.,
Из ранних произв., М., 1956; Ленин В. П., Что такое
«друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?,
Соч., 4 изд., т. 1; его ж е, Материализм и эмпириокрити
цизм, там же, т. 14, гл. 3; е г о же, Государство и революция,
там же, т. 25; О преодолении культа личности и его послед
ствий, в кн.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК, ч. 4, М., 1960; Программа КПСС (При
нята XXII съездом КПСС), М., 1961; Программные документы
борьбы за мир, демократию и социализм, М.,1961;ФишерК.,
О С. человека, пер. с нем., СПБ, 1900; М и л л ь Дж. С т.,
О С, пер. с англ., СПБ, 1901; Гегель, Соч., т. 8, М.—Л.,
1935; Г а р о д и Р., Грамматика С, пер. с франц., М., 1952;
его же, Марксистский гуманизм, пер. с франц., М., 1959;
Л а м о н т К., С. должна быть свободой на деле, пер. с англ.,
М., 1958; Я наг и да К., Философия С, пер. с япон., М.,
1958; Аптекер Г., О сущности С, пер. с англ., М., 1961;
Давыдов Ю. Н., Труд и С, М., 1962; Г о л ь б а х П. А.,
Система природы..., Избр. произв., т. 1, М., 1963, ч. 1, гл. 11;
Г о б б с Т., О С. и необходимости, Избр. произв., т. 1, М.,
1964; его же, Левиафан..., там же, т. 2, М., 1964, гл. 21;
Коммунисты и демократия. (Материалы обмена мнениями),
Прага, 1964; Николаева Л. В., С.— необходимый про
дукт историч. развития, М., 1964; Н и р и н г С, С: обеща
ние и угроза, пер. с англ., М., 1966; К а 1 1 е n H. М. [ей.],
Freedom in the modern world, N. Y., 1928; Promm E.,
Escape from freedom, N. Y.— Toronto, 1941; Sartre J.-P.,
L'existentialisme est un humanisme, P., 1946; Acton J. F.,
The history of freedom, Boston, 1948; Siesman D.. Lonely
crowd, New Haven, 1950; Walker P. G., The restatement
of liberty, L., 1951; M а с К е о n R., Freedom and history,
N. Y., 1952; Garaudy R,, La liberte, P., 1955; его же,
Perspectives de 1'homme, P., 1959; Dobzhansky Th. G.,
Biological basis of human freedom, N. Y., 1956; К a h 1 e r E.,
The tower and the abyss, L., 1958; A d 1 er M. J., Idea of freedom,
v. 1—2, N. Y., 1958; Wallich H., Cost of freedom, N. Y.,
1960; Friedman M., Capitalism and freedom, Chi., 1962;
Gurvitch G., Determinismes sociaux et liberte humaine,
2 ей ., P., 1963; К о s 1 k K., Dialektika konkretniho, 2 wyd.,
Praha, 1963. 9. Араб-оглы. Москва.
562
СВОБОДА
 У природы есть история. У человека также. Тот фант, ято каждая наука стремится стать исторической и открыть законы развития, факт исторического единства знания ни в коей мере не исключает несводимости исследуемых областей, специфики различных его уровней.
У природы есть история. У человека также. Тот фант, ято каждая наука стремится стать исторической и открыть законы развития, факт исторического единства знания ни в коей мере не исключает несводимости исследуемых областей, специфики различных его уровней.
По своей природе человек обладает одновременно свойствами непрерывности и прерывности. Если признают, что существует только непрерывность, мы имеем дело с механистич. материализмом. Если признают, ято существует только прерывность, мы имеем дело со спиритуализмом.
Для Маркса существуют непрерывность и прерывность. Человек — часть природы. Но человеч. история имеет свои специфич. законы. Ограничимся лишь одним примером: отчуждение и его преодоление существует и осознается только на человеч. уровне становления.
Человек не может быть сведен к совокупности условий его существования.. Его нельзя рассматривать как механич. производное этой совокупности. Исто-рич. материализм не допускает ни редукции, ни дедукции. Сведение высшего к низшему есть не что иное, как определение механистич. материализма. Особенность диалектики и материализма, к-рый она воодушевляет, состоит именно в том, что она учит нйе понимать, что целое всегда отлично от суммы элементов, его составляющих. И это верно для любого уровня.
Осн. идея марксизма, что люди сами творят свою историю в определенной, обусловливающей их среде, не может согласоваться с идеей, что в истории существуют только эпифеномены экономики, автоматич. действие экономич. положения. Это концепция вульгарного материализма, механицизма, являющегося антиподом диалектики.
Внутр. необходимость может проявляться только в бесконечности случайностей, к-рые являются единств, формой существования необходимости в истории.
«...История,— писал Маркс,— носила бы очень мистический характер, если бы „случайности" не играли никакой роли» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 33, с. 175).
Необходимость в человеч. истории, по Марксу, облечена в две осн. формы: это внешняя необходимость, к-рая выражает отчуждение, и внутр. необходимость, в к-рой находит выражение борьба за преодоление отчуждения. В мире отчужденном, где господствует гл. обр. внешняя необходимость, человек стремится к тому, чтобы не быть только лишь звеном в сцеплении вещей и событий. Этот род необходимости господствует, напр., в развитии капитализма — строя, при к-ром люди из-за отчуждения, вытекающего из частной собственности на средства произ-ва, используются как вещи, человек является объектом истории. Когда же Маркс, напротив, говорит о необходимом пришествии социализма, то речь идет о необходимости более глубокой: это не внешняя необходимость развития системы, в к-рой человек, третируемый как вещь, отсутствует, но о необходимости внутренней, в к-рой человек участвует в решении поставленной задачи: победа социализма не придет сама собой, в силу какой-то необходимости, присущей самим вещам, как если бы рабочий класс толкала к этому единственно сила инерции механизмов в системе капитала. Этот механистич. детерминизм всегда приводил к реформизму, к идее постепенно развивающегося и автоматич. врастания капитализма в социализм.
Диалектич. необходимость революц. отрицания — полная противоположность механич. необходимости. Последняя совершается без меня, тогда как первая требует моего участия. Одна учит пассивности и покорности, другая пробуждает энергию и историч.
инициативу. Чисто внешняя необходимость представляет собой поле возможностей; однако она совершенно исключает нек-рые возможности: так, напр., исключается возврат от капитализма к феод, режиму, так же как и возврат от монополистич. капитализма к капитализму либеральному. Но она не навязывает никакого выбора: сказать, что пришествие социализма на данном этапе развития капитализма является необходимым, не означает, что он наступит независимо от нас. Это означает, что противоречия капитализма по своей природе таковы, что могут быть разрешены только упразднением капиталистич. собственности на средства производства и переходом к социализму. Но если мы не осознаем этой необходимости или если мы дезертируем, уклоняясь от решения задач, к-рые это осознание на нас возлагает, или даже если, обладая этим сознанием и взяв на себя ответственность за решение этих задач, мы допустим множество ошибок в стратегии и тактике, противоречие может длиться и, не будучи решено, приведет к застою и загниванию истории, отмеченным потрясениями и катастрофами (кризисами, войнами и т. д.), с необходимостью вытекающими из этого неразрешенного противоречия.
Классовое сознание — необходимое условие завоевания С. Свобода для Маркса, как и для Гегеля, есть преодоление отчуждения. Но если у Гегеля и Фейербаха это преодоление осуществляется только в сознании, у Маркса оно требует реального преобразования мира. У Маркса отчуждение—это не только раздвоение человека, но и социальная действительность, реальность классов и их антагонизма. Итак, проблема С. для Маркса это не только индивидуальная, ио историч. и социальная проблема, проблема класса. Эта проблема внутренне тесно связана с революц. задачами пролетариата. То или иное понимание С. всегда выражает классовую позицию того, кто его исповедует.
Для буржуазии С.— это сохранение режима «свободного предпринимательства», для пролетариата — это разрушение этого режима. Господствующие классы всегда называют тиранией и уничтожением С. упразднение их классовых привилегий. Каждый класс отождествляет С. с охраной своих классовых интересов..
Дорога С. пролегает через диктатуру пролетариата. Коммунизм тождествен с пришествием истинной С. Он кладет конец отчуждению и иллюзиям, к-рые порождаются этим отчуждением. Сущность бурж. иллюзий о С. состоит в отождествлении С. со случайностью и иррациональностью. Это имеет свои корни в самой природе капитализма. В конкуренции сама личность есть случайность, а случайность есть личность (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, там же, т. 3, с. 77).
Закономерность бурж. общества — анархия, индивидуалистский закон джунглей, к-рый утверждает порабощение и угнетение неимущего, а «демократич.» иллюзии служат прикрытием для существующего рабства. То, что видит индивидуум,— это лишь видимость законного права, тогда как реальная игра привилегии протекает в нек-ром роде за его спиной.
Каждый продавец и каждый покупатель считает себя свободным, но все они, не сознавая того, подчиняются закону стоимости, будь даже этот продавец продавцом собств. рабочей силы. Он может иметь иллюзию, что он свободен: он не привязан, как раб, к своему господину, не прикреплен, как крепостной, к земле; он «свободен» продать себя кому он хочет, но он вынужден продать себя кому-нибудь и если его товар не находит покупателя, он свободен, кроме того, умереть с голоду в силу железной необходимости этого странного режима С. В этом режиме отчуждения все то, что является выражением мощи и богатства, накопленных всеми прошлыми поко-
СВОБОДА
563
 лениями человечества, приняло форму предметов и учреждений, отделенных от человека и над ним господствующих, начиная с денег вплоть до гос-ва.
лениями человечества, приняло форму предметов и учреждений, отделенных от человека и над ним господствующих, начиная с денег вплоть до гос-ва.
Суть бесклассового коммунистпч. общества в том, что оно призвано положить конец этому противопоставлению личности и общества, восстановить в индивидуальном человеке социальные силы, до того времени существовавшие во вне, отчужденные, вернуть все внутр. силы общества индивидууму. С., ио Марксу, не в индивидуализме, не в отказе, отрицании, отпадении ненадежных и всегда опасных. Индивидуальный человек свободен, лишь поскольку в нем живет все человечество, все прошлое человечества, к-рое есть культура, вся совр. ему действительность, представляющая собой всеобщее сотрудничество.Итак, невозможно одному завоевать С. Нет свободного человека в порабощенном народе. С, говорит Маркс, равна действит. могуществу.
Социализм — это установление такого режима, к-рый разрушает все материальные препятствия, особенно экономические и социальные, слиянию всеобщности человечества в каждом человеке. С. без обмана— это возможность для каждого человека, для всех людей получить доступ к совокупности человеч. культуры, полностью участвовать в общем труде, сознательно организованном, пользоваться всеми богатствами, всеми мощными силами, к-рые он порождает, и, отправляясь от этого, развить свою творч. мощь без каких-либо ограничений, кроме предела своих способностей и личной одаренности.
Коммунизм — это начало собственно человеч. истории, к-рая делается не битвами, не борьбой классов и войнами. Это общество не будет также иметь своим двигателем нужду. «Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства. Как дикарь, чтобы удовлетворять свои потребности, чтобы сохранять и воспроизводить свою жизнь, должен бороться с природой, так должен бороться цивилизованный, должен во всех общественных формах и при всех возможных способах производства. С его развитием расширяется это царство естественной необходимости, потому что расширяются его потребности; но в то же время расширяются и производительные силы, которые служат для их удовлетворения. Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что социализированный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того чтобы он как слепая сила господствовал над ними; совершают его с наименьшей затратой силы и при условиях, наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей. Но тем не менее это всё же остаётся царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческой силы, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвесть лишь на этом царстве необходимости, как на своём базисе» (М а ркс К., Капитал, т. 3,1955, с. 833).Маркс добавляет, что осн. условием этого расцвета является сокращение рабочего дня, ибо мерой богатства не будет более рабочее время, а свободное время (см. там же).
Но, скажут, живая душа диалектики — противоречие, к-рое одно только «двигает вперед». Что же станет с историей, если классовая борьба не будет более ее двигателем. Противоречия не будут упразднены, но это не будут более антагонистич. противоречия между людьми. Тогда полностью расцветут бесконечно диалектич. черты С.
Прежде всего будет продолжаться завоевание человеком природы. На безграничных просторах строй-
ки — тройная бесконечность: бесконечно малого, бесконечно большого и бесконечно сложного. Перед человеком простирается перспектива бесконечных битв: в области микрофизики и распада материи, в области космоса, в области еще не осуществленных химия, соединений, все более и более сложных. Господствовать над элементами, изменять климат, добиться в биологии могущества, превышающего то, к-рое физика нашего века завоевала в области неживой материи. И, отправляясь от этих изысканий и открытий науки, завоевать безграничное могущество для хрупкой человеч. мысли, к-рая упирается в границы смерти индивидуума и человеч. рода, но к-рая ставит под сомнение, напр., термич. смерть Вселенной.
Бесклассовое коммунистич. общество впервые создает реальные условия для диалектики духа„диалек-тики диалога, диалектич. критики и самокритики, о к-рой впервые грезили Сократ и Платон: специфически человеч. сотрудничество в открытии истины умов, овладевших всей предшествующей культурой человечества, где никакой обман лживых «демократий» классового режима не сможет возникнуть, чтобы исказить равноправное и свободное столкновение мыслей высоко персонализированных и потому высоко социализированных, совершенное взаимопонимание.
Наконец, это творчество будет иметь характер творчества эстетического. Это прежде всего творчество, к-рое ие будет вызвано никакой иной потребностью, кроме специфически человеч. потребности творить. Без сомнения, это творчество не будет более вдохновляться тоской. Люди вспомнят, что Данте описал также и Рай и что его поэмой вдохновлена «Весна» Боттичелли. Почему человек может творить только под давлением нужды или тоски, когда сами христиане признавали, что творение Бога было не эманацией необходимости, а безвозмездным даром любви. Марксистский материализм, будучи верен своему изначальному фаустовскому вдохновению, есть творец мира, к-рый будет населен богами, не знающими скуки, чьи творения положат начало диалектике, прокладывающей путь в бесконечность.
Р. Гароди. Франция.
СВОБОДА (Svoboda), Людвиг (р. 1 мая 1903) — чеш. философ-марксист, д-р философии, проф. филос. ф-та Карлова ун-та в Праге, чл.-корр. ЧСАН. В 30-х гг. в многочисл. рецензиях, опубликованных в журн. «Sociologicka revue» («Социологический обзор»), освещал сов. филос. мысль; он издал первую полную монографию о развитии сов. философии («Философия в СССР» — «Filosofie v SSSR», Olomouc, 1936).
С. интересуется и филос. проблематикой культуры и искусства (см. «Studie о Saldovi F. X.», Praha, 1947). Ему принадлежат переводы трудов В. И. Ленина на чеш. яз.: в 1933 С. перевел «Материализм и эмпириокритицизм», в 1953 — «Философские тетради». С о ч.: Marxismus-Lenmismus, statni filosofie SSSR, 4 vyd., Praha, 1949; Nastin socialisticke ideologie, 2 vyd., Praha, 1949.
C . IHmpoc . ЧССР.
СВОБОДА (Svoboda), Эмиль (2 окт. 1878 — 19 авг. 1948) — чеш. философ, профессор гражд. права Карлова ун-та в Праге. В центре его внимания — этика и философия права.Взгляды С. формировались под влиянием инд. философии, франц.рационализма и мистицизма Паскаля; из соотечественников наиболее сильное воздействие на С. оказал Масарик. На этом широком и в известной степени противоречивом идейном базисе С. создал концепцию человека, в основе к-рой лежат принципы эвдемонизма. Первый этап филос. эволюции С. заканчивается переходом от мистики к атеизму, при этом сохраняется суть этич. учения Паскаля. Для второго периода характерна тенденция к марксизму, к-рый первоначально С. подвергал критике с инди-видуалистич. позиций. С. приходит к оценке марксизма как единств, истинного гуманизма; в произв. «Дуд
564
СВОБОДА ВОЛИ
 социализма» («Duch soeialismu», Praha, 1948) он с позиций диалектич. материализма рассматривает ряд проблем обществ, развития. С. был одним из гл. представителей атеистич. движения «Свободная мысль» («Volna mySlenka»), выступал как теоретик и пропагандист атеизма.
социализма» («Duch soeialismu», Praha, 1948) он с позиций диалектич. материализма рассматривает ряд проблем обществ, развития. С. был одним из гл. представителей атеистич. движения «Свободная мысль» («Volna mySlenka»), выступал как теоретик и пропагандист атеизма.
С о ч.: Zakladnl myslenka demokracie, Praha, 1919; Nabc-
zenstvi, konfese, cirkev, Praha, 1922; Etnicke a sociaini zaklady
prava obcansk6ho, Praha, 1922; Vlada v demokracii, Praha,
1924; Stezka, Praha, 1924; Clovek a spolecnost, Praha, 1924;
Zena-61ov«k, Praha, 1925; MySlenky о pravu, etice a nebozen-
stvi, 2 vyd., Praha, 1925; Obrana a utoky, Praha, 1926; Demo
kracie jako nazor na zivot a svet, Praha, 1927; Zivot a myslenka,
Praha, 1928; Utopie, 2 vyd., Brno, 1929; Veci vSedni a nevsednf,
Praha, 1931; Na vysoke hofe, Praha, 1934; Zahady zyvota, Praha,
1941; Hledani, Praha, 1946; Lide" a skutky, 2 vyd., Praha, 1947;
Duch soeialismu, 4 vyd., Praha, 1950. H . Maxoea . ЧССР.
СВОБОДА ВОЛИ — филос. проблема, к-рая при первой общей постановке формулируется как вопрос о свободе человека в своих действиях; это один из «проклятых вопросов» философии, история споров вокруг него началась еще во времена Сократа. Исследуя С. в., Гегель писал: «Ни об одной идее нельзя с таким полным правом сказать, что она неопределенна, многозначна, доступна величайшим недоразумениями потому действительно им подвержена, как об идее свобод ы...» (Соч., т. 3, М., 1956, с. 291). Шеллинг объявляет отношение к С. в. центр, пунктом филос. системы.
Со С. в. связана судьба высших духовных ценностей; от ее решения зависит признание вины, ответственности, творчества; она стоит в центре проблемы личности.
В связи с проблемой Св. действия рассматриваются лишь как волеизъявляющие. Возможность самого действия как реализации воли, называемая свободой действия, не относится к проблеме С. в.; существование свободы действия не требует доказательств — человек может выполнить любое намеченное им (физически доступное) действие. Свободу действия признавали даже классич. противники С. в.— Гоббс, к-рый впервые вычленил само это понятие и отделил его от понятия С. в. (см. «О свободе и необходимости», в кн.: Избр. произв., т. 1, М., 1964, с. 525), Пристли, Гольбах. Вопрос заключается в том, может ли быть свободным само воление.
Проблема С. в. встает прежде всего как практич. проблема — в связи с вопросом об ответственности человека за его действия. Допущение С. в. есть необходимое основание нравственности, условие возможности вменения. Если человек не мог поступить иначе, чем он поступил, если каждое его действие необходимо, т. е. строго обусловлено и исключает возможность выбора, то ему нельзя это действие вменить в вину или поставить в заслугу — здесь всякая нравств. оценка неправомерна и излишня. С. в. выступает как возможность различных действий, как свобода выбора. Но последняя возможна лишь в том случае, если понятие свободы рассматривается не только в качестве отрицательного (отсутствие зависимости), но и как положительное (самоосуществление, само-полагание), что означает иной, отличный от природной причинности способ существования бытия, и приводит к антиномии свободы и необходимости. Т. о., проблема С. в., первоначально сформулированная как вопрос о свободе человека в своих действиях, превращается в вопрос о необусловленности воли извне в качестве конечной причины (causa sui).
Т. зр., утверждающая самопричинность воли, т. е. трактующая волю как самополагающую, автономную силу, получила в истории философии название индетерминизма; позиция, отрицающая С. в. и отстаивающая обусловленность воли извне, известна под наименованием детерминизма. Как на доказательство свободной воли ее сторонники указывают на существование чувства свободы, что оспаривают детерминисты, считая это чувство иллюзорным. Это введенное
Спинозой различение свидетельства самосознания от его индетерминистич. интерпретации (т.е. чувства свободы от идеи С. в.) является непременным доводом в последующих детерминистич. рассуждениях (см. П. Гольбах, Здравый смысл, М., 1941, с. 304—05; Д. Юм, Исследование о человеч. уме, П., 1916, с. 108—09; А. Шопенгауэр, С. в. и основы морали, СПБ, 1896, с. 21—22; Дж. Милль, Обзор философии В. Гамильтона..., СПБ, 1869, с. 474; А. Риль, Теория науки и метафизики..., М., 1887, с. 264; В. Bussel, Our knowledge of external world..., L., 1952, p. 237—38). В доказательство причинной обусловленности воли обычно приводится мотивация действия: непреложная зависимость между мотивом волевого поведения, к-рый является переживанием ценности (или просто оценкой как целесообразного) результата данного действия, и самим действием. Мотивом, к-рый является психологич. основанием действия, как причиной определяется действие; последнее только потому и становится предпочтительным по сравнению с другими, альтернативными действиями, что признается ценным, является желаемым, т. е. выражает собой стремление личности: не объект как таковой мотивирует волю, а желаемый объект (см. Кант, Критика практич. разума, в кн.: Соч., т. 4, ч.1,М.,1965, с. 331—34). Действие является заключит, моментом движения, начавшегося с «Я хочу». Но если известное переживание делает ценным (т. е. превращает в основание действия) сама воля, то, следовательно, и элемент необходимости вносится также ею.
Т. о., идея мотивации не затрагивает вопроса о причинной обусловленности и, следовательно, необходимости самих волений; она способна демонстрировать только одно: «я выполняю то, что я хочу» (а не обратное). Как и всякая психологич. попытка решить вопрос о С. в., идея мотивации оказывается несостоятельной (психологич. анализ остается в области механизма воли; решение проблемы С. в. принадлежит только философии). Гл. аргументом индетерминизма является свидетельство нравств. сознания, совести, требующей для оправдания (объяснения) своего существования допущения С. в.
В зависимости от факторов, к-рые считаются обусловливающими волю человека, можно различить неск. видов детерминизма. Механический, или физич., детерминизм выводит все явления, в т. ч. психич. жизнь, из движения материальных частиц; душевный процесс рассматривается как производный от перемещения материальных тел. Так, для Гоббса источником действия является механич. толчок или давление со стороны. А поскольку первонач. причина действия находится вне человека,то и само действие—вне его власти. Представитель второго вида детерминизма — психич., или психологического,— Липпс, считая основой всего дух, постулирует его движение и развитие при помощи понятия психич. причинности. Поскольку каждый психич. акт необходимо предопределен предыдущими, попытка Липпса сохранить свободу (а тем самым и ответственность личности) через введение «Я», к-рому принадлежат все психич. акты, является неоправданной, ибо, согласно Липпсу, внешние (по отношению к «Я») условия задолго до самого этого «Я» определили, каково оно будет и каковы будут его проявления. Такого рода психич. систему Кант называл «духовным автоматом», а ее свободу — свободой вертела (см. там же, с. 426). Третий тип детерминизма, т. н. супранатуралистический детерминизм, ставит человеч. волю в зависимость от сверхъестеств. фактора (бога) (см. Предопределение). Трудности, с к-рыми сталкивается теологич. философия в решении проблемы С. в., заключаются в том, как примирить всеведение и всемогущество бога с самоопределением твари, а его благую волю с существованием зла в мире (см. Теодицея). Эти противоречия могут быть
СВОБОДА ВОЛИ
565
 сформулированы следующим образом: если существует С. в., то бог не всемогущ и не всеведущ; если ее нет, то, во-первых, человек не ответствен за свои поступки, а, во-вторых, возникает вопрос, откуда берется зло?
сформулированы следующим образом: если существует С. в., то бог не всемогущ и не всеведущ; если ее нет, то, во-первых, человек не ответствен за свои поступки, а, во-вторых, возникает вопрос, откуда берется зло?
Гл. затруднения детерминизма начинаются за пределами собственно теоретич. построения — в попытках утверждения нравств. сознания. «Откровенный детерминизм Пристлея, уничтожающий мораль, скорее заслуживает одобрения, чем тот синкретизм, который утверждает мораль и вместе признает такое определение воли, благодаря которому отрицается всякая возможность свободы» (Фишер К., История новой философии, т. 5, СПБ, 1906, с. 97; см. также Кант, Соч., т. 4, ч. 1, с. 427—28). Трудности индетерминизма заключаются прежде всего в теоретич.стороне вопроса — в рационалистич. осмыслении самоопределения воли.
Однако вычленение типов учений о С. в. условно. Специфика вопроса, «...громадные практические' последствия...» (Гегель, Соч., т. 3, с. 291), связанные с ним, приводят к переплетению альтернативных позиций. «При рассмотрении проблемы свободы мы повсюду встречаемся с предвзятыми мнениями частью научного, частью этического и религиозного характера, повсюду с попыткой соединить при помощи диалектических тонкостей вещи, по существу несоединимые; повсюду остроумие направляется на то, чтобы с помощью тонких различений и далеких обходов спасать одной рукой то, что упустила другая» (В и н д е л ь-б а н д В., О свободе воли, М., 1905, с. 4).Одна из грандиозных попыток совмещения двух противоположных т. зр. получила свое выражение в концепции С. в. Канта — Шопенгауэра, в известном смысле продолженной Шеллингом и Фихте. Рассмотренная в соответствии с исходным принципом немецкой классической философии — ст. зр. рационализма, она обнаруживает противоречия и тем самым — неудовлетворительность решения антиномии свободы и необходимости. Отрицая возможность познания свободы теоретич. разумом, к-рый, по Канту, конституирует познаваемый нами мир явлений с помощью категории причинности, Кант утверждает свободу в сфере прак-тич. разума для обоснования нравственности. Свидетельством свободы оказывается факт существования категорического императива, в основе к-рого лежит сознание: ты можешь, ибо ты должен. Как член мира явлений человек обусловлен предшествующими состояниями, подчинен закону причинности, как интеллигибельное существо он сам начинает из себя причинный ряд — он свободен. При попытке объяснить взаимоотношение эмпирич. и умопостигаемого характеров в человеке у Канта обнаруживаются противоречия: с одной стороны, «...умопостигаемый характер не был бы подчинен никаким временным условиям, так как время есть условие только явлений, а не вещей в себе» («Критика чистого разума», в кн.: Соч., т. 3, М., 1964, с. 482) и в нем не может ни возникать, ни исчезать никакой поступок, с другой стороны, «...у непостигаемый характе р... составляет причину этих поступков...» (там же) и эмпирического характера вообще, т. е. все-таки проявляется во времени; кроме того, понятие причинности незаконно — ст. зр. философии Канта — переносится из области эмпирич. явлений в область умопостигаемой «вещи в себе». Декларируя дуализм, Кант стремится сохранить и необходимость, и свободу, но на самом деле их примирения не происходит. Связь умопостигаемого с эмпирическим остается неясной (см. там же, с. 477—99); факт этой связи не представляем, «...не имеет мыслимого содержания» (см. B.C. Соловьев, Собр. соч., т. 10, СПБ, 1914, с. 376). Провозглашая Св., Кант фактически отсылает ее в закулисный
мир. Шопенгауэр, детализировавший концепцию Канта (в частности, в вопросе о совести, к-рая, как и нравств. предписания, лишь понапрасну раздражает человека, но не способна ничего изменить в нем, ибо является бесполезным свидетелем действия его раз навсегда сделанного выбора), пытается спасти положение учением о святости. Он допускает, вслед за Кантом, коренной переворот (во времени) умопостигаемого характера, что находится в явном противоречии с вневременной сущностью этого характера. Т. о., рассматриваемая система С. в. оставляет неясным то, что она призвана объяснить (эмпирич. человека), ибо как эмпирич. характер, созданный интеллигибельным, так и отдельные акты воли предполагают обязат. проявление во времени и поэтому не объяснимы через ссылку на вневременность. Остается нераскрытым и понятие свободы как акта самополага-ния. Согласно Шопенгауэру, «...всякая existentia (существование) предполагает essentia (существо), т. е., все сущее должно представлять собою нечто, иметь определенную сущность. Нельзя существовать и быть при этом ничем...» («Свобода воли и основы морали», СПБ, 1896, с. 71—72). Но самополагание не может означать ничего иного, кроме определения себя через себя же, к-рое еще не существует. Т. зр. Шопенгауэра вступает в противоречие с его же утверждением самополагания воли как «от себя бытия» — aseitas. Правда, он пытается избежать противоречия,привлекая на помощь понятие вневременного. Рассуждение Шопенгауэра приводит нас к след. дилемме: если само «Я», к-рым избирается характер, уже было чем-то (а ведь не бывает «существования без сущности»— см. там же), то никакого акта самоопределения и свободного избирания не происходит—«Я» «определяет» себя, будучи уже определенным; а если оно еще не было определено, то, следовательно, оно было ничем (что Шопенгауэр тоже отвергает). В обнаженной форме это противоречие выступает в его учении о святости, где возникает вопрос об основаниях для коренного переворота интеллигибельного характера. Следы этой же непоследовательности носят «Филос. исследования о сущности человеч. свободы» (СПБ, 1908) Шеллинга, к-рый в своем признании безосновного идет дальше по пути индетерминизм ма (следуя за Бёме и его понятием Ungrund — «безосновное»). С одной стороны, Шеллинг заявляет, что «сущностью основы, как сущностью существующего, может быть только предшествующее всякой основе, т. е. абсолютное, как таковое безосновное», с другой стороны — «...для того, чтобы умопостигаемое существо могло определять себя, оно должно быть определенным самим в себе... самим собою...» (указ. соч., с. 67, 47). Но утверждение «безосновного» является одновременно отрицанием определенности. Противоречие это, выраженное в том, что «...от абсолютно неопределенного нет никакого перехода к определенному» (там же, с. 47), проявляется далее в дефиниции свободы как внутр. необходимости: «...внутренняя, вытекающая из существа самого действующего, необходимость» (там же, с. 46). Но поскольку «существо» еще должно быть определено («самим собой»), постольку это определение не может быть необходимым (т. е. единственно возможным), ибо оно означает именно становление, возникновение этого «самого», или, что то же — выбор своей определенности (сущности) без предварительных оснований; самополагающий характер первоначального акта выбора снимает его необходимость. Само понятие внутр. необходимости в применении к С. в. базируется на трактовке неизвестного («внутреннего», к-рое еще подлежит полаганию) как известного, как уже данного, определенного; понятие необходимости здесь пусто. По существу, перевес в концепции Шеллинга полу-
666
СВОБОДА ВОЛИ
 чает С. в. «Человек поставлен на вершину, где имеет в себе источник свободного движения одинаково и к добру и к злу: связь начал в нем — не необходимая, но свободная. Он — на распутье что бы он ни выбрал, это решение будет его деянием» (там же, с. 39). Аналогично понимание свободы как внутр. необходимости у Гегеля; однако провозглашенная им свобода человеч. воли существует в его монистич. системе противоречиво. Свободой у Гегеля может обладать «абс. идея» («мировой дух»), но не человек, ибо предпосылкой свободной человеч. воли может быть лишь плюрализм — признание множества самостоятельно действующих индивидуальностей.
чает С. в. «Человек поставлен на вершину, где имеет в себе источник свободного движения одинаково и к добру и к злу: связь начал в нем — не необходимая, но свободная. Он — на распутье что бы он ни выбрал, это решение будет его деянием» (там же, с. 39). Аналогично понимание свободы как внутр. необходимости у Гегеля; однако провозглашенная им свобода человеч. воли существует в его монистич. системе противоречиво. Свободой у Гегеля может обладать «абс. идея» («мировой дух»), но не человек, ибо предпосылкой свободной человеч. воли может быть лишь плюрализм — признание множества самостоятельно действующих индивидуальностей.
Т. о., в пределах рационалистич. понимания свободы, т. е. при последоват. развитии понятия самопола-гания индетерминизм неизбежно приводит к равной возможности двух противоположных действий (liberum arbitrum indefferentiae), к свободе безразличия как выражению возможности выбора. Но свобода безразличия в первонач. акте конституирования самости есть свобода через ничто, есть абс. случайность. Здесь индетерминизм возвращает нас к уже известному затруднению детерминизма, ибо абс. случайность природы деятеля столь же мало удовлетворяет требованию ответственности, как и детерминированность этого деятеля извне. Т. о., проблема Св., выступавшая как антиномия необходимости и ответственности, предстает в форме противоречия свободы и ответственности. Для выхода из этого затруднения рационали-стич. индетерминизм нуждается в постулировании вечности индивидуального духа (такой вневременно-сти, к-рая сняла бы необходимость первонач. акта самоопределения). Эта идея имеется у Шеллинга (наряду с принятием им кантовского понимания вневременного характера): человек «...по природе своей вечно ест ь...» (там же, с. 50); она характерна для персонализма.
С. в., рассматриваемая как основание нравственности, имеет этич. аспект. Трагедия свободы заключается в том, что принудит, добро не есть добро, а свободное (истинное) добро предполагает свободу зла. Таящаяся в свободе произвола (по терминологии Канта,— негативной свободе) возможность зла приводила к ее игнорированию и порождала мощную традицию ее отрицания, истоки к-рой восходят к античности. Отрицание негативной свободы характерно уже для Сократа, впервые поставившего саму проблему С. в., затем было развито Платоном (правда, в «Законах» у него имеются намеки на более глубокий взгляд), стоиками и получило отзвук во всей истории философии — у Фомы Аквинского, Декарта, Спинозы, Фихте и др. Античность с ее сознанием зависимости человека от высших сил не признавала негативной свободы (исключение представляет Эпикур). Исследование метафизич. оснований Св. с самого начала заменялось нравственно-антропологич. рассмотрением вопроса. Сократ развивает по существу просветительскую т. зр.— все одинаково ищут добра, но не все знают, в чем оно. Разум освобождает от низших влечений и ведет к добру (ибо нельзя знать, что хорошо, и в то же время поступать дурно). Эта т. зр. фактически основывается на предположении о предопределенности неразумной природы человека и отождествлении человеч. сущности с разумом (практич. аспект этого взгляда — утверждение неответственности, невменения нерефлектирующего индивида). При такой (интеллекту а листической) позиции сама проблема С. в. оказывается обойденной — она подменяется проблемой взаимоотношения различных природ в человеке: чувственного и рационального, причем утверждение победы последнего над первым еще ничего не говорит о законах перехода от неразумного состояния к разумному, об определяемости самого разума. Свобода,
к-рая здесь утверждается, — это независимость от низших страстей, состояние гармонии в добре; в отличие от свободы как пути (негативной свободы), это свобода как цель, т. е. позитивная свобода (ср. «Я научу вас истине, и истина сделает вас свободными»). Фихте, центр, пункт философии к-рого есть понятие свободы, осмысляемой, в частности, как самопроизвольность, пытаясь избавиться от «издержек» произвола, в итоге приходит к игнорированию значения негативной свободы и по существу ликвидирует сферу ее действия. Согласно Фихте, оказывается, что для природного человека свободы нет, т. к. в нем действуют слепые влечения, а для разумного ее нет, ибо он неизбежно должен руководствоваться нравств. законом. Т. о., свобода выбора остается у Фихте лишь атрибутом несовершенной воли, ее недостатком.
Понимание свободы как единств, возможности добра характерно для христианства; истоки такого представления восходят к Псалмам Ветхого завета и Посланиям Павла и развиваются затем, хотя и не всегда последовательно, Августином. В русле этой традиции находятся Иоанн Дуне Скот, Оккам, Экхарт, Бёме, Ангелус Силезиус (Шефлер), а также Къеркегор. Пафос свободы возрождается в «русском духовном ренессансе» нач. 20 в. (Бердяев, Шестов, Вышеславцев, Франк и др.), вдохновленном творчеством Достоевского. Христ. концепция Св. полагает человека, созданного богом, свободным. (Проблема теодицеи получает здесь след. ответ: бог всемогущ, но его свободная воля, устремленная к совершенству твари, потребовала сотворения воли человека свободной.) Благодать же, посылаемая богом человеку, есть не принуждение, а лишь призыв; она выступает не в качестве внешней силы, а в форме обаяния. Однако отношения свободы и благодати антиномичны: ибо, с одной стороны, благодать как бы обладает силой, порождающей движение ей навстречу, с др. стороны, свобода человека есть нечто независимое, не определяемое извне. Для христ. мировоззрения свобода есть последняя, неизъяснимая тайна человеч. бытия и поэтому С. в.— проблема, связанная с последними основаниями человеч. природы, является предметом не рационалистич. мышления, а религ. опыта. В противовес стремлению к рационализации свободы, видящему ее укорененность в ничто, христианская позиция провозглашает богочеловеческую природу человека. Диалектика свободы как стержня взаимоотношения человека и бога раскрывается у Достоевского как диалектика произвола и добра, негативной и позитивной свободы. «Ты,— обращается Великий Инквизитор к Христу,— возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона—свободным сердцем должен был решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ перед собою...» (Собр. соч., т. 9, 1958, с. 320). Образ Христа здесь и есть высшее добро, высшая ценность. Только свободным путем (через выбор) человек может прийти к высшему — к добру. Но этот путь есть путь «страшных... мук решения личного и свободного» (там же, с. 326). Угнетенный «...таким страшным бременем как свобода выбора» человек ищет «того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается» (там же, с. 320, 319). Отказ от «свободного выбора в познании добра и зла» (там же, с. 320) приводит к вырождению человека; отказ от свободы произвола приводит к господству внешнего произвола. (Мысль о тяжести свободы выбора и решения, впервые сформулированная Кьеркегором, получает широкое распространение в экзистенциализме, в частности в учении о Май Хейдеггера.) Но свобода не есть последний стержень человеч. приро-
СВОБОДА ВОЛИ 567
 ды. Исследуя судьбу человека, «отпущенного на свободу»,. Достоевский обнаруживает «неустроенность», разрушительность самоцельной свободы. Он открывает хаос и «семя смерти», таящиеся в своеволии (Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов). Болезнь духа, вызванная безраздельным господством в нем свободы (как расплата за пренебрежение к иному существу человека) открывает то, что первоосновнее и глубже свободы — этич. начало. Созданный как этич. существо, человек всегда стоит перед дилеммой добра и зла; но путь к добру — это путь не умствования, а живого чувства, личностной связи — любви (перерождение Раскольникова).
ды. Исследуя судьбу человека, «отпущенного на свободу»,. Достоевский обнаруживает «неустроенность», разрушительность самоцельной свободы. Он открывает хаос и «семя смерти», таящиеся в своеволии (Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов). Болезнь духа, вызванная безраздельным господством в нем свободы (как расплата за пренебрежение к иному существу человека) открывает то, что первоосновнее и глубже свободы — этич. начало. Созданный как этич. существо, человек всегда стоит перед дилеммой добра и зла; но путь к добру — это путь не умствования, а живого чувства, личностной связи — любви (перерождение Раскольникова).
Помимо христ. традиции, развиваемой в совр. философии, проблема свободы стоит в центре внимания атеистич. экзистенциализма, усматривающего основы свободы в ничто (Сартр, Хейдеггер). С этим связано экзистенциалистское учение о человеке как носителе абс. свободы, не имеющем онтологич. корней. Экзистенциализм стремится истолковать человека г;ак силу, противостоящую внешнему миру. Но поскольку, согласно этому взгляду, для человека не существует никакой внеположной ему моральной ценности, поскольку человек морально бессодержателен (по словам Сартра, нет никаких указаний ни на земле, ни на небе), то, по существу, человеку нечего противопоставить миру, кроме самого акта противопоставления, т. е. своеволия, и сам он превращается в бессодержательную, формальную фикцию. Экзистенциалистская теория человека—апология свободы произвола, трагедия к-рой исследована в творчестве Достоевского.
В филос. лит-ре существуют и другие попытки подхода к проблеме С. в., решения антиномии свободы и необходимости. Одной из наиболее известных может считаться концепция Бергсона (см. «Время и С. в.», М., 1911). Защищаемая им идея органич. цельности душевной жизни как неразложимого на отд. элементы индивидуального ряда, в к-ром участвует личность целиком, используется в качестве доказательства существования С. в. Поскольку каждое душевное состояние уникально, неповторимо и, следовательно, не поддается верификации с т. зр. причинности, то, по мысли Бергсона, этого достаточно, чтобы считать таковое состояние причинно не обусловленным. Фе-номеналнстическая, позитивистская позиция Бергсона есть обход филос. проблемы. Учение Виндельбанда (см. «О С. в.») зиждется на проводимом в неокантианстве дуализме науч. и моральной (оценочной) т. зр., к-рые, отвечая различным потребностям разума, сосуществуют и могут вступать в противоречия друг с другом. Такая позиция, к-рая рекомендует то относиться к волевым актам как к причинным, то, игнорируя причинную обусловленность, обращаться с ними как со свободными, не может удовлетворять потребности понимания проблемы С. в. В известном смысле формалистической можно считать попытку разрешения вопроса, предпринятую Н. Гартманом (см. «Ethik», В.— Lpz., 1926). Если у Канта существует противоречие между сущим и должным (воля должна, но, к сожалению, не принуждена подчиниться должному и поэтому может от него уклониться), то Гарт-ман, позитивно оценивая возможность воли не подчиниться должному и нарушить его, усматривает противоречие в самом долженствовании: человек обладает свободой произвола по отношению к сфере ценностей, однако ценности не оставляют места для произвола и требуют безусловного себе подчинения воли носителя ценностей — человека (см. указ. соч., S. 628). Т. о., здесь обнаруживается антиномия двух автономий: суверенитета ценностей и суверенитета личности (Кант отождествил эти автономии, поэтому у него свобода оставалась только для добра). Решение
этой антиномии Гартман находит в том, что позитивная свобода заключает в себе уже не одну, а две детерминанты: реальную и идеальную, автономию лица-и автономию принципа, между к-рыми существую. не антиномич. отношения, а отношение восполненият Ценности выражают лишь идеальный постулат и требуется еще реальная воля, к-рая сможет их осуществить. В то же время воле без иерархии ценностей нечего выбирать,— свободно выбирающий акт требует логики ценностей в созерцании идеальных направлений должного и недолжного, иначе он будет слепым, лишенным смысла выбором. Должное, согласно Гарт-ману, есть модальная категория, выражающая постулат ценностей, но отнюдь не императив. К тому же многие, в т. ч. высшие ценности, вообще не могут быть облечены в форму императива (напр., гений или красота). Однако навеянное этой классификацией идиллическое настроение в отношении к проблеме С. в. разрушается при первой попытке представить себе взаимоотношение двух родов детерминаций. Каким образом идеальная детерминация может существовать как ценность, не выступая в то же время принудит, силой? И вместо успокоительного «отношения восполнения» вновь появляется все та же антиномич-ность свободы и необходимости, лишь переведенная на др. язык.
В произв. классиков марксизма категория С. в. употребляется обычно в смысле позитивной свободы: «Свобода воли,— пишет Энгельс,— означает... способность принимать решения со знанием дела. Таким образом, чем свободнее суждение человека по отношению к определенному вопросу, с тем большей необходимостью будет определяться содержание этого суждения; тогда как неуверенность, имеющая в своей основе незнание и выбирающая как будто произвольно между многими различными и противоречащими друг другу возможными решениями, тем самым доказывает свою несвободу, свою подчиненность тому предмету, который она как раз должна была бы подчинить себе» («Анти-Дюринг», 1966, с. 112). Т. о., Св. выступает как понятие, тесно связанное с понятием знания. В определении свободы как «познанной необходимости» смысловым стержнем является понятие познания, при помощи к-рого можно осуществить сознат. и планомерное господство человека над природой и над обществ, отношениями. Иначе говоря, свобода выступает здесь как состояние индивидов, овладевших объективными закономерностями на основе их познания и практич. пользования. Специально об этом см. ст. Свобода.
Лит.: С в е ч и н И. В., Основы человеч. деятельности, СПБ, 1887; Нотович О. К., Еще немножко философии (К вопросу о С. в.). Софизмы и парадоксы, СПБ, 1887; О С. в., М., 1889 (Тр. Моск. психологич. об-ва, вып. 3); Астафьев П. Е., Опыт о С. в., М., 1897; Фонсегрив Ж., Опыт о С. в., пер. с франц., ч. 1, К., 1899; Лейбниц, О свободе, в кн.: К. Фишер, О свободе человека, СПБ, 1899; Филиппов М., Необходимость и свобода, «Научное обозрение», 1899, N° 4—5; Введенский А., Филос. очерки, СПБ, 1901; Шопенгауер А., Мир как воля и представление, т. 1—2, М., 1901—03; Лосский Н., Осн. учения психологии с т. зр. волюнтаризма, СПБ, 1903; его ж е, С. в., Париж, [19251; Ф ерстер Ф., С. в. и нравственная ответственность, пер. с нем., 1905; Гутберлет К., С. в. и ее противники, [пер. с нем.], М., 1906; П о л а н Ф., Воля, пер. с франц., СПБ, 1907; Гефдинг Г., Понятие воли, пер. с франц., М., 1908; Антонов А., Еще одно решение (К вопросу о С. в.), СПБ, 1908; Хвостов В. М., К вопросу о С. в., «Вопр. филос. и психологии», 1909, кн. 1 (96); Соловьев В. С, Критика отвлеч. начал, Собр. соч., 2 изд., т. 2, СПБ, [0. г.]; его ж е, С. в.—свобода выбора, там же, т. 10, СПБ, [б. г.]; Вышеславцев Б., Этика Фихте, М., 1914; МейманЭ., Интеллигентность и воля, [М.], 1917; Бердяев Н., Метафизич. проблема свободы, «Путь», 1928, J4» 9; Степанова Е. П., Развитие детерминистич. понимания воли в рус. психологии, Л., 1955 (Автореферат); Ф а р к а ш Э., Свобода личности и проблемы морали, М., 1962 (Автореферат); Бакурадзе О. М., Свобода и необходимость, Тб., 1964 (Дисс, на груз, яз.); Ч е р м е н и н а А. П., Проблема ответственности в совр. буржуазной этике, «ВФ», 1965, № 2-
568
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ —СВОДИМОСТЬ
 Secretan С, La philosophie dc la libcrte, v. 1—2, P., 1849; Weml A., Philosophie der Freiheit, [Bd] 1—2, Munch., 1947—49; R i с о e u r P., Le volontaire et l'involontaire, P., 1949 (Philosophie de la volonte", t. 1); A n d r i 1 1 о n J.-M., Le royaume de la volonte, Soisson, 11958]; Adler M. J., The idea of freedom, Garden City, [1958]; HookS., Determinism and freedom in the age of modern science, N. Y., 1958; Bay C, The structure of freedom, Stanford, 1958; OfstadH., An inquiry into the freedom of decision, Oslo—L., [1961]; H о s-p e r s J., Free will and psychoanalysis, в сб.; Freedom and responsibility, Stanford, 1961; Campbell С A., Is «free will» a pseudo-problem?, там же; Gallagher К. Т., Determinism and argument, «Modern Schoolman», 1963/64, v, 41.
Secretan С, La philosophie dc la libcrte, v. 1—2, P., 1849; Weml A., Philosophie der Freiheit, [Bd] 1—2, Munch., 1947—49; R i с о e u r P., Le volontaire et l'involontaire, P., 1949 (Philosophie de la volonte", t. 1); A n d r i 1 1 о n J.-M., Le royaume de la volonte, Soisson, 11958]; Adler M. J., The idea of freedom, Garden City, [1958]; HookS., Determinism and freedom in the age of modern science, N. Y., 1958; Bay C, The structure of freedom, Stanford, 1958; OfstadH., An inquiry into the freedom of decision, Oslo—L., [1961]; H о s-p e r s J., Free will and psychoanalysis, в сб.; Freedom and responsibility, Stanford, 1961; Campbell С A., Is «free will» a pseudo-problem?, там же; Gallagher К. Т., Determinism and argument, «Modern Schoolman», 1963/64, v, 41.
P. Гальцева. Москва.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ — часть времени, остающегося у человека после обязат. обществ, труда. Общая структура бюджета времени трудящихся может быть подразделена на рабочее время и внерабочее, к-рое, в свою очередь, делится на четыре осн. части: затраты, связанные с работой на произ-ве, затраты на домашний труд и самообслуживание, время на сон и прием пищи и С. в. При исследовании С. в. целесообразно подразделение всего бюджета времени на свободное и необходимое. Необходимое время включает в себя как рабочее время, так и три первые группы затрат внерабочего времени. Человек может варьировать границы тех или иных необходимых затрат внерабочего времени, но он должен тратить время на воспроизводство своих физич. и духовных сил. Необходимая часть внерабочего времени является естеств. продолжением по отношению к нему рабочего времени и в известном смысле имеет служебный характер. Характеризуя границы необходимого времени, мы тем самым определяем и границы С. в. Вместе с тем следует учитывать, что с т. зр. развития человека С. в. также выступает как общественно необходимое, т. к. служит для развития личности. Этот факт и может быть критерием при решении спорных вопросов о том, куда отнести те или иные затраты времени. Транспортные расходы времени, напр., обычно не относят к С. в. Здесь, однако, требуется дифференциров. подход. Напр., если рабочий имеет возможность в пути прочитать газету и книгу, то нек-рая часть его транспортных затрат может быть отнесена к С. в. Категория С. в.— не просто количеств, мерило тех или иных жизненных процессов, оно включает в себя и их содержат, характеристику. Под влиянием научно-тех-нич. прогресса, автоматизации произ-ва, к-рые обусловливают возможность и необходимость последоват. роста С. в. и изменения характера рабочего времени, грани между рабочим временем и С. в. начинают стираться. Этот процесс происходит и в социалистич. странах и в капиталистич. странах. Однако классовые антагонизмы капитализма и принудит, характер рабочего времени деформируют этот процесс.
В социалистич. обществе увеличивающееся С. в. все больше расходуется людьми не только на пассивный отдых и развлечения, но и на творч. занятия (учеба, любительство, занятия искусством).
Коммунизм окончательно снимает противоположность рабочего и С. в. С сокращением рабочего времени трудящихся коммунистич. общества до минимума обязат. труд потеряет существ, отличие от свободной деятельности и в перспективе сольется с ней. По Марксу, при коммунизме мерилом богатства общества станет не рабочее, а С. в.
Лит.: Л и л л и С, Автоматизация и социальный прогресс, пер. с англ., М., 1958; С т р у м и л и н С. Г., Рабочий день и коммунизм, [М.], 1959; С. в. трудящихся, Красноярск, 1961; Внерабочее время трудящихся, Новосибирск, 1961; И о и р ы ш А., Труд и коммунизм, М., 1961; Научно-технич. прогресс в СССР, М., 1962; Б а т и гд с в Г. С, Методологич. аспекты формирования целостной личности. Сообщение II — Освоение культуры и С. в., «Докл. АПН РСФСР», 1962, № 2; М я л к и н А. В., С. в. и всестороннее развитие личности, М., 1962; О чертах личности нового рабочего, М., 1963; Б о л-г о в В. И., Внерабочее время и уровень жизни трудящихся, Новосибирск, 1964; Пруденский Г. А., Время и труд, М., 1964; Б а й к о в а В. Г., Д у ч а л А. С, 3 е м ц о в А. А.,
С. в. и всестороннее развитие личности, М., 1965; Волков Г. Н., Эра роботов или эра человека? (Социологич. проблемы развития техники), М., 1965; Friedmann G., Ой va le travail humain?, 2 ed., P., 1954; Revolution derRoboter, Munch., 1956; Automation und Freizeit, W., 1957 (Schrittenreihe des Institutes fur Sozialpolitik und Sozialreform, H. 7); D e Gra-z i a S., Of time, work and leisure, N. Y., 1962; Skorzynski Z., Mie.dzy praca a wypoczynkiem, Warsz., 1965.
Г. Волков. Москва.
СВОБОДОМЫСЛИЕ религиозное, или
вольнодумств о,— широкое течение обществ, мысли, отвергающее религ. запреты на рацион, осмысление догматов веры и отстаивающее для разума свободу в поисках истины. С. было связано с различными формами критики религии. В русле С. выступали представители деизма (сам термин «С.» вошел в употребление с появлением трактата англ. деиста А. Коллинза «Рассуждение о С», Dicourse on freethinking, L., 1713) и пантеизма. Они обличали офиц. христ. церковь за нетерпимость, критиковали обрядность и догматику христианства, но вместо ортодокс, «положительной» религии утверждали внецерковную — «естественную», основанную на разуме. Под флагом С. выступали также и последователи атеизма, с позиций здравого смысла отрицавшие все религ. представления. В дальнейшем стремление к беспрепятственному обсуждению религ. вопросов нашло свое выражение в требовании свободы совести, к-рое выдвигалось бурж. революциями 18—19 вв. в США, Франции, Германии и др. странах. С возникновением науч. атеизма С. утратило свое былое обществ, значение. В наст, время С. и рационализм представлены частью прогрессивной антиклерикально настроенной интеллигенции ряда капиталистич. стран, объединенной в спец. общества и ассоциации, к-рые ведут просветит, деятельность, выпускают свою литературу и др. Печатным органом этих кругов в Англии является еженедельник «Freethinker» («Свободомыслящий», L., с 1881); в США — журн. «Progressive world» («Прогрессивный мир», Los. Ang., с 1947); «Liberal» («Либерал», Phil., с 1946), «American rationalist» («Американский рационалист», Saint Louis, с 1956); «Age of reason» («Век разума», N, Y., с 1936). Нац. об-ва свободомыслящих Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Индии, Ирландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, США, Уругвая, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции и нек-рых др. стран объединены во Всемирный союз свободомыслящих (ВСС, World Union of Freethinkers; основан в Брюсселе в 1880; конгрессы собираются раз в год, последний, 34-й, был в Дуйсбурге в 1963). Кроме того, существует также Междунар. гумани-стич. и этич. союз (МГЭС), насчитывающий в своем составе 20 нац. об-в свободомыслящих и 80 тыс. членов в Зап. Европе и США (осн. в 1952 в Амстердаме; конгрессы созываются раз в 5 лет, последний был в 1962 в Осло).
Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семейство,
Соч., 2 изд., т. 2, с. 132—38; Лукачевский А., Очерки
по истории атеизма, «Антирелигиозник», 1929, .№ 10 (см. Вве
дение); В о р о н и ц ы н И. П., История атеизма, 3 изд.,
[М.], 1930; Коган Ю. Я., Очерки по истории рус. атеистич.
мысли в XVIII в., М., 1962; Ильин Д., Гуманистич. и этич.
союз, «Наука и религия», 1964, № 5; Поступь свободной мысли,
там же, № 9. В. Раббот. Москва.
СВОДИМОСТЬ — отношение между понятиями (предложениями, задачами, теориями и др.), играющее важнейшую роль в логике и математике; означает возможность редукции (сведения) одного понятия к другому (аналогично для предложений, задач и др.). Интуитивное понимание термина «С.» целиком соответствует его этимологии; напр., задача А, по определению, сводится к задаче В, если из решения задачи В может быть получено решение задачи А. Для того же, чтобы этому пониманию придать вполне точный смысл, необходима точная характеристика допустимых методов сведения, требующая привлечения
СВОЙСТВО 569
 понятий теории алгоритмов. Понятие алгоритмической С. стало играть особенно важную роль в математической логике со времени получения первых результатов, относящихся к разрешения проблеме (А. Ч'срч, Э. Пост, Л. Марков и др.).
понятий теории алгоритмов. Понятие алгоритмической С. стало играть особенно важную роль в математической логике со времени получения первых результатов, относящихся к разрешения проблеме (А. Ч'срч, Э. Пост, Л. Марков и др.).
В качестве примера несколько другого уточнения понятия С. может служить предложенное сов. математиком Ю. Т. Медведевым понятие С. массовых проблем. Пусть решение к.-л. матем. задачи А связано с выполнением бесконечной серии элементарных актов, подчиненных нек-рому (зависящему от А) условию, причем каждый элементарный акт любой серии можно эффективно охарактеризовать нек-рым натуральным числом. Каждая такая серия Sx — lalt аг, ..А дает вариант решения, а совокупность всех Sa образует полностью определяющий А класс РА- Задачи такого рода Медведев и наз. массовыми проблемами. Всякой серии Sa соответствует такая функция /(ж), что для любого натурального числа п натуральное число /(п) характеризует акт ап; классу Рд соответствует класс Iff таких «разрешающих функций» массовой проблемы А, полностью ее определяющий: A = i f }. Обратно, всякий класс А, состоящий из функций от натурального аргумента с натуральными значениями, определяет массовую проблему: построить функцию /е-А. Если А — проблема разрешения, то соответств. класс состоит из одного элемента. Массовая проблема, для к-рой существует общекурсивная функция (см. Рекурсивные функции и предикаты) feA , наз. разрешимой, в противном случае — неразрешимой. Наконец, массовая проблема В=< g \, по определению, сводится к массовой проблеме А= | / \, если существует такой частично-рекурсивный оператор ft, что для всех /6 A Rf = geB (где g зависит от /). Это понятие С. позволяет частично упорядочить (см. Порядка отношение) класс массовых проблем при помощи естественно вводимого понятия степени трудности (это делается обычным способом разбиения на классы эквивалентности, каждый из к-рых содержит взаимно сводимые массовые проблемы, причем сами эти классы и наз. степенями трудности). Каждой логико-арифметич. формуле можно сопоставить массовую проблему, степень трудности к-рой характеризует «степень неконструктивности» утверждаемого этой формулой высказывания (в частности, конструктивно истинным формулам соответствуют разрешимые массовые проблемы, и обратно).
Понятие С. (как в естественном, интуитивном, так и в алгоритмич. смысле), прилагаемое к практически неогранич. кругу проблем науки и мышления вообще, играет основополагающую методологич. роль в каждой области знания. Так, напр., идея дедуктивного построения теории, при к-ром понятия теории определяются исходя из перечня первичных (исходных, неопределяемых) терминов, а предложения выводятся из аксиом, по существу целиком базируется на концепции С. [см. подробнее Метод аксиоматический, Вывод (в математич. логике), Определение). Аналогично, в эмпирич. науках постоянно (хотя и не всегда в явной форме) пользуются идеей С. к данным наблюдения и опыта. Можно, конечно, говорить и о промежуточных, «эмпирико-дедуктивных» модификациях С. О т. н. аксиомах сводимости — см. Типов теория.
Лит. см. при статьях Алгоритм, Массовая проблема.
Ю. Гастев. Москва.
СВОЙСТВО — филос. категория, соотносительная категориям вещи и отношения и обычно определяемая через них. Напр., Гегель определял С. вещи как «...ее определенные соотношения сдругим; свойство имеется лишь как некоторый способ отношения друг к другу» (Соч., т. 5, М., 1937, с. 581). Для традиции объективного идеализма характерно понимание С. как общего, существующего независимо от единичных вещей и включаемого в сферу сознания, т. е. понимание, основанное на отрыве С. от вещи. Субъективный идеализм отождествляет С. с ощущениями и тем самым отрицает объективный характер С. (см. Р. Авенариус, Философия как мышление о мире согласно принципу наименьшей меры сил, СПБ, 1913). Ленин убедительно показал, что отождествление С. вещей с ощущениями противоречит осн. фактам совр. естествознания и неминуемо ведет к солипсизму. Для мн. представителей совр. логики характерно отождествление С. с классом вещей (см. А. Тарский, Введение в логику и методологию дедуктивных наук, 1948, с. 112). Напр., С. белизны будет тождественно с классом всех белых
предметов. Такое понимание С. наз. экстенциональ-ным. В более широком смысле С. понимается как нечто соответствующее особого рода функции — одноместному предикату. Но поскольку всякая функция представляет собой нек-рое отношение, определение С. с помощью понятия о предикате — это определение через вещь и отношение.
Приведенные определения отражают различные стороны категории С., но ни одно из них не выражает полностью того смысла, к-рый вкладывается в это слово в науке и повседневной жизни. Так, во мн. случаях можно заменить С. соответствующим классом, но, напр., классы равноугольных и равносторонних треугольников совпадают, хотя равносторонность и равноугольность — это разные С. треугольников. Определение С. как одноместного предиката также не всегда выражает его специфику. На практике, определяя, что выражает данный предикат, мы не ограничиваемся перечислением переменных, а привлекаем другие, более глубокие соображения. Учитывая это, можно определить С. как то, что будучи отнесено к предмету, в отличие от отношения не образует нового предмета. С. можно определить также как то, что является общим множеству предметов, или как то, что различает предметы. Эти определения тоже не будут исчерпывающими, но раскрывают категорию С. с др. сторон.
Различие типов исследуемых С. во многом определяет дифференциацию наук. В зависимости от того, каким образом изменяются С, их можно разбить на неск. видов: а) С, не обладающие интенсивностью и потому не могущие ее менять (напр., «стеклянный», «электрический», «материальный» и т. д.); их можно назвать точечными; б) С, обладающие в предмете определ. интенсивностью, к-рая может быть большей или меньшей (напр., «длина», «масса», «температура» и т. д.); это «одномерные» или «линейные» С, в) меняющиеся в двух и более отношениях — двухмерные и вообще re-мерные С. (напр., скорость, меняющаяся по направлению и по модулю). «Естеств.» науки — физика, химия, астрономия и т. д., а также математика стремятся исследовать прежде всего линейные и многомерные С. вещей. Науки гуманитарного цикла имеют дело гл. обр. с точечными С. или С, приближенно рассматриваемыми как точечные. В совр. науке усиливается тенденция к преодолению этого различия (возникновение афинной геометрии и топологии, исследующих точечные С. фигур; проникновение статистич. методов, связанных с исследованием линейных С, в языкознание и др. гуманитарные науки).
В развитии физики был период, когда каждое С. стремились отождествить с соответствующим материальным носителем (С. теплоты — с теплородом, магнитные свойства — с магнитной жидкостью и т.д.). Такое отождествление (субстантивирование С), как показало дальнейшее развитие науки, неправильно. Однако у каждого С. вещи есть свой носитель. В ряде случаев он тождественен с самой вещью (так, носителем С. массы, 'присущего телу, является само это тело). Но, напр., С. разумности человека не распределяется равномерно по всему человеку, а имеет спец. носитель — центр, нервную систему. Чем сложнее С, тем более специфическим является его носитель.
С. не существует вне вещи, но оно не существует и вне отношения и, следовательно, относительно. Относительность мн. С. была известна еще в древности (см., напр., высказывание Гераклита о морской воде в сб. «Материалисты Древней Греции», М., 1955, с. 46). После Локка укоренилось деление С. на относительные и абсолютные (см. Первичные качества). Относительности теория доказала относительность ряда С, в т. ч. геометрич. формы и массы, к-рые раньше считались абсолютными.
570
СВЯЗЬ
 Лит.: Овчинников Н. Ф., Качество и С, «ВФ», 1960, Ms 6; У е м о в А. И., Вещи, С. и отношения, М., 1963.
Лит.: Овчинников Н. Ф., Качество и С, «ВФ», 1960, Ms 6; У е м о в А. И., Вещи, С. и отношения, М., 1963.
А. Уемов. Одесса.
СВЯЗЬ — специфированное отношение, при к-ром наличие (отсутствие) или изменение одних объектов есть условие наличия (отсутствия) или изменения др. объектов. Имеет смысл различать понятия: «С», «основание С», «условия С.». Основание С.— это к.-л. общее свойство, признак, отношение, делающие возможной С. Напр., в силовой (см. Сила) С. космич. объектов основанием С. являются их гравитац. свойства; в С. химич. элементов — заряд ядра атома и т. п. Наличие основания С. необходимо, но недостаточно для наличия самой С. Нужны определ. условия, при к-рых С. реализуется. Эти условия для каждой предметной области специфичны. На основании указ. выше разделения целесообразно ввести понятие о л и н и я х С. Объекты, имеющие общее основание С, образуют общую линию С. Напр.,Л, связанное с В по основанию а, образует линию С. по основанию а, но по др. основаниям оно может быть и не связано с В. Вообще говоря, из того, что А связано с В, & В связано с С, не обязательно следует, что А связано с С. Транзитивность С. зависит от выбора основания С. для В и С и Л и В. В сложных динамич. системах с группами нетождественных элементов действуют различные линии С, в том числе и нетранзитивные, вследствие чего изменение параметров отдельных элементов носит локальный характер и не влияет на режим функционирования системы в целом. Т. о., всеобщая С. явлений имеет более сложную структуру, чем та, к-рая обычно характеризуется утверждением: «каждый элемент материи во всех отношениях связан со всеми остальными элементами». Поэтому в целях познания С. объектов нередко используется прием отвлечения от С. Исследование искусственно изолиров. объектов приводит к выявлению набора новых свойств, среди к-рых могут быть свойства, обусловливающие их С. по к.-л. др. основанию. Так устанавливается новая линия С.
Рассмотрение С. в отношении к разнообразию обнаруживает неоднозначную функцию С. В одних предметных областях установление новых линий С. увеличивает разнообразие (напр., количество информации), в других — ограничивает. Напр., наложение связей на механич. систему уменьшает число степеней свободы элементов системы и т. д.
В учении о С. важное значение имеет исследование различных ф о р м С. и установление нек-рых общих их характеристик сначала на содержат, уровне, что представляет собой начальный этап теоретич. исследования С, затем на уровне формальнологическом. Эти исследования необходимы для обобщения и унификации знаний. См. также статьи Кибернетика, Логические машины, Теория информации. И. Ляхов. Москва.
С т. зр. логики и семиотики установление С, как и разделений, является одной из осн. операций нашего ума (причем для разделений, как и для С, следует различать много видов и способов, и всякий разговор о разделениях относится к к.-л. из этих видов или способов). Если между предметом А и предметом В установлена нек-рая С, то говорят, что А связано с В (это отношение не обязательно симметрично); если А не может быть связано с В, говорят, что А является посторонни м по отношению к В относительно нек-рого вида С. или способа их установления или прослеживания. Последняя оговорка всегда должна подразумеваться. Если А является посторонним по отношению к В относительно нек-рого вида или способа установления или прослеживания С, то само это обстоятельство можно считать основанием к установлению С. между А и В — конечно, С. нового вида, состоящей как раз в том, что С. преж-
них видов между А и В не было. Можно по произволу устанавливать С. между любыми двумя объектами, существующими или нет. Можно также по произволу, принимая новый способ установления (но не прослеживания) С, назначать разделения, т. е. запрещения установления нек-рых С. между объектами. Т. о., возникают случаи, когда объекты оказываются посторонними по отношению к др. объектам. Но произвол, о к-ром идет речь, означает лишь, что установление С. не имеет смысла, т. е. семантически ничего не обозначает. Однако этот произвол не исключает того, что С. устанавливаются для нек-рой цели или в связи с нек-рым желанием и т. п. Если установление С. подчиняется нек-рой цели (как это постоянно бывает в науке), то упомянутый произвол этим существенно ограничивается. Там, где требуется надежность, в частности в основаниях каждой науч. теории, претендующей на строгость и практич. применимость, там можно пренебречь только посторонним. (Случаи, когда к.-л. величиной пренебрегают по причине ее малости, удовлетворяют этому правилу, т. к. пока малость величины только подлежит установлению, эта величина рассматривается и тем самым принимается во внимание, а когда достаточная малость установлена, величиной пренебрегают на основании ранее достигнутого соглашения о том, что величинами этой степени малости можно пренебречь, т. е. можно считать их посторонними). Поэтому во всех указанных случаях возникает важная задача — доказательство того, что все, чем мы намерены пренебречь, является посторонним. Для решения этой задачи требуется анализ всех способов установления и прослеживания С. (именуемых тактикой внимания), нужных для достижения принятых целей. Вопросы о том, являются ли рассматриваемые объекты связанными или посторонними относительно той или иной тактики внимания, т.е. «относятся ли они друг к другу», наз. вопросами релевантности. Они играют важную роль во всех пауках, в частности в лингвистике и семиотике, а также в теории диспутов и в юриспруденции (перед судьями часто встает задача: относится ли к делу заявление участника процесса). Тем не менее, матем. логика до сих пор оставляла эти вопросы без рассмотрения, быть может из-за того, что не было средств для их изучения. Однако по крайней мере нек-рые такие средства, а именно, понятие метода или способа, недавно были обнаружены в связи с проведением ультраинтуиционистской программы обоснования математики.
При рассмотрении исходных допущений математики требуется их надежность, т. к. математика претендует на строгость и практич. применимость. Поэтому должно быть доказано, что мы пренебрегаем только посторонним. Это — одна причина возникновения вопросов релевантности в основаниях математики. Другая состоит в том, что от неясности понятий пытались до последнего времени избавиться в математике только одним способом — установлением (различных) систем определений. Но ясность понятий, вводимых определениями, не может превышать ясности первоначальных понятий, к числу к-рых относилось понятие натурального числа. Это понятие играло ведущую роль, т. к. на нем были основаны все матем. понятия, в т. ч. понятия формулы и доказательства. Но само это понятие не может быть сделано ясным посредством определений традиц. математики. Всякое натуральное число должно быть связано с нулем способом своего получения из нуля путем после-доват. переходов к следующим числам, но сами эти переходы должны совершаться нек-рое «число» раз, так что свести понятие натурального числа к более простым понятиям средствами традиц. математики не удается. Это понятие остается не вполне ясным, что
«СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО»
571
 находит свое выражение в наличии противоречивых систем, нестандартных моделей арифметики п нек-рой расплывчатости понятия общерекурсивной функции. При внимательном отношении к этим явлениям следует отказаться от традиционной т. зр. и допустить возможность различных (интуитивно понимаемых) натуральных рядов-. В ультраинтуиционистской математике язык богаче — он содержит модальности и дает возможность трактовать правила и способы гораздо более общих видов, чем в традиц. математике, в частности дает возможность рассматривать различные тактики внимания. Понятие натурального числа перестает быть первоначальным и оказывается зависящим от нек-рой тактики внимания. Возникают существенно различные натуральные ряды, причем само понятие натурального ряда выражается, помимо прочего, через тактику внимания и понятия С. Все кванторы также связаны с той или иной тактикой внимания, т. к. они относятся лишь к непосторонним предметам (как и слова «каждый* или «нек-рьш» в обычном языке: утверждение «каждый человек может умереть» не относится к уже умершим людям, к-рые считаются в этом контексте посторонними).
находит свое выражение в наличии противоречивых систем, нестандартных моделей арифметики п нек-рой расплывчатости понятия общерекурсивной функции. При внимательном отношении к этим явлениям следует отказаться от традиционной т. зр. и допустить возможность различных (интуитивно понимаемых) натуральных рядов-. В ультраинтуиционистской математике язык богаче — он содержит модальности и дает возможность трактовать правила и способы гораздо более общих видов, чем в традиц. математике, в частности дает возможность рассматривать различные тактики внимания. Понятие натурального числа перестает быть первоначальным и оказывается зависящим от нек-рой тактики внимания. Возникают существенно различные натуральные ряды, причем само понятие натурального ряда выражается, помимо прочего, через тактику внимания и понятия С. Все кванторы также связаны с той или иной тактикой внимания, т. к. они относятся лишь к непосторонним предметам (как и слова «каждый* или «нек-рьш» в обычном языке: утверждение «каждый человек может умереть» не относится к уже умершим людям, к-рые считаются в этом контексте посторонними).
С появлением различных натуральных рядов возникают проблемы избавления от парадоксов, в частности от парадоксов зеноновского типа, связанных с зацеплениями (см. Парадокс). При этом, однако, достаточно в каждом случае рассматривать только непосторонние зацепления и только благодаря этому удается решить осн. задачи ультраинтуиционистских теорий. В этом — третья и практически наиболее важная причина проникновения проблем релевантности, а значит и понятия С, в основания математики.
А. С. Москва.
Лит.: У е м о в А. И., О диалектико-материалистическом понимании С. между явлениями, «ФН» (НДВШ), 1958, № 1; Эшби У. Р., Введение в кибернетику, пер. с англ., М., 1959; Зиновьев А. А., Логич. строение знаний о С, в сб.: Логич. исследования, М., 1959; его ж е, К определению понятия С, «ВФ», 1960, № 8; Н о в и н с к и й И. И., Понятнее, в марксистской философии, М., 1961.
«СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании» — первое совместное произведение Маркса и Энгельса; написано в сентябре—ноябре 1844, вышло в свет в феврале 1845 во Франкфурте-на-Майне.
Совершив независимо друг от друга переход от идеализма и революц. демократизма к материализму и коммунизму, Маркс и Энгельс летом 1844 установили свое «...полное согласие во всех теоретических областях...» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21, с. 220) и начали совместную разработку науч. мировоззрения. При этом они сочли необходимым высказать свое отношение к прежним союзникам, в первую очередь — к Б. Бауэру и его сторонникам.
Осн. объектами критики в «С. с.» являются: статья Э. Бауэра о Прудоне; взгляды Б. Бауэра на историю, социализм и коммунизм, изложенные в трех статьях по поводу еврейского вопроса; рецензия Шелиги на роман Э. Сю «Парижские тайны»; взаимоотношения «Всеобщей лит. газеты» с корреспондентами как форма практич. отношения «критики» к «массе». В поле-мич. целях Маркс и Энгельс придали «С. с.» сатирич. характер. Поскольку «критика», абсолютизировав гегелевское самосознание, возомнила себя интеллектуальным спасителем «закоснелой массы», критика этих претензий дается в «С. с.» в форме гегельянизи-рованной «Феноменологии святого духа»: священная критика отчуждает себя и посылает на землю своего сына, через к-рого сливается с массой (гл. I), овладевает злободневными вопросами английской (гл. 2), немецкой (гл. 3) и франц. жизни (гл. 4) и растворяет действительность в спекулятивной диалектике; за-
тем критика демонстрирует «тайны» противоположного процесса — творения мира из спекулятивной диалектики (гл. 5); далее она обращает все взоры на самое себя, становясь «абсолютной» и находя свое индивидуальное воплощение в лице Б. Бауэра (гл. 6); вслед за этим (гл. 7) критика обнаруживает массу в самой себе («критич. масса») и, отделившись от нее, предстает эстетически успокоенной в некоем художеств, образе (гл. 8), в к-ром искупает свои грехи, чтобы под конец в качестве второго, торжествующего Христа совершить «критический страшный суд» (гл. 9) и после победы над драконом «спокойно вознестись в небо» («Историч. послесловие»). Таким образом, «чистая критика» исчезает с грешной земли в силу законов собств. развития.
В эту шаржированную форму вложено глубокое науч. содержание. Гл. тезису Бауэра: «в массе... следует искать истинного врага духа», авторы «С. с.» противопоставляют факты, свидетельствующие о том, что «идея» неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от интереса массы. Они формулируют важное положение историч. материализма: «Вместе с основательностью исторического действия будет, следовательно, расти и объём массы, делом которой оно является» (Маркс К. и Энгельс Ф., там же, т. 2, с. 90).
Используя результаты своих исследований 1843 — 1844, Маркс доказывает, что в практич. отношении идея коммунизма явилась наиболее радикальным продуктом франц. революции 18 в., а в теоретическом — материализма нового времени. Маркс показывает, что «...существуют два направления французского материализма: одно ведёт своё происхождение от Декарта, другое от Л о к к а» (там же, с. 139).
Идея коммунизма выступает и как необходимый вывод из развития политич. экономии. Формулируя результаты исследования, проведенного в «Экономи-ческо-философских рукописях 1844 года», Маркс подчеркивает, что частная собственность как богатство есть консервативная сторона антагонизма, а пролетариат— разрушительная революционная его сторона. Идея историч. роли пролетариата, впервые высказанная Марксом в ст. «К критике гегелевской философии права. Введение», получает в «С. с.» более строгую формулировку, опирающуюся на анализ экономич. положения рабочих.
В «С. с.» содержится ряд важных положений, свидетельствующих об углублении Марксом понимания природы обществ, отношений. Не ограничиваясь общей характеристикой отношений между членами гражд. общества как реальной связи, определяющей их политич., гос. деятельность (к этому выводу Маркс пришел еще в 1843), Маркс подходит здесь к мысли об объективном, материальном характере производств, отношений. Пром-сть Маркс характеризует как «...непосредственный способ производства самой жизни» (там же, с. 166).
Социологич. анализ извращенного характера идео-логич. отношений в бурж. обществе, проведенный в «С. с», Маркс дополняет исследованием методологич. основ возникновения извращенных воззрений на действительность. Содержание этого метода составляет идеалистич. спекуляция: общее, свойственное различным предметам и зафиксированное в определенном понятии, объявляется не следствием, а первопричиной этих предметов; в результате движение мышления от общего к отдельному, от абстрактного к конкретному выступает как акт творения действительности размышляющим субъектом.
Разгромив субъективно-идеалистич. концепции Бауэра и его сторонников, Маркс и Энгельс развили свои взгляды не только по проблемам науч. комму-
572
«СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО» —СЕВЕРЦОВ
 низма, философии и социологии, но и по проблемам политич. экономии, права, этики, эстетики, психологии и атеизма.
низма, философии и социологии, но и по проблемам политич. экономии, права, этики, эстетики, психологии и атеизма.
Однако само здание марксизма здесь еще не возведено; осн. идеи науч. коммунизма формулируются пока в терминах антропологии, материализма; не дается анализ классового содержания рассматриваемых концепций. Несмотря на критику ряда положений Прудона и Фейербаха, в «С. с.» имеет место нек-рая переоценка их взглядов; окончат, отношение к ним Маркса и Энгельса определится в 1845—46 (см. «Тезисы о Фейербахе», «Немецкая идеология», «Нищета философии»).
Значение «С. с.» вышло за рамки тех целей, к-рые ставились в период его создания. Это произведение помогает понять существо марксизма, в особенности место и роль в нем философии. Вот почему с 90-х гг. 19 в., когда обострилась борьба с ревизионистами по вопросу о том, обладает ли марксизм собств. филос. концепцией, начинается вторая жизнь «С. с». Внимание марксистов к этому произведению возрастает. В 1895 тщательно конспектирует «С. с.» Ленин, обращая особое внимание на развитие взглядов основоположников марксизма, запечатленное в этом произведении: «...Видно, нем уже овладел Маркс и как он переходит к новому кругу идей» (Соч., т. 38, с. 6). К идеям, изложенным в «С. с», Ленин неоднократно возвращается и впоследствии. Сформулированный Марксом закон возрастания массы населения, к-рая является сознат. историч. деятелем, Ленин характеризовал как «...одно из самых глубоких и знаменитых изречений основателей современного коммунизма...» (там же, т. 28, с. 397).
Показателем нарастающего интереса к «С. с.» служат переиздания этого произведения. При жизни Маркса и Энгельса оно не переиздавалось. Один из его разделов — «Критич. сражение с франц. материализмом» — был напечатан в 1885 в «Neue Zeit» (№ 9, с. 385—95) под заглавием «Der franzosische Materia-lismus des XVIII Jahrhunderts», затем переведен Плехановым на рус. яз. и опубликован в 1892 в качестве приложения к рус. изданию книги Энгельса «Людвиг Фейербах». В 1902 «С. с.» было полностью переиздано Мерингом в кн. «Из лит. наследства К. Маркса, Ф. Энгельса и Ф. Лассаля» («Aus dem literaturischen Nachlass von К. Marx, F. Engels und F. Lassale», hrsg. von F. Mehring, Bd 2, Stuttg.) и с тех пор неоднократно переиздавалось на мн. языках. В 1906 в Санкт-Петербурге появились два рус. перевода «Избранных мест» «С. с», в 1907 — третий; в 1908 группа «Освобождение труда» издала в Одессе перевод издания Меринга «Из лит. наследства» (т. 1—2), в т. я. первый полный перевод, «С. с». За годы Сов. власти «С. с.» издавалось неоднократно: в первом (т. 3, М.—Л., 1929) и втором (т. 2, 1955) изданиях соч. Маркса и Энгельса; в сб.: «К. Маркс и Ф. Энгельс. Исследования. Статьи 1844—1845» (М., 1940); в виде отд. издания (М., 1956).
Лит.: Энгельс Ф., [Письма] Марксу (окт. 1844— март 1845), Соч., 2 изд., т. 27, с. 5—28; Плеханов Г. В., [Предисловие к первому изданию («От переводчика») и примечания к книге Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах...»], Избр. филос. произв., т. 1, М., 1956, с. 451—52, 460—69; его же, От идеализма к материализму, там же, т. 3, М., 1957; Рязанов Д., Предисловие редактора, в кн.: Маркс К., Э н-гельс Ф., Соч., 3 т., М.—Л., 1929; Васильева А., Маркс и «С. с», «ПЗМ», 1933, № 1; С е р е б р я к о в М. В., «С. с.»— совм. труд Маркса и Энгельса, «Вест. ЛГУ», 1947, № 6; Р о з е н б е р г Д. П., «С. с», в его кн.: Очерки развития экономич. учения Маркса и Энгельса в сороковые годы XIX в., М., 1954, с. 160—66; Бах И., Начало великого содружества (К выходу 2-го тома Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса), «Коммунист», 1955, JM5 11; Корню О., «С. с», в его кн.: Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и деятельность, пер. с нем., т. 2, М., 1961; Ойзерман Т. П., Борьба Маркса и Энгельса против филос. и политич. концепций бурж. радикализма, в его кн.: Формирование философия марксизма, М., 1962; Малыш А. И., Экономич. проблемы в
«Святом семействе» К. Маркса и Ф. Энгельса, в сб.: Из истории марксизма и мсждунар. рабочего движения, М., 1964; R u-b el М., Socialisme et sociologle, в кн.: Karl Marx. Essai de biographie intellectuelle, P., 1957, p. 140—59; Rossi M., La sacra famiglia, в кн.: Marx e la dialettica hegeliana, t. 2— La genesi del materialismo storico, Roma, 1963, p. 391—607.
H . Лапин. Москва.
CEA (Zea), Леопольдо (p. 30 июня 1912) — мекс. фи-лософ-идеалист, близкий к экзистенциализму; автор работ по истории философии в Лат. Америке. Проф. Нац. автономного ун-та. Филос. взгляды С. сформировались под влиянием Ортеги-и-Гасета. С. рассматривает развитие философии и культуры в Мексике и Лат. Америке как духовный процесс, не связанный с условиями классовой борьбы. Особенности развития философии С. пытается найти лишь в психологич. и культурных чертах народов — «Осознанность п возможность мексиканского духа» («Conciencia у posibi-lidad de lo mexicano», Мех., 1952), «Человеческое сознание в философии» («La conciencia del hombre en la fi-losofia», Мех., 1953), «Вокруг американской философии» («En torno a una filosofia americana», Мех., 1945).
С о ч..- Supertms philosophus, Мех., 1942; Б1 positivismo en Mexico, Мех., 1943; Apogeo у decadencia del positivismo en Mexico, Мех., 1944; Ensayos sobre filosofia en la historia..., Мех., 1948; Dos etapas del pensamiento en Hispano-America, Мех., 1949; La filosofia en Mexico, t. 1—2, Мех., 1955; Esquema para una historia de las ideas en Iberoamerica, Мех., 1956.
Лит .: Romanell P., La formacion de la mentalidad
mexicana..., Мех., 1954; Villegas A., La filosofia de lo
mexicano, B. Aires, 1960. P . Буреете. Москва.
СЕВЕРЦОВ, Алексей Николаевич [17(29) ноября 1866—19 дек. 1936] — сов. биолог, автор ряда теоре-тич. обобщений в области эволюционной теории. Сын Николая Алексеевича Северцова, одного из первых рус. дарвинистов. Учился в Моск. ун-те (1886—90). Проф. Юрьевского (Тартуского) (1898—1902), Киевского (1902—И) и Моск. (1911—30) ун-тов. Акад. АН СССР (с 1920). Первые работы С. были посвящены спец. вопросам сравнит, анатомии и эмбриологии. Критика, к-рой подвергся в то время биогенетический закон, направила интересы С. в сторону теоретич. анализа его состоятельности как источника изучения филогенетич. процессов («Эволюция и эмбриология», М., 1910; «Этюды по теории эволюции», К., 1912). На основании этого анализа, подкрепленного сравнительно-эмбриологич. исследованиями, С. формулирует теорию филэмбриогенеза, являющуюся развитием идей, высказанных еще Ф. Мюллером (1864). По этой теории возникновение новых эволюц. признаков осуществляется путем изменений, происходящих в эмбрион, периоде. Эти изменения бывают по С. трёх типов (или модусов): анаболии (надставки к конечным этапам развития), девиации (изменения на промежуточных этапах развития) и архаллаксисы (изменения в нач. этапах развития). Рекапитуляция (повторение) признаков предков в эмбрион, развитии потомков наблюдается лишь при анаболиях, частичная — при девиациях, и вовсе не наблюдается при архаллаксисах. Многочисленные сравнительно-ана-томич. и эмбриологич. исследования эволюции низших позвоночных (1916—25) позволили С. сформулировать в дальнейшем морфобиологич. теорию эволюции, по к-рой биологич. прогресс, обеспечивающий процветание вида, может достигаться тремя различными путями: ароморфозами (морфофизиологич. переходами всей организации вида на новую ступень), идиодаптациями (приспособит, изменениями отд. признаков вида, без общего повышения уровня организации) и общей дегенерацией (упрощением всей организации вида, обеспечивающим, однако, повышение его приспособит, возможностей) — «Гл. направления эволюц. процесса», М., 1925; «Morphologische Gesetzrnassigkeiten der Evolution», Jena, 1931. В позднейших работах С. детально рассмотрел принципы преобразования органов, прибавив к ранее известным ряд новых способов эволюц. изменений
СЕКВЕНЦИЙ ИСЧИСЛЕНИЕ —СЕКСТИН 573
 формы и функции органов (1930—35). Свое завершение идеи С. получили в его последнем труде «Морфо-логич. закономерности эволюции», опубликованном уже посмертно (1939). Теории С. обосновываются также в работах его многочисл. учеников и последователей, претендующих на создание особой науки — эволюционной морфологии. С. признавал, что его теории не затрагивают вопросов о причинах и факторах эволюции, а освещают лишь конкретные пути и способы филогенетич. изменений. Тем не менее критика, к-рой было подвергнуто учение С. в 1950-х гг. якобы с позиций мичуринского учения, была лишена оснований и явилась одним из порождений культа личности.
формы и функции органов (1930—35). Свое завершение идеи С. получили в его последнем труде «Морфо-логич. закономерности эволюции», опубликованном уже посмертно (1939). Теории С. обосновываются также в работах его многочисл. учеников и последователей, претендующих на создание особой науки — эволюционной морфологии. С. признавал, что его теории не затрагивают вопросов о причинах и факторах эволюции, а освещают лишь конкретные пути и способы филогенетич. изменений. Тем не менее критика, к-рой было подвергнуто учение С. в 1950-х гг. якобы с позиций мичуринского учения, была лишена оснований и явилась одним из порождений культа личности.
С о ч.: Собр. соч., т. 1—5, М.—Л., 1945—50 (в 1 т. имеется библ. трудов А. Н. С).
Лит.: Матвеев Б. С, Дружинин А. Н., Жизнь
и творчество А. Н. С, в сб.: Памяти акад. А. Н. Северцова,
т. 1, М.—Л., 1939; Северцова Л. Б., А. Н. Северцов.
Биографич. очерк, М.—Л., 1946; Касьяненко В. Г.,
А. Н. Северцов, К., 1951; Матвеев Б. С, А. Н. С,
в сб.: Люди рус. науки. Очерки о выдающихся деятелях есте
ствознания и техники. Биология, медицина, с.-х. науки, М.,
1963. А. Гайсипович. Москва.
СЕКВЕНЦИИ ИСЧИСЛЕНИЕ (от лат. sequentia — последовательность) — введенная в рассмотрение нем. математиком Г. Генценом (1934—35) разновидность понятия формальной системы (исчисления). В отличие от наиболее распространенного типа «гильбертов-ских» формальных систем, в системах генценов-ского типа осн. объектами, к к-рым прилагаются правила преобразования (вывода), являются не формулы, а т. н. с е к в е н ц и и, т. е. пары конечных (в частном случае — пустых) последовательностей формул, соединенные знаком —»-, формальные свойства к-рого аналогичны свойствам знака выводимости |—, играющего осн. роль в натуральных исчислениях (также введенных Генценом в той же работе). Часть А!, ..., А/ секвенции Л !,..., Al -> B 1 , ..., Bm наз. ее антецедентом, В1, ..., Вт — сукцедентом. При I , т^\ секвенция Лl7..., At -+ВХ, ..., Вт интерпретируется в С. и. так же, как формула Аг &... &i( э э£] v..., vBm в системах гильбертовского типа, секвенция с пустым антецедентом интерпретируется как истина, а секвенция с пустым сукцедентом — как ложь (и, следовательно, секвенция ->- —как противоречие). С. и. дает возможность непосредств. построения разрешающих алгоритмов для тех (под) систем логич. и логико-математич. исчислений, для к-рых вообще такой алгоритм возможен (см. Разрешения проблемы) и служит основой для всех известных в ыаст. время алгоритмов выводимости. Этим объясняется чрезвычайно важное значение С. и. для интенсивно ведущихся сейчас работ по машинному поиску логич. вывода, являющихся наиболее существ, примером моделирования «творческой» деятельности человека (см. Эвристика). Из других приложений Си. в первую очередь следует упомянуть о полученных самим Генценом и другими учеными (П. С. Новиков, К. Шютте, В. Аккерман и др.) доказательствах непротиворечивости различных арифметических формальных систем, обходящих в известном смысле трудности, обусловленные теоремой К. Гёделя о неполноте арифметики (см. Метатеория, Полнота).
Лит.: К л и н и С. К., Введение в метаматематику, пер. с англ., М.. 1957, § 20, 23, 77—81; G e n t z e n G., Unter-suchungen iiber das logische Schliessen, «Math. Z.», 1934, Bd 39.
СЕКСТ ЭМПИРИК (Sextus Empiricus) (конец 2— нач. 3 вв.) — античный философ, врач и астроном. Представитель античного скептицизма; последователь Пиррона. В соч. «Против математиков» (термин «математик» обозначал ученого вообще) С. э. подверг критике грамматику, риторику, геометрию, арифметику, астрономию, теорию музыки, а также нек-рые логич., физич. и этич. учения. Следуя Карнеаду, С. Э. критиковал понятие бога и все религ. верования вообще.
Характеризуя свою филос. позицию, С. Э. отмежевывался как от догматиков, развивавших то или иное филос. учение в качестве законченной системы, так и от агностиков, отрицавших возможность адекватного познания мира. По С. Э., скептик ничего не утверждает и ничего не отрицает (в аподиктическом смысле), он — «ищущий».
В соч. «Пирроновы положения» С. Э., как и Пиррон, считал целью философии достижение душевного спокойствия и вытекающего отсюда личного счастья, полагал, что именно скептич. отношение ко всему в теории и практике служит достижению этой цели.
С. Э. оказал влияние на Монтеня, Ла мот-Левайе, Вейля и др. скептиков нового времени.
У С. Э. можно выявить уже начатки вероятностной логики, явившейся исторически первой формой, в к-рой вызревали идеи и методы математич. теории вероятности. С. Э. исходил из идей Карнеада о степенях правдоподобного рассуждения. В этой связи он различал: (1) просто вероятные утверждения, (2) вероятные и проверенные утверждения, (3) всесторонне подтверждаемые утверждения. В последнем случае, однако, мы, по С. Э., имеем дело с положением наибольшей вероятности, но не с аподиктич. положением. Согласно С. Э., каждое эмпирич. высказывание имеет вероятность меньше единицы. Логич. доктрину С. Э. можно рассматривать также как определенный шаг от двухзначной логики в сторону трехзначного логич. формализма.
Оппонируя стоикам, С. Э. выставлял известный аргумент бесконечности (regressus ad infinitam): всякое доказательство предполагает истинность посылок, последние, в свою очередь, нуждаются в доказательстве, и т. д. Особое внимание С. Э. уделял т. н. «тропем воздержания», т. е. аргументам о невозможности существования истинных аподиктич. суждений. Он критиковал также механистич. представление о причинности, силлогизм и указывал на ненадежность индуктивных обобщений. Эти его аргументы были в дальнейшем почти буквально повторены Дж. С. Миллем.
С. Э. подробно излагал полемику внутри стоико-мегарской школы по вопросу о природе логич. следования, отвергая как теорию материальной импликации у Филона из Мегары, так и индуктивно-модальную концепцию следования у Диодора Крона. Его собств. понимание условных суждений проникнуто тенденцией крайнего эмпиризма.
В числе др. скептиков С. Э. требовал отказа от политики и активной обществ, деятельности, индифферентизма во всех обществ, делах, подчинения господствующим порядкам и обычаям.
В медицине С. Э. причислял себя к той эмпирич. школе, к-рая отказывалась искать причины болезней и строила врачебную науку на наблюдениях действий лекарств на человеч. организм. С. Э. занимался астрологией. Соч. С. Э. являются важнейшим источником сведений об учениях древнегреч. философов. В них содержатся цитаты из утерянных соч. Ксенофана, Гераклита, Парменида, Демокрита и др.
Соч. [Opera]. Ex recensione L. Bekkeri, Berolini, 1842; [Opera]. With an English transl. by R. G. Bury, v. 1—4, L.— N. Y., 1933—49; Opera.k Recensuit Hermannus Mutschmann, v. 1—3, Lipsiae, 1912—54 (в серии: Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana); в рус. пер.— Три книги Пирроновых положений, пер., предисл. и примеч. Н. В. Брюлловой-Шаскольской, СПБ, 1913.
Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 38, с. 293—97; Рихтер Р., Скептицизм в философии, пер. с нем., т. 1, СПБ, 1910; История философии, т. 1, [М.], 1940; История философии, т. 1, М., 1957; MacColl N., The Greek Sceptics from Pyrrho to Sextus, L., 1869; Prentice W. P., The indicative and admonitive signs of Sextus Empiricus. A philosophical dissertation, Gott., 1858; Mates В., Stoic logic and the text of Sextus Empiricus, «Amer. J. Philology», 1949, v. 70. А. Маковелъский. Баку, Н. Стяжкин. Москва.
СЕКСТИН (Sextii), Квинт (р. ок. 70 до н. э.) и его сын Секстий — основатели небольшой и недолго
574
СЕКТАНТСТВО
 просуществовавшей школы рим. стоиков, эклектически примешивавших к своему осн. учению также и неясные для нас пифагорейско-платонич. элементы. Из этой школы вышел Сенека. О строгом ригоризме Квинта Секстин, доходившем до кинич. твердости, а также об идее перевоплощения душ у некоего Сотпона, ученика Квинта Секстия, можно судить по реминисценциям из Сенеки и нек-рым изречениям из Стобея. Сборник сентенций, восходящий якобы к Квинту Секстию и имевший нек-рое распространение среди ранних христиан, согласно Целлеру, едва ли принадлежал самому Секстию и содержал в себе откровенные иудаистически-христ. монотеистпч. элементы. Сенека трактовал Квинта Секстия как типичного римлянина, т. е. как принципиального и сильного человека с непоколебимым характером, противостоящего любым треволнениям жизни.
просуществовавшей школы рим. стоиков, эклектически примешивавших к своему осн. учению также и неясные для нас пифагорейско-платонич. элементы. Из этой школы вышел Сенека. О строгом ригоризме Квинта Секстин, доходившем до кинич. твердости, а также об идее перевоплощения душ у некоего Сотпона, ученика Квинта Секстия, можно судить по реминисценциям из Сенеки и нек-рым изречениям из Стобея. Сборник сентенций, восходящий якобы к Квинту Секстию и имевший нек-рое распространение среди ранних христиан, согласно Целлеру, едва ли принадлежал самому Секстию и содержал в себе откровенные иудаистически-христ. монотеистпч. элементы. Сенека трактовал Квинта Секстия как типичного римлянина, т. е. как принципиального и сильного человека с непоколебимым характером, противостоящего любым треволнениям жизни.
Лит .: Zeller Ed., Die Philosophie der Griechen, 5 Aufl., Tl 3, AM. 1, Lpz., 1923, S. 699—706. А. Лосев. Москва.
СЕКТАНТСТВО (лат. secta — школа, учение) — обособление религ. организаций и групп, отколовшихся от тех или иных т.н. мировых церквей и религий и оппозиционных им. Ленин писал о религ. С: «Известен факт роста в крестьянской среде сектантства и рационализма,— а выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития...» (Соч., т. 4, с. 223).
Христ. С. получило широкое развитие в эпоху ср. веков как обществ, движение демократам, элементов, выступающее против господств, церкви — опоры и санкции феод, иерархии. Религ. идеологию С. отличает индивидуализм, сочетающийся в одних случаях с элементами мистич. пантеизма, в др. случаях с элементами рационализма и противостоящий авторитарному, схоластическому, внешне-обрядовому учению феод, церкви. Для периода ср. веков в странах Зап. Европы понятие о сектах идентично понятию об ересях.
Бурж. революции 16—17 вв. положили конец религ. формам революц.-демократич. движения (см. Ф. Энгельс, Юридический социализм, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21, с. 495—516). Религ. секты, возникающие в 17 —19 вв., представляют собой гл. обр. организации бурж.-протестантского типа, отличающиеся от реформированных нац. церквей большим приспособлением к вкусам и чаяниям мелкой буржуазии. На смену солидарности участников религ. движений, обусловленной интересами антифеод, борьбы, шло, хотя п под демократам, покровами, господство «клира» над «миром», а с ним догматич. нормативы, обрядность и ритуал. Классовая борьба между верхами и низами порождала в С. новообразования, к-рые, в свою очередь, раскалывались теми же противоречиями и порождали новые толки. С. развивалось в неудержимом дроблении его исходных форм и их дериватов.
Наиболее ранним и влият. новообразованием, выросшим на почве протестантизма, стал баптизм (см. Баптисты), уже в 17 в. подразделившийся на неск. течений. На почве баптизма в 1-й трети 19 в. возникли адвентисты, также разветвившиеся на ряд сект, к одной из к-рых восходят иЬговисты (конец 19 — нач. 20 вв.), породившие в наст, время свои течения («Церковь царства божия» и др.). В начале 20 в. возникли пятидесятники, расколовшиеся вскоре на организации «умеренных», «апостольских», «первой пятидесятницы» и др. Баптисты, адвентисты, иеговисты отличаются среди религ. С. наибольшим распространением и наличием междунар. центров.
В России в силу ее относительной обществ.-эконо-мич. отсталости сектантские движения не совпадали по своему историч. значению с еретическими. В России антифеод, еретич. движения 14—16 вв. локализова-
лись в крупных гор. центрах, не получив отклика в массе патриархального крестьянства, к-рое выступило с широкой религ. оппозицией (т. н. раскол) лишь во 2-й пол. 17 в. с зарождением бурж. отношений в деревне. В городах передовая обществ, мысль в это время начинала переходить от еретичества к филос. свободомыслию. В расколе преобладающим течением явилось старообрядчество, к-рому по численности последователей и области распространения уступало С, доводившее оппозицию господств, церкви до отрицания самого ин-та церкви и догматич. основ православия. Социальными носителями С. во 2-й пол. 17 в. и в 18 в. были гл. обр. крестьяне, втягивавшиеся в товарно-денежные отношения. В отличие от еретич. движений 14—16 вв. в странах Зап. Европы, С. в России с самого начала не имело перспектив ни стать всеобщим крест, движением, ни сыграть роль революц. оппозиции крепостничеству, воспроизводя в новых условиях архаичную феод, форму классовой борьбы. Развитие С. как демократам, движения завершилось в основном уже в 60-е гг. 19 в.
Осн. религ. сектами в России были: христоверие (возникшее во 2-й пол. 17 в., выделившее во 2-й пол. 18 в. скопцов и в 19 в. разветвившееся на постников, староизраильтян и новоизраильтян), духоборы и молокане; обе секты возникли в 60-х гг. 18 в. и в 19 в., разветвились на ряд течений. Под религ. формами этих движений скрывалось отрицание угнетения человеком человека, чему противопоставлялось построение «царства божия» на земле, этика добрых дел, равенство верующих в общинах, отказ от общеобязат. нормативов догматики и внешней обрядности. В истории этих направлений С. имели место и попытки образования производств, и производственно-бытовых коммун на уравнит. принципах. На практике в сектантских общинах развивалось социальное расслоение и во главе общин вставали представители крест, буржуазии. Царизм и церковь подвергали С. жестоким преследованиям (массовое переселение сектантов на окраины страны — в Закавказье, на Дальний Восток, в Амурскую область, Сибирь, Якутию).
В пореформенный период (70—80 гг.) получили распространение баптисты, евангельские христиане (евангелисты), адвентисты, а в начале 20 в. появились пятидесятники. Демократические по составу рядовых участников, эти религ. направления не были таковыми по своей общественно-политнч. роли и идеологии. Не социальный протест, а отчаяние «маленького человека» перед силами капитала запечатлелись в учении о предопределении баптизма и евангельского христианства, эсхатологич. чаяниях адвентизма, мистике пятидесятничества. Порожденные противоречиями бурж. обществ, отношений, эти секты были церквами бурж.-протестантского типа, конкурировавшими с господств, православием; общая численность их последователей накануне Окт. революции составляла не св. 250 тыс. чел. из общего числа сектантов в России ок. 1 млн. (статистика их крайне запущена).
Окт. революция и социалистам, строительство привели к глубоким переменам в состоянии религ. С. и оторвали от него мн. последователей. К исходу 30-х гг. завершился распад дореформенного С, ослабли позиции и пореформенных сект — центр, организации баптизма и пятидесятничества распались. В 1944—45 произошло объединение последователей евангельского христианства, баптизма, пятидесятничества в Союз «евангельских христиан-баптистов». Наряду с ним в наст, время существуют общины адвентистов. Сов. законодательство о культах, обеспечивая гражданам СССР полную свободу совести, запрещает деятельность таких религ. организаций, к-рые под покровом религии ведут антигос. деятельность или наносят ущерб здоровью своих последователей или,
СЕЛЗАМ — СЕЛЛЕРС
575
 наконец, проповедуют безнравств. действия. К таковым относятся, напр., иеговисты, адвентисты-реформисты, пятидесятники с их расстраивающим психику «говорением на языках», скопцы, насаждающие кастрацию, и т. п.
наконец, проповедуют безнравств. действия. К таковым относятся, напр., иеговисты, адвентисты-реформисты, пятидесятники с их расстраивающим психику «говорением на языках», скопцы, насаждающие кастрацию, и т. п.
В послевоенные годы произошло известное оживление С. в связи с нем.-фашистской оккупацией ряда территорий страны. Рост С. стимулировался активностью его проповедников в условиях, когда научно-атеис-тич. пропаганда в ряде мест была прекращена. Росту С. способствовали и идеологии, влияния из-за рубежа.
В сов. обществе закономерным является отход от религии. Общая численность сектантов сократилась за годы Сов. власти вдвое. Значит, часть последователей совр. сект составляют люди преклонного возраста, не участвующие непосредственно в обществ.-производит. труде (домохозяйки, пенсионеры), преим. женщины. Это свидетельствует о том, что проповедники С. пользуются недостатками воспитат. работы среди тех или иных групп населения.
Лит.: П у т и н ц е в Ф. М., Политич. роль и тактика сектантов, М., 1935; Бон ч-Б р у е в и ч В. Д., Избр. соч., т. 1, М., 1959; Клибанов А. И., С. в прошлом и настоящем, в сб..: Вопросы истории религии и атеизма, [т.J 9, М., 1961; его же, Религ. С. в наши дни, М., 1964; его же, История религ. С. в России, М., 1965. А. Клибанов. Москва.
СЕЛЗАМ (Selsam), Говард (р. 28 июня 1903) — амер. философ-марксист, д-р философии (1930). В 1964 вместе с др. прогрессивными деятелями США стал учредителем Амер. ин-та марксистских исследований. В наст, время С.— один из членов редколлегии марксистского журн. «Science and Society».
С. пропагандирует марксизм-ленинизм, отстаивает идеи мира и социализма, критикует реакц. идеологию. Работа С. «Что такое философия? Марксистское введение» («What is philosophy? A Marxist introduction», L., 1938,3 ed.,L., 1962) выдержала в СШАнеск. изданий и переведена на ми. иностр. языки; в ней изложены основы диалектич. и историч. материализма.. При рассмотрении категорий материалистич. понимания истории особое внимание он уделяет анализу проблемы свободы. В кн. «Социализм и этика» («Socialism and ethics», N. Y., 1943; в рус. пер,, под назв. «Марксизм и мораль», М., 1962), а также в работе «Этика и прогресс» («Ethics and progress», N. Y., 1965) С. дает марксистский анализ проблем нравственности. С. вскрывает науч. несостоятельность бурж. эмпирич. социологии, показывает реакц. характер совр. прагматизма. Соч. в рус. пер.: Прагматизм — философия американского империализма, в сб.: Прогрессивные деятели США в борьбе за передовую идеологию. Сб. переводов, М., 1955; Философия в революции, М., 1963.
Лит.: История философии, т. 6, кн. 1, М., 1965, с. 148,
162, 226—27, 484 — 85. В. Леонтьев. Москва.
СЕЛИВАНОВ, Владимир Иванович (р. 8 июля 1906) — сов. психолог, д-р филос. наук (с 1953). Член КПСС с 1948. Окончил Академию коммунистич. воспитания им. Крупской (1931) и аспирантуру Ин-та психологии (1938). С 1938 работает в Рязанском лед. ин-те, с 1942 — зав. кафедрой педагогики, затем — психологии. Осн. проблема изучения — воля и ее воспитание.
Соч.: Учение Спинозы об аффектах, «Уч. зап. Рязанск. гос. пед. ин-та», 1940, т. 2; Воспитание воли школьника, М., 1949, 2 изд., М., 1954; К вопросу о т. наз. произвольном поведении, в сб.: Учение И. П. Павлова и филос. вопросы психологии, М., 1952; О развитии материалистич. понимания воли в домарксовской философии, «Уч. зап. Рязанск. гос. пед. ин-та», 1956, т. 13; О побудительных силах поведения личности, «Вопр. психологии», 1957, № 3; О конкретности изучения личности сов. человека, в сб.: Вопр. психологии личности, М., 1960; Воспитание воли в процессе соединения обучения с производительным трудом, М., 1960; Волевые черты нового рабочего, в сб.: О чертах личности нового рабочего, М., 1963; Первичные сельские коллективы и их влияние на формирования личности, в кн.: Социология в СССР, т. 1, М., 1965; Труд и волевые качества личности, в кн : Личность и труд, М., 1965.
СЕЛИМЙНСКИЙ, Иван (Иордан Георгиев Хрис-тев) (1799—1867) — общественный деятель, просве-
титель-демократ, родоначальник материалистич. традиции в Болгарии; теоретик русофильства. По образованию — врач. Мировоззрение С. складывалось под влиянием гл. обр. франц. просветителей и нем. естествоиспытателей. В Болгарии предшественником С. был Берон. С. исходил из признания объективного существования природы, вечности материи и ее законов. В теории познания С. придерживался сенсуализма. Задачи философии видел в том, чтобы освещать путь человека к конечной цели — счастью. В целом воззрения С. не выходили за рамки механистич. материализма.
С. выступал против клерикализма. Происхождение религии он объяснял невежеством, но считал необходимым сохранить ряд «чистых евангельских истин» в качестве моральной основы общества.
С о ч.: Библиотека «Д-р Ив. Селимински», кн. 1—6, пер.
П. Чалева, С, 1904—07; кн. 7—14, пер. Е.Пажевой.С.,1928—31.
Лит.: С тан ев Н., Д-р Ив. Селимински, С, 1935;
Арнаудов М., Селимински. Живот—дело—идеи. 1799 —
1867, С, 1938; Андреев А., Към въпроса за мирогледа
на д-р Ив. Селимински, «Философска мисъл», 1957, кн. 3;
Г р о з е в Г., Д-р Ив. Селимински. Философски, социологи
чески, етически и педагогически възгледи, «Годишник на Со-
фийския университет. Философско-исторически факультет»,
1961, т. 55; Кристанов Ц,, Маслев С, Пена-
ков И., Д-р Ив. Селимински като учител, лекар и общест-
веник, С, 1962. М. Бычваров. ВНР.
СЕЛЛЕРС1, С е л л а р с (Sellars), Рой Вуд (р. 9 июля 1880)—амер. философ, проф. Мичиган, ун-та (1905—50). В начале своей деятельности примыкал к критическому реализму, занимая в нем близкую к материализму позицию. В дальнейшем переходит на позиции «эволюционного натурализма» — космологич. теории, признающей единств, реальностью развивающуюся природу. Материализм он понимает как онтологию натурализма. Материальность мира подтверждается, по С., «нашей практической уверенностью в том, что мы можем формировать вещи и придавать им различный вид» («The Journal of Philosophy», 1943, № 8, p. 204—05). Т. о., С. вводит в свое филос. учение практику, к-рую, однако, сводит к индивидуальной деятельности человека. Теории эмерджентной эволюции, к сторонникам к-рой С. себя причисляет, он дает материалистич. истолкование, рассматривая мир как самодвижущуюся динамич. систему и признавая возможность предвидения и познания закономерностей возникновения новых качеств. В теории познания С. развивал «теорию соответствия»: соответствие знания и вещи состоит в том, что вещь правильно указана, обозначена и символизирована; т. о., познание оказывается обозначением, а не отражением. Осн. акт познания — восприятие, включающее, кроме ощущений, «обозначающее отнесение к объективному», превращающее восприятие в объективный «органический ответ». Теория соответствия связана также с метафизич. разграничением С. «первичных» и «вторичных» качеств: познание воспроизводит лишь механич. св-ва вещей. Т. о., теории познания С. присущи элементы агностицизма. В последнее время С. подходит к признанию теории отражения. Наряду с признанием важности достижений диалектич. материализма, с к-рым С. познакомился в 40-х гг., он приходит к упрощенному толкованию диалектики, сводимой С. к динамизму (см. «Reflection on dialectical materialism», в журн.: «Philosophy and phenomenological research», 1944, v. 5, № 2, p. 175).
Развитие общества С. идеалистически связывает с развитием познания человеком мира и самого себя. Выступая против всего сверхъестественного, С, однако, защищает «религ. гуманизм» как религию этой жизни с ее проблемами и возможностями («Religion coming of age», 1928).
С о ч.: Critical realism, Chi., 1916; The next step in democracy, N. Y., 1916; The essentials of logic, Boston, 1917; The essentials ot philosophy, N. Y., 1917; The next step in religion, N. Y., 1918; Knowledge and its categories, в сб.: Essays in cri-
576 СЕМАНТИКА —СЕМЕНОВ
 tical realism, L., 1920; Evolutionary naturalism, Chi., 1922; The principles and problems of philosophy, N. Y., 1926; Realism, naturalism and humanism, в сб.: Contemporary American philosophy, v. 2, L.—N. Y., [1930]; Philosophy of physical realism, N. Y., 1932; My philosophical position, «Philosophy and phenomenological research», 1955, v. 16, № 1; Panpsychism or evolutionary materialism, «Philos. Sci.», 1960, v. 27, № 4; Три ступени материализма, «ВФ», 1962, № 8.
tical realism, L., 1920; Evolutionary naturalism, Chi., 1922; The principles and problems of philosophy, N. Y., 1926; Realism, naturalism and humanism, в сб.: Contemporary American philosophy, v. 2, L.—N. Y., [1930]; Philosophy of physical realism, N. Y., 1932; My philosophical position, «Philosophy and phenomenological research», 1955, v. 16, № 1; Panpsychism or evolutionary materialism, «Philos. Sci.», 1960, v. 27, № 4; Три ступени материализма, «ВФ», 1962, № 8.
Лит.: Богомолов А. С, Эволюционный натурализм Р. В. Селлерса и диалектический материализм, «ВФ», 1959, № 3; е г о же, Идея развития в бурж. философии XIX и XX вв., М., 1962, с. 336—62; его ж е, Р. В. С. о материа-листич. теории познания, «ВФ», 1962, № 8.
А. Богомолов. Москва.
СЕМАНТИКА в логике (греч. aEpavtixog—означающий, от aepaivco—означаю) — отдел логики, изучающий значения понятий и суждений, в особенности при записи их в виде выражений т. н. формальных систем (см. Синтаксис в логике). К задачам С. относится прежде всего уточнение таких общелогич. понятий, «как «смысл», «соответствие», «предмет», «множество», «логическое следование», «интерпретация» и т. п. Важное место в С. занимают вопросы различения между объемом понятия и содержанием понятия, между значением истинности суждения и смыслом суждения. Свойства, связанные с объемом понятия и значением истинности суждения, наз. экстенцио-н а л ь н ы м и, а свойства, связанные с содержанием понятия и смыслом суждения,— и н т е н ц и о н а л ь-н ы м и. Так, суждения «дважды два четыре» и «Волга впадает в Каспийское море», равносильные экстен-ционально (их значения истинности совпадают), различаются интенционально (они имеют разные смыслы).
Точный смысл проблемы С. приобретают в связи с построением и изучением формальных систем. При исследовании к.-л. формальной системы семантич. проблемы возникают тогда, когда система получает интерпретацию, т. е. истолковывается как отображающая нек-рую содержательную теорию или раздел науки, в силу чего приобретают значение (смысл) выражения данной системы. Сама система в этом случае наз. семантической, или интерпретированной. При изучении формальных систем объектом С. являются общие вопросы соотношения между формальной системой и ее интерпретациями. Т. о., в С. изучаются такие проблемы, как проблема истины (соответствие формул или предложений семантич. системы «положению вещей» в изображаемой области), проблемы, связанные с соотношением знака и обозначаемого, проблема определения смысла выражений системы и т. п. С. при этом не может быть оторвана от синтаксиса, к-рый она естественно дополняет. (Существуют вопросы, являющиеся одновременно и синтаксическими и семантическими. Так, напр., одно из определений полноты формальной системы состоит в том, что система полна, если добавление к ее аксиомам формулы, не являющейся теоремой, делает систему противоречивой; само это определение имеет синтак-сич. характер, однако существенно используемое в нем понятие непротиворечивости может определяться и семантически). Но, в отличие от синтаксиса, С. рассматривает выражения формальных систем не просто как таковые, а как записи суждений и понятий. Запись нек-рого понятия (для простоты, единичного) может считаться именем предмета, составляющего объем этого понятия. Т. о., возникает трехчленное соответствие (называемое часто «основным семантич. треугольником») между предметом, содержанием понятия и именем. Чтобы подчеркнуть отношение первого и второго членов к третьему, их называют предметом (или денотатом) имени и концептом имени. Так, у имен «А. С. Пушкин» и «автор „Евгения Онегина"» одинаковые предметы, но разные концепты.
Многие важные проблемы логич. С. являются традиционными. Однако традиц. идеи (в особенности гре-
ческих и ср.-век. авторов) получили более или менее полное объяснение и развитие только в конце 19— нач. 20 вв. в работах Г. Фреге, Б. Рассела и логиков лъвовско-варшавской школы. А. Тарский заложил основы систематич. построения совр. логич. С. (1929), к-рую он продолжал развивать в своих позднейших работах. Осн. внимание Тарский уделяет анализу семантич. понятий («истина», «определение», «выполнимость», «обозначение» и др.) и выяснению возможности их определения. По Тарскому, семантич. понятия могут быть определены только для формализованных языков, т. е. языков, построенных как нек-рое (интерпретированное) логическое исчисление. Для того же, чтобы определить семантич. понятия для неформализованных, в т. ч. естеств., языков, необходимо построить формализованные языки, служащие приближениями к данному языку. Как показал Тарский, попытка определения семантич. понятий, в частности понятия истины, в системе того языка, в к-ром они фигурируют, с неизбежностью приводит к возникновению парадоксов семантических типа парадокса «Лжец». Поэтому для определения семантич. понятий, помимо исследуемого, или объектного, языка, должен вводиться метаязык, на к-ром должно вестись рассуждение об определяемых его средствами семантич. понятиях объектного языка. Работы Тарского оказали влияние на Р. Карнапа, к-рый создал наиболее развитую систему С. в серии работ под общим названием «Исследования по семантике» («Studies in semantics», 1942—47). Взглядам Карнапа и Тарского противопоставляет свою позицию У. Куайн. То, что обычно понимается под С, он делит на две части: теорию смысла и теорию обозначения. Первую характеризуют такие понятия, как «смысл», «синонимия» (см. Синонимы), «осмысленность», «следование». Вторую— понятия «обозначение», «наименование», «истина». По мнению Куайна, эти две дисциплины настолько отличаются друг от друга, что нецелесообразно объединять их под общим названием С. Более или менее развитой из них Куайн считает теорию обозначения, к к-рой он относит, напр., большинство работ Тарского. Дж. Кемени в работе «Новый подход к семантике» («A new approach to semantics», «T. J. Symbolic Logic», 1956, v. 21, № 1—2) предложил новую систему формализованной С. Он строит формализованный язык, в к-ром определяются понятия «модели» и «интерпретации». На основе понятия интерпретации Кемени вводит различение аналитич. и синтетич. высказываний: аналитическое имеет место во всех интерпретациях данного исчисления, тогда как синтетическое имеет место лишь в нек-рой данной интерпретации. В соответствии с этим понятия, определяемые в терминах всех интерпретаций, относятся к тому, что Куайн назвал теорией смысла, а понятия, определяемые в терминах одной интерпретации,— к теории обозначения. См. также Семиотика.
Лит.: Ф и н н В. К., О некоторых семантических понятиях для простых языков, в сб.: Логическая структура науч. знания, М., 1965; Смирнова Е. Д., Формализованные языки и логическая форма, там же; Ajdukiewicz К., Sprache und Sinn, «Erkenntnis», 1934, Bd 4, [H. 2]; Church A., Carnap's «Introduction to semantics», «The Philosophical Review», 1943, v. 11 (52), № 3; L i n s k у L. [e d.i, Semantics and the philosophy of language, Urbana, 1952; Frege G., Translations from the philosophical writings, Oxf., 1952.
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ — уточнение понятия «информации» с т. зр. ее смысла (значения, содержания — см. Семантика), целью к-рого является в известном смысле адекватиое приписывание количеств, меры «качественным» семантич. характеристикам сообщений (предложений, высказываний). См. Теория информации.
СЕМЁНОВ, Вадим Сергеевич (р. 1 янв. 1927) — советский философ, д-р филос. наук (с 1964). Чл.КПСС с 1953. Окончил Моск. ин-т междунар. отношений
СЕМЁНОВ —СЕМИОТИКА 577
 (1949). С 1958 — в Ин-те философии АН СССР; область науч. исследований — проблемы развития социальных отношений и классовой структуры в СССР и странах капитализма, вопросы науч. коммунизма, критика бурж. социологии.
(1949). С 1958 — в Ин-те философии АН СССР; область науч. исследований — проблемы развития социальных отношений и классовой структуры в СССР и странах капитализма, вопросы науч. коммунизма, критика бурж. социологии.
Соч.: Миф о «средних классах» и капиталистич. действительность, «ВФ», 1957, № 5; Антинауч. теории о классах и классовой борьбе в совр. бурж. социологии, «Коммунист», 1958, .№ 3; Проблема классов и классовой борьбы в совр. бурж. социологии, М., 1959; Теории социальной структуры капитализма, в сб.: Историч. материализм и социальная философия совр. буржуазии, М., 1960; Ростоу и проблема войны и мира; Теоретич. банкротство концепции У. Ростоу, «Мировая экономика и междунар. отношения», 1961, № 7; Нарастание классовой борьбы в странах капитала, в кн.: Великая хартия коммунистич. и рабочих партий, М., 1961; Классы и классовая борьба в совр. бурж. обществе, М., 1961; На пути к бесклассовому обществу, «Коммунист», 1962, № 1; Миф о «тождественности» капитализма и социализма, в кн.: Новейшие приемы защиты старого мира, М., 1962; На V Всемирном социалистич. конгрессе, «ВФ», 1962, .№ 11; Преобразования в рабочем классе и интеллигенции в процессе перехода к коммунизму, в кн.: От социализма к коммунизму, М., 1962; Марксистская и бурш, социология о путях совр. обществ, развития, в кн.: Марксистская и бурж. социология сегодня, М., 1964; Проблема сближения города и деревни, там же; О партии и интеллигенции в Сов. Союзе, там же; Советская власть — власть трудящихся, в кн.: Социализм и народовластие, М., 1965; Движение человечества к коммунизму и бурж. концепция «единого индустр. общества», «ВФ», 1965, № 5 (соавтор); Социальная структура сов. общества, «Коммунист», 1965, № 11; К обществу без классов, М., 1965; Классы и классовая борьба, в кн.: Советская историч. энциклопедия, т. 7, М., 1965; Рабочий класс и его роль в строительстве коммунизма, в кн.: Строительство коммунизма и развитие обществ, отношений, М., 1966; Интеллигенция и служащие в условиях строительства коммунизма, там же.
СЕМЁНОВ, Юрий Иванович (р. 5 сент. 1929) — сов. философ, кандидат филос. наук (с 1956), д-р историч. наук (с 1963), зав. кафедрой философии Рязанского мед. ин-та (с 1962). Член КПСС с 1950. Окончил историч. ф-т Красноярского пед. ин-та (1951). С 1952 преподает философию в вузах. Работает преимущественно над вопросами теории познания, историч. материализма, истории первобытного общества, этнографии.
С о ч.: Возникновение и осн. этапы развития труда, «Уч. зап. Красноярск, пед. ин-та», 1956, т. 6; К вопросу о первой форме классового общества, там же, 1957, т. 9, вып. 1; Материальное и идеальное в высшей нервной деятельности животных, там же, 1958, т. 12, вып. 2; Объективная логика развития высшей нервной деятельности животных, там же; В. И. Ленин о тождестве логики, диалектики и теории познания диалектического материализма, Красноярск, 1958; К дискуссии по проблемам возникновения труда и становления человеческого общества, «Сов. антропология», 1958, т. 2, № 4; К вопросу о причине матрилинейности первоначального рода, «Уч. зап. Красноярск, пед. ин-та», 1958, т. 13, вып. 2; «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса и совр. данные этнографии, «ВФ», 1959, N« 7; Правда о сектантстве и сектантах, [Красноярск], 1959; О месте «классических» неандертальцев в человеческой эволюции, «Вопр. антропологии», 1960, вып. 3; В. И. Ленин о категории «общественно-экономический уклад», «Уч. зап. Красноярск, пед. ин-та», 1960, т. 18; В. И. Ленин о творческом характере человеческого познания, там же; Возникновение человеческого общества, Красноярск, 1962; О корнях религии и философского идеализма, в кн.: Философские записки (Труды методологич. семинара), Красноярск, 1962; К постановке психофизиологической проблемы, «Сб. научн. тр. Рязанск. мед. ин-та», 1964, т. 20.
СЕМЁНОВ, Юрий Николаевич (р. 26 июля 1925) — советский философ, доктор философских наук. Член КПСС с 1953. Окончил Московский институт международных отношений (1948). В 1951 — преподаватель философии в том же институте, с 1963 — старший научный сотрудник Института философии АН СССР. Работает в области современной буржуазной политической и социальной философии (прежде всего США я Англии).
Соч.: Фашистская геополитика на службе амер. империализма, 2 изд., [М.], 1952; Обществ, прогресс и социальная философия совр. буржуазии, М., 1965.
СЕМИОТИКА (от греч. anu.E!ov — знак) — комплекс науч. теорий, изучающих свойства знаковых с и с т е м, т. е. систем, объектов (конкретных или абстрактных) — они наз. знаками,— каж-
дому из к-рых определ. образом сопоставлено нек-рое значение (также могущее быть — для различных знаковых систем и при различном истолковании значений знаков — как конкретным физич. объектом, так и абстрактным понятием). Знаковыми системами являются естественные (разговорные) языки, системы предложений науч. теорий, искусств, языки (в т. ч. формализованные и частично формализованные ес-теств.-науч. языки, напр. интерпретированные логич. и математич. исчисления, химич. символика, алгорит-мич. языки и языки программирования, информац. языки), системы сигнализации в человеч. обществе и животном мире (от азбуки Морзе и системы знаков уличного движения до «языка» пчел или дельфинов), системы состояний и входных и выходных сигналов различных машин и автоматов (в широком понимании, включая аналоговые и цифровые вычислит, машины и абстрактные «машины», напр. «машины Тьюринга», см. Алгоритм) и т. д. При определ. условиях в качестве знаковых систем могут рассматриваться «языки» изобразит, иск-в и музыки, всевозможные машины-орудия и станки, физич. схемы и приборы и вообще любые устройства, рассматриваемые как «черные ящики», вплоть до живых организмов и отд. их частей и систем (напр., человеч. мозг), наконец, производств, и социальные объединения (коллективы).
Соединение в рамках С. столь широкого круга объектов изучения связано с фиксацией внимания на определенном их аспекте — на рассмотрении их именно как систем знаков, в конечном счете служащих (или могущих служить) для выражения нек-рого содержания. Естественность такого подхода определяется всем развитием науки, в ходе к-рого устанавливается все большее число общих для различных знаковых систем закономерностей (см. Изоморфизм). Семиотич. идеи развились прежде всего в логике и математике (Лейбниц) и в лингвистике (Ф. де Соссюр). Осн. принципы С. как единой науки были сформулированы Ч. Пирсом и развиты в работах Ч. Морриса, Р. Карнапа, логиков львоеско-еаршавской школы (особенно А. Тарского) и др. (Родственные семиотич. подходу идеи проявились также в сигнифике.) В наст, время естественнее говорить о С. не как сложившейся единой науке, а скорее о семиотич. проблемат и-к е, о семиотическом (связанном с выделением знаковых систем в качестве особого объекта изучения в данной области знания или практики) подходе к исследованию различных объектов; осн. фактич. материал, полученный к наст, времени в семиотич. исследованиях, относится к математической логике (теория логич. и логико-математич. исчислений и их интерпретаций) и лингвистике математической (построение и изучение т. н. моделей языка в работах Н. Хомского, И. Вар-Хиллела и др.).
Знаковые системы осуществляют ряд важных функций познавательного, социального и технико-прикладного характера, в частности: функцию передачи выражаемого знаками сообщения, особенно функцию выражения смысла (значения); функцию общения (обеспечения взаимопонимания между людьми в социальных коллективах, волевого и эмоц. воздействия и т. п.); познават. функцию, связанную с приобретением новых знаний и др. Семиотич. проблематика обычно рассматривается в трех осн. аспектах, соответствующих трем осн. разделам (или уровням) С. Ими являются: 1) с и н т а к т и к а, изучающая синтаксис различных знаковых систем, т. е. структуру сочетаний знаков и правила их образования и преобразования безотносительно к их значениям и к.-л. функциям знаковых систем, т. е. рассматривающая последние как неинтерпретированные системы объектов; 2) с е м а н т п к а, изучающая знаковые системы как средства выражения смысла, осн. предметом к-роп
578 СЕМИОТИКА — СЕМЬЯ
 являются интерпретации знаков и знакосочетаний; 3) прагматика, изучающая отношение знаковых систем к тем, кто их использует (к «приемникам-интерпретаторам» сообщений). Своеобразие С. как комплексного науч. направления, как определ. подхода к изучению систем различной природы (проявляющееся, напр., в неизбежных «кругах», получающихся при попытках точно определить ее отношение к математич. логике, математич. лингвистике и кибернетике) отражается и на приведенной выше классификации разделов С. Так, синтаксич. и семантич. аспекты изучения знаковых систем обычно относят к металогике (см. также Метатеория), причем логическая семантика выросла уже в самостоят, дисциплину (иногда даже не связываемую непосредственно с С.), а, напр., прагматич. функция знаков, согласно исследованиям Р. М. Мартина, в значит, степени может быть выражена синтаксическими и семантическими средствами.
являются интерпретации знаков и знакосочетаний; 3) прагматика, изучающая отношение знаковых систем к тем, кто их использует (к «приемникам-интерпретаторам» сообщений). Своеобразие С. как комплексного науч. направления, как определ. подхода к изучению систем различной природы (проявляющееся, напр., в неизбежных «кругах», получающихся при попытках точно определить ее отношение к математич. логике, математич. лингвистике и кибернетике) отражается и на приведенной выше классификации разделов С. Так, синтаксич. и семантич. аспекты изучения знаковых систем обычно относят к металогике (см. также Метатеория), причем логическая семантика выросла уже в самостоят, дисциплину (иногда даже не связываемую непосредственно с С.), а, напр., прагматич. функция знаков, согласно исследованиям Р. М. Мартина, в значит, степени может быть выражена синтаксическими и семантическими средствами.
Специфика семиотич. проблематики, выделение ее в самостоятельный и целостный предмет исследования и ее гносеологич. значение обусловлены в значит, мере тем, что С. трактует различные знаковые системы как модели определ. фрагментов внешнего мира, строящиеся в ходе познават. и практич. деятельности людей. В связи с этим особое значение приобретают проблемы прагматики, выходящие за рамки (мета)ло-гич. исследований. Примером может служить кибер-нетич. проблема соотношения возможностей человека и машины и роли человека в системах типа «автомат— человек», прагматич. аспект к-рой находится в центре внимания широкого круга наук — от гносеологии до (инженерной) психологии. Выделение в качестве предмета исследования нек-рых конкретных знаковых систем характерно для совр. нейрофизиологии, биофизики, генетики, (структурной) лингвистики, нек-рых разделов эстетики и др. наук. Прежние логико-лингвистич. рамки семиотич. подхода все более расширяются по мере его сближения с проблематикой теории информации и теории информац. систем, педагогики и (теоретич. и технич.) кибернетики. Особый методологич., конкретно-научный и практич. интерес представляют исследования естеств. и искусств, знаковых систем с т. зр. проблемы их взаимного изоморфизма (или хотя бы гомоморфизма одной по отношению к другой) в связи с задачей моделирования поведения сложных биологич. систем и конструирования искусств . знаковых систем, исходящего из наличия такого изоморфизма (гомоморфизма) — это наглядно проявляется, напр., в развитии бионики — вплоть до разработки снец. языков, могущих оказаться пригодными для межпланетных коммуникаций [пример — т. н. ЛИНКОС (lingua cosmica), разработанный голл. ученым Г. Фройденталем]. Показательно также начавшееся проникновение семиотич. идей в социологию и экономич. науку.
С филос. т. зр. процесс развития и приложения семиотич. подхода в самых различных областях вполне закономерен, т. к. знаковые системы являются важным средством познания и практич. деятельности. Развитие С. и ее приложений дает богатый материал для гносеологич. анализа роли знаков, для характеристики отношения используемых человеком знаковых систем к отображаемой им действительности. О филос. проблемах С. см. подробнее в ст. Знак.
Лит.: Витгенштейн Л., Логико-философский трактат, пер. с нем., М., 1958; К а р н а п Р., Значение и необходимость, [пер. с англ.], М., 1959; Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Москва, 1962. Тезисы докладов, М., 1962; Семиотика, в кн.: Филос. словарь, М., 1963; Ш а ф ф А., Введение в семантику, пер. с польск., М., 1963; Бир Ст., Кибернетика и управление производством, пер. с англ., М., 1963; Семиотика, в кн.: Автоматизация произ-ва и промышленная электроника, т. 3, М., 1964; Резников Л. О., Гносеологич. вопросы семиотики, Л., 1964; Иванов В. В., Роль семиотики в кибернетич. исследовании че-
ловека и коллектива, в сб.: Логическая структура науч. знания, М., 1965; Mannoury G., Die signiftschen Grundlagen der Mathematik,«Erkenntnis», 1934, Bd 4, № 4—5, s. 288—309, 317—45; Carnap R., The logical syntax ol language, L., 1937; его же, Introduction to semantics, Camb., 1942; Morris С h. W., Foundations ol the theory of signs, Chi., 1938; его же, Signs, language and behavior, N. Y., 1946; Curry H. В., Language, metalanguage and formal system, «Philos. Rev.», 1950, v. 59, № 3; Q u i n e W. V. O., From a logical point of view. A logikal-philosophical essays, Camb. (Mass.), 1953; К em en у J. G., A new approach to semantics, «J. Symbolic Logic», 1956, v. 21, ."№ 1—2; T a r s k i A., Logic, semantics, metamathematics, Oxf., 1956; Martin R. M., Toward a systematic pragmatics, Amst., 1959; Klaus G., Semiotik und Erkenntnistheorie, В., 1963; Beth E. W., Mathematical thought. An introduction to the philosophy of mathematics, Dordrecht, 1965, ch. 7. Ю. Гастее. Москва.
СЕМКОВСКИЙ (Бронштей н), Семен Юлье-вич (р. 1882 — г. смерти неизв.) — советский социолог и философ, профессор (с 1920) Ин-та нар. х-ва, педагогич. и др. вузов Харькова. В с.-д. движении — с нач. 900-х гг. Сотрудник журн. «Луч», «Наше слово» и др. Ленин в ряде работ резко критиковал С. за оппортунизм, эклектизм в историко-филос. работах. С 1920 С. обратился к науч.-педагогич. и лит. работе. В круг его науч. интересов входили проблемы историч. материализма, теории относительности и истории философии.
Соч.: Людвиг Фейербах (1804—1872). Очерк материа-листич. философии, X., 1922; Марксизм как предмет преподавания, [2 изд.], X., 1923; Конспект лекций по историч. материализму, 3 изд., [X.], 1924; Этюды по философии марксизма, М., [1924]; Теория относительности и материализм, [X.], 1924; Что такое марксизм, 5 изд., [X.], 1925; Диалектич. материализм и принцип относительности, М.—Л., 1926.
Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., см. Справочный том, ч. 2, с. 237.
СЕМЬЯ — «...отношение между мужем и женой, родителями и детьми. ..»(МарксК.иЭнгельсФ., Соч., 2 изд., т. 3, с. 27), основанное на браке или кровном родстве; имеющее исторически определ. организацию социальное объединение, члены к-рого связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. С. различаются: по характеру брака — моногамные и полигамные; по составу — индивидуальные (одна брачная группа) и «неразделенные», или «составные» (две или неск. брачных групп); по характеру «семейной власти» — патриархальные, управляемые отцом или одним из братьев, матриархальные, управляемые матерью, и «демократические», предполагающие равенство супругов.
В философии примерно до сер. 19 в. С. понималась как изначальная и по своей природе моногамная ячейка общества. Рассматривая общество как разросшуюся С, философы и историки вплоть до Руссо, Кондор-се, Гердера, Фюстель де Куланжа и в какой-то мере даже Гегеля и Конта были склонны выводить социальные отношения из семейных отношений, в частности из принципа «patria potestas». Такой яеисторич. и умозрит. взгляд на С. преодолевался, с одной стороны, при помощи исследования истории С, в частности брачно-семейного уклада т. н. «примитивных народов», с другой — путем изучения жизни и деятельности С. в различных социальных условиях. Оформление первого из этих направлений связано с именем швейц. историка права И. Я. Бахофена («Материнское право» — I. J. Bachofen, Das Mutter-recht..., Stuttg., 1861), заслугой к-рого явилось обоснование историч. изменчивости брака и С. Согласно выдвинутой им гипотезе, моногамному браку предшествовали полигамные отношения между полами, а патриархату — экономич. и нравств. главенство женщин в жизни рода и С. Независимо от Бахофена к открытию материнского права пришел также шотл. ученый Мак-Леннан («Первобытный брак»—Primitive marriage, Edin., 1865).
Новое учение о С. подверглось критике в работах защитника теории патриархализма Г. Мэна «Древнее право» (Н. S. Maine, Ancient law: its connection with
СЕМЬЯ
579
 the early history of society and its relation to modern ideas, L., 1861) я «Древний закон и обычай» (Early law and custom, L., 1883). Эти работы положили начало многолетней дискуссии. Идеи матриархата и историч. развития С. нашли поддержку и дальнейшую разработку в работах Леббока, Колера, М. Ковалевского, Л. Штернберга и др. Важнейшее значение имел труд Л. Моргана «Древнее общество» (1877, в рус. пер.— «Первобытное общество, 1900), к-рый послужил также одним из осн. источников при создании первой марксистской работы о С.— «Происхождение семьи, частной собственности и гос-ва» (1884) Энгельса.
the early history of society and its relation to modern ideas, L., 1861) я «Древний закон и обычай» (Early law and custom, L., 1883). Эти работы положили начало многолетней дискуссии. Идеи матриархата и историч. развития С. нашли поддержку и дальнейшую разработку в работах Леббока, Колера, М. Ковалевского, Л. Штернберга и др. Важнейшее значение имел труд Л. Моргана «Древнее общество» (1877, в рус. пер.— «Первобытное общество, 1900), к-рый послужил также одним из осн. источников при создании первой марксистской работы о С.— «Происхождение семьи, частной собственности и гос-ва» (1884) Энгельса.
Идеи патриархализма, хотя и с признанием нек-рого изменения форм брачно-семейных отношений, отстаивались Э. Тайлором, К. Штарке, Э. Вестермарком, В. Шмидтом и др. Фактически к ним примыкал и К. Каутский («Возникновение брака»), выступивший с критикой осн. выводов Моргана и Энгельса.
Наиболее важным результатом всемирной дискуссии было установление многообразия историч. форм брачно-семейных отношений и зависимости их от кон-кретно-историч. условий.
Однако в бурж. науке это было связано с отказом от поисков к.-л. закономерности («однолинейности») развития С. и сведением его лишь к смене моногамных форм. Эти тенденции наиболее ярко проявились у Р. Торнвальда и представителей культурно-исторической школы (Ф. Гребнер, В. Аккерман, У. Фой,
B. Шмидт). Мн. работы бурж. ученых по истории С.
содержат ценный фактич. материал, но сравнительно
мало дают для его осмысления.
Другой путь преодоления неисторич. и умозрит. взгляда на С. связан с именами Дюркгейма («Введение в социологию семьи» — Introduction a la sociologie de la famille, «Annales dela Facultedelettresde Bordeaux», 1888), Ле Пле («Европейские рабочие» — Les ouvriers europeens, P., 1855), Энгеля («Исследование семейных бюджетов» —Das Rechnungsbuch der Hausfrau und seine Bedeutung im Wirtschaftsleben der Nation, В., 1881). Дюркгейм сформулировал закон «контракции» (сжатия) С. от обширного круга родственников до т. н. «супружеской» С. Правильный для нек-рых этапов истории С, этот закон не имеет, однако, как показали более поздние исследования, всеобщего характера. Ле Пле первый предпринял конкретно-социологич. изучение С. Энгель сформулировал закон зависимости между доходами С. и ее расходами на предметы первой необходимости.
Совр. бурж. социология С, выделившаяся в самостоят, область, включает как общетеоретические, так и узкоспец. знания о С. Наибольшее число социологов
C. работает в области прикладной социологии С.
В соответствии с выдвинутой амер. социологом Кули
теорией большинство социологов С. рассматривает
ее как «первичную группу особого рода». Влияние
С. формирует личность в целом, тогда как «вторичные
группы» (социальные союзы в широком смысле) воз
действуют на нее лишь в определ. аспектах. В работах
бурж. социологов исследуется тенденция к дезинте
грации С. и связанная с ней тенденция к «функциональ
ной редукции» С, сведению ее деятельности к «чисто
семейным» обязанностям, «уход семьи в себя», а с дру
гой стороны — ее дезорганизация {Кениг, Шелъский
и др.). Для бурж. социологии С. в целом характерен
разрыв социологического и этического, научного и
ценностного аспектов исследования С.
Марксизм рассматривает С. как социальное явление, к-рое включает в себя как личные, так и групповые отношения (между членами С, принадлежащими к одному полу, брачному союзу, поколению). Каждое из этих отношений в свою очередь имеет материальную и духовную стороны. К материальным семейным отношениям относятся, во-первых, отношения, обус-
ловленные биология, необходимостью («отношения детопроизводства»), во-вторых, экономич. отношения, к-рые могут иметь характер непосредственно производств, отношений (напр., в С. крестьян и ремесленников), накопления и передачи по наследству частной собственности или, наконец, разделения труда в домашнем хозяйстве. Диапазон духовных отношений в С. определяется как степенью развития духовной жизни общества в целом, так и степенью зрелости и диффе-ренцированности индивидуального сознания членов С. Гл. содержание духовных отношений в С. составляют моральные связи между членами С, основанные на чувствах любви, родства, взаимной привязанности, ответственности, долга, семейной чести и достоинства. С. является в то же время социальным институтом, осуществляющим в обществе определ. функции. Одни из них присущи С. по самой ее сути (упорядочение сексуальных отношений, рождение и воспитание детей). Другие присущи лишь отд. историч. формам С. (организация производства, ведение домашнего хозяйства и др.).
В силу многогранности семейных отношений на них оказывает воздействие множество как социальных, так и биологич. факторов. Среди них гл. значение принадлежит способу произ-ва, к-рып влияет на С. как непосредственно, так и опосредствованно. Можно предположить, что в первобытнообщинной формации начальное социальное регулирование отношений между полами было лишь негативным: общество преследовало браки, угрожающие его хоз. целостности. Связанная с этим система запретов приводила к отрицанию (в принципе) сколь-либо длительных персональных прав мужчины и женщины друг на друга, а также к попыткам вынести сексуальную жизнь вообще за рамки данного сообщества, что нашло свое выражение в экзогамии. Условия жизни не способствовали возникновению у людей потребности в индивидуальной половой любви. Главная тенденция развития С. в первобытную эпоху состояла «... в непрерывном суживании того круга, который первоначально охватывает все племя и внутри которого господствует общность брачных связей между обоими полами» (ЭнгельсФ., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21, с. 51). На конечном этапе развития первобытнообщинной формации господствующим стал парный брак — легко расторгаемое моногамное сожительство мужчины и женщины. С переходом к рабовладельч. формации гл. целью брачного союза стало увеличение богатства и обеспечение условий его наследования. Поскольку самым важным из них являлась бесспорность происхождения наследника от определ. отца, жена была отдана под безусловную власть мужа. Перед мужчинами же открылись новые возможности многоженства (наложничество рабынь, гетеризм, проституция). С наибольшей полнотой это проявилось в странах мусульманского Востока, где многоженство стало законной формой брака. В Европе развитие данной тенденции остановилось на патриархальной С, к-рую Энгельс определяет как «промежуточную форму» между многоженством и моногамией. Она включала в себя как родственников, потомков одного отца с их женами и детьми, так и домашних рабов, в т. ч. наложниц (лат. «familia» означает совокупность принадлежащих одному человеку рабов). Патриархальная С. являлась одновременно производств, объединением и могла достигать несколько сот человек. В классич. виде она существовала на первых этапах рабовладельч. формации, но различные ее модификации сохранились у многих народов и при феодализме. С ростом рабовладельч. произ-ва возникла тенденция его обособления от домашнего х-ва, что вместе с развитием свободного ремесла и колоната способствовало становлению
580
СЕМЬЯ
 у соответствующих групп населения моногамной формы С. Однако устранение многоженства внутри семейной общины сопровождалось быстрым ростом проституции и адюльтера.
у соответствующих групп населения моногамной формы С. Однако устранение многоженства внутри семейной общины сопровождалось быстрым ростом проституции и адюльтера.
С переходом к феодализму «.. .моногамия, развившаяся на развалинах римского мира, в процессе смешения народов, облекла владычество мужчин в более мягкие формы и дала женщинам, по крайней мере с внешней стороны, более почетное и свободное положение, чем когда-либо знала классическая древность» (там же, с. 72). Распространение «мировых религий», прежде всего христианства, усилило идеологич. узы, скрепляющие С. Господствующий класс, освобожденный от экономич. и хоз. забот, достиг такой стадии духовного и нравств. развития, при к-рой могли появиться «рыцарское отношение к женщине» и «рыцарская любовь». Но поскольку частная собственность оставалась основой брачно-семейных отношений, эти ценности возникли не в браке, а вне его, как его антиподы, и лишь усилили противоречия моногамной С. Противоречие между «поработителем-мужчиной и порабощенной женщиной» было дополнено яе менее острым конфликтом между экономич. целями собственнич. моногамии и избирательностью полового влечения, к-рая наиболее сильно проявляет себя в чувстве любви.
Капиталистич. индустриализация разрушила — по крайней мере в городах — характерную для феодализма связь между жизнью С. и производством и из всех экономич. функций оставила у С. лишь функцию организации потребления и быта.
Большинство С. стало включать лишь супругов и их детей (нуклеарная семья), а семейные отношения приобрели более демократам, характер. Женщины получили широкий доступ к работе на пром. предприятиях и в обслуживающих учреждениях. Это обеспечило их известную экономич. самостоятельность и независимость от мужчин. Под влиянием прогрессивных обществ, сил женщинам во многих странах были предоставлены гражд. права, в т. ч. право на развод. Вырос общий образовательный и культурный уровень населения, упало влияние религии. Среди классов и социальных групп, непосредственно не связанных с частной собственностью, брак из экономич. института все больше превращался в морально-правовой союз мужчины и женщины, основанный на любви и личном выборе. Произошло известное перераспределение и выравнивание обязанностей мужа и жены в С. Развитие муниципальной системы бытового обслуживания, досуга, детских учреждений позволило С. полностью или частично освободиться от ряда прежних обязанностей (т. н. «редукция функций» С). В связи с этим С. все больше сосредоточивалась на своей внутр. жизни, возрастала роль внутрисемейных отношений в обеспечении стабильности и прочности группы. Ослабление контроля обществ, мнения в результате урбанизации, а также влияния экономич., правовых и религ. уз, скреплявших прежнюю С, резко увеличило «нагрузку» на моральные узы.
Противоречия капитализма стимулируют отчуждение между С. и обществом. Закономерное сосредоточение на своих внутренних, чисто семейных проблемах принимает форму «самоизоляции» С. В то же время возрастают возможности внутрисемейных коллизий и уменьшаются шансы их урегулирования без ущерба для единства С. Все это ведет к неустойчивости С, росту количества разводов. Напр., в США в 1890 один развод приходился на 16 браков, в 1911 — на И, в 1920 — на 6 браков, в 1940 — на 5 браков, в наст, время — на 4 брака. «Теперь семью чаще разрушает развод, чем смерть супругов» (Rose A., Sociology, N. Y., 1954, р. 152). Увеличивается и количество неофициальных разводов — «дезертирств» (гл. обр. мужчин). В США оно достигло ок. 50 тыс.
в год (см. «Problems of Family Life and How to meet them», N. Y., 1956, p. 158).
Хотя проституция во многих бурж. странах официально запрещена, она продолжает расти, сопровождаясь общим ростом половой распущенности. Т. о., в капиталистич. обществе действуют две противоречивые тенденции изменения С: ее обновление, «реконструкция» на основе пром. и культурного прогресса и дезорганизация.
В результате социалистам, преобразований семейные отношения освобождаются от власти частной собственности и связанных с ней социальных установлений (собственнич. права, церкви, классовых, сословных и нац. предрассудков и т. д.). Уничтожаются формы дискриминации женщин, существующие в бурж. обществе. Социалистич. С. единобрачна по своей сущности. Коммунистич. идеалом отношений между полами является «гражданский брак с любовью» (см, В. И. Ленин, Соч., т. 35, с. 140). Социалистич. С. продолжает ту линию развития брачно-семейных отношений, к-рая представлена при капитализме тенденцией к их обновлению и реконструкции. Подавляющее большинство браков в СССР заключается не по экономич. расчету или родительскому принуждению, а по личному выбору будущих супругов. Внутрисемейная организация характеризуется равноправием супругов.
Гл. сферой деятельности С. при социализме является обеспечение потребностей мужчины и женщины в супружестве, отцовстве, материнстве и воспитании детей. Функция накопления частной собственности отмирает уже в ходе социалистич. преобразований, а хозяйственно-бытовая функция осуществляется не как цель, а как условие семейной жизни. Существенно изменяется и характер взаимоотношений между С. и обществом, гос-вом, происходит повышение социальной активности С.
Однако далеко не все С. в социалистич. странах полностью свободны от пережитков прошлого. Кроме того, семейные отношения в этих странах были в значит, мере дезорганизованы войной и ее последствиями. Значит, влияние на семейные отношения оказывают имеющиеся еще экономические, в т. ч. жилищные, трудности. Это обусловливает сравнительно высокий процент разводов. В 1960 в СССР приходилось около 1,3 развода на 1000 жителей или 1 развод на 9 браков. Это примерно соответствует количеству разводов в гл. бурж. странах Европы.
Победа коммунизма приведет к дальнейшему развитию семейных отношений. Значительно сократится, а со временем и отомрет хозяйственно-бытовая функция С. Регистрация брака утратит юридич. характер. «Семейные отношения окончательно очистятся от материальных расчетов и будут целиком строиться на чувствах взаимной любви и дружбы» (Программа КПСС, 1961, с. 65).
В социалистич. странах получают все большее развитие коякретно-социологич. исследования С. и тенденций ее развития. В СССР серьезный вклад в изучение С. внесли С. Я. Воль-фсон, С. Г. Струмилин, Г. М. Свердлов, Е. О. Кабо, С. М. Аб-рамзон, Н. А. Кисляков, В. Ю. Крупянская, А. Н. Теренть-ева, А. И. Вишняускайте, А. А. Лутс, М. А. Бикжанова и др. Ряд конкретно-социологич. исследований брачно-семейных отношений проведен в др. социалистич. странах — Клосков-ской, Мрозковой, Пиотровским — в Польше, Пешевой (Поповой) — в Болгарии, Бурич — в Югославии и др.
Важную роль сыграли марксисты, в частности сов. историки и этнографы, в изучении истории С. Исследования М. О. Косве-на, С. А. Токарева, С. П. Толстова, Н. А. Бутинова, Д.А. Ольде-рогге на основании новейших данных подтвердили идею исто-рич. развития С. от неупорядоченных половых отношений (не исключавших более или менее длит, моногамного сожительства) к узаконенной правом и моралью моногамии. В работах сов. ученых получили объяснение такие сложные формы брака, как экзогамия, эндогамия и ряд др.
Лит.: Марк с К., Экономическо-философские рукописи 1844 г., в кн.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Из ранних произведений, М., 1956; Энгельс Ф., Происхождение семьи,-
СЕН-ВИКТОРСКАЯ ШКОЛА —СЕНЕКА
581
 частной собственности и государства, в кн.: Маркс К. и
частной собственности и государства, в кн.: Маркс К. и
ЭнгельсФ., Соч., 2 изд., т. 21; Ленин В. И., [Письма]
Инессе Арманд 23 мая (5 июня) 1914 г. и 4 (17) янв. 1915 г.,
Соч., 4 изд., т. 35; Цеткин К., Из записной книжки, в сб.:
Воспоминания о В. И. Ленине, [ч.] 2, М., 1957; Ковалев
ский М., Очерк происхождения и развития С. и собствен
ности, СПБ, 1895; Гроссе Э., Формы семьи и формы хозяй
ства, пер. с нем., М., 1898; К а б о Е. О., Очерки рабочего
быта, т. 1, М., 1928; Вольфсон С. Я., Социология брака
и С, Минск, 1929; е г о ж е, С. и брак в ихисторич. развитии,
М., 1937; Штернберг Л., С. и род у народов Сев.-Вост.
Азии, М., 1939; Тейлор Э., Первобытная культура, т.
1—2, М., 1939; С т р у м и л и н С. Г., Проблемы экономики
труда, М., 1957; Свердлов Г. М., Сов. семейное право,
М., 1958; Село Вирятино в прошлом и настоящем, ч. 1—2,
М., 1958, с. 75 — 95, 205—30; А б р а м з о н С. М. [и др.],
Быт колхозников кирг. селений Дархан и Чичкан, М., 1958;
Бикжанова М. А., С. в колхозах Узбекистана, Таш.,
1959; Кисляков Н. А., С. и брак у таджиков, М.—Л.,
1959; О р л о в а Н.В., Вопросы брака и развода в междунар.
частном праве, М., 1960; С. и семейный быт колхозников При
балтики, М.—Л., 1962; Косвен М. О., Семейная община
и патронимия, М., 1963; X а р ч е в А. Г., Брак и С. в СССР.
Опыт социологич. исследования, М., 1964; Ту lor E. В.,
Researches into the early history of mankind..., L., 3ed., 1878;
LubbockJ., The origin ol civilization, L., 1870; ег о ж e, Mar
riage, Totemism and Religion, L.—N. Y., 1911; Starke С N.,
Die primitive Familie in ihrer Entstehung und Entwicklung,
Lpz., 1888; WestermarckE., The history of human mar
riage, L., 1894; К о h 1 e r I., Zur Urgeschichte der Ehe. To-
temismus. Gruppenehe, Mutterrecht, Stuttg., 1897; WeberM.,
Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung, Tubingen, 1907;
M ii 1 1 e r-L у е г Т г., Die Familie, Munch., 1924; T h u r n-
wal d R., Die menschliche Gesellschaft in ihren ethnosozi-
ologischen Grundlagen, Bd 2, В.—Lpz., 1932; G о о d s e 1 1 W.,
A history of marriage and the family, [new ed.], N. Y., 1945;
Elmer M. C, The sociology of the family, Boston, 1945;
К б n i g R., Materialen zur Soziologie der Familie, «Beitrage
zur Soziologie und Sozialphilosophie», 1946, Bd 1; Zimmer
man C. C, The family and civilization, N. Y., 1947; F 1 u-
g e 1 I. C, The psycho-analytic study of the family, L., 1950;
Burgess E. W., Locke N. I., The family. From in
stitution to companionship, 2 ed., N. Y., 1953; В a b e r R. E.,
The marriage and family, 2 ed., N. Y., 1953; Winch R. F.,
Selected studies in marriage and the family, N. Y., 1953; Renou-
veau des idees sur la familie. Ouvrage realise sous la dir. de
R. Prigeut, P., 1954; Sociologie comparee de la familie contempo-
raine, P., 1955; К б n i g R., Familie und Familiensoziologie,
Worterbuch der Soziologie, hrsg. von W. Bernsdorf und Fr.
Bulow, Stuttg., 1955; его же, Soziologie der Familie, в сб.:
Soziologie, hrsg. von Gehlen-Schelsky, Diisseldorf—Koln, 1955;
Parsons T. and Bales R. F., Family. Socialisation
and interaction process, L., 1956; В о s s a r d J. H. S., The
large family system, Phil., 1956; S с h e 1 s k у A., Changing
family structures under conditions of social and economic deve
lopment, The Hague, 1958; Michel A., Familie. Industria
lisation. Logement, P., 1959; Hill R., Recent world develop
ment, в кн.: Fourth world Congress of sociology, v. 2, L.—N. Y.,
1959; В e 1 1 N. W., Vogel E. F., A modern introduction
to the family, Toronto, 1961; Piotrowski I., Praca zawo-
dowa kobiety a rodzina, Warsz., 1963; С о о d e W. J., World
revolution and family patterns, Chi., 1963; его же , Women
in divorce, N. Y., 1965; Komarovsky M., Blue—collar
marriage, N. Y., 1964. , А . Харчев . Ленинград.
СЕН-ВИКТОРСКАЯ ШКОЛА — богословская школа при монастыре св. Виктора в Париже, крупнейший центр реакц., ортодоксально-мистич. направления ср.-век. философии. Была основана ок. 1110 Гилъо-мом из Шампо, представителем крайнего реализма, в ходе развернувшейся во Франции острой идейной борьбы с целью противодействия прогрессивному направлению ранней схоластики (см. также Абеляр). Для представителей С.-В. ш. характерна враждебность аристотелизму и рационализирующей схоластике, доходящая до крайнего ожесточения у Готье Сен-Викторского (ум. после 1180). Мистич. философия С.-В. ш. явилась продолжением мистич. идей Августина и Бернара Клервоского о сверхъестеств. озарении человеч. души (illuminatio). Вместе с тем, не будучи в силах совсем отвергнуть познават. способности разума, игнорировать возрастающую роль логич. мышления, пробуждаемого потребностями растущих в эту пору городов, С.-В. ш., гл. обр. Гуго Сен-Вик-торский и Ришар Сен-Викторский, в отличие от крайнего мистицизма Бернара Клервоского, пытались соединить мистику с элементами логики и выработать своеобразную мистико-схоластич. систему. Согласно ей, бог в своей сущности непознаваем, он принадлежит к истинам, стоящим выше разума, и адекватно
не может быть ни мыслим, ни определен; разуму же
доступны только явления. Отсюда учение о трех сту
пенях познания: эмпирической, рассудочной и выс
шей — созерцательной, к-рым соответствуют три
раздельные объекта познания: чувств, мир, духовный
мир человека и бог. Только сверхъестеств. озарение
может вести к постижению высшей истины. При этом
спекулятивное мышление не отвергалось, но допуска
лось лишь как подчиненное средство при главенстве
веры и экстатич. созерцания. В истолковании мирозда
ния как творения бога мистики-схоластики С.-В. ш.
склонялись к неоплатонич. идее Августина о божеств,
мыслях как первичных причинах, лежащих в основе
всего сущего. Идеи С.-В. ш. оказали влияние на
дальнейшее развитие ср.-век. мистич. философии.
Лит.: ВертеловскийА., Зап. ср.-вековая мистика
и отношение ее к католичеству, вып. 1, X., 1888; Сидо
рова Н. А., Очерки по истории ранней гор. культуры во
Франции, М., 1953; Трахтенберг О. В., Очерки по
истории зап.-европ. ср.-вековой философии, М., 1957; G r a to
rn a n n М., Die Geschichte der scholastisehen Methode, Bd 1—2,
Freiburg im Breisgau, 1911; neue Ausg., Bd 1—2, В., 1956;
G i 1 s о n E., History of Christian philosophy in the middle
ages, [Toronto], 1955. С. Стаж. Саратов.
|
|
СЕНЕКА (точнее — Луций Анн ей Сенека — Lucius Annaeus Seneca) (р. ок. 4 — ум. 65) — рим. философ, представитель стоического платонизма, последователь греч. стоика Посидония. Был воспитателем ими. Нерона и занимал при нем большие гос. должности. Обвиненный в гос. измене, по приказу Нерона принужден был покончить жизнь самоубийством. Мировоззрение С. крайне противоречиво, в чем отразился характер эпохи, когда социальные катастрофы вызывали даже в самых высоких и глубоких умах душераздирающие противоречия и героические, хотя и бесплодные, усилия вырваться из этих противоречий. На эту противоречивость указал Энгельс (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 19, с. 311).
В новое время, начиная с эпохи Возрождения, С. был одним из наиболее читаемых философов-моралистов. Из трех традиционных стоич. филос. дисциплин— логики, физики и этики — наибольшее значение он придавал последней. Однако невозможно свести всю совокупность филос. воззрений С. только к вопросам морали. Истолкование природы занимает у него весьма важное место. В этой области филос. учение С.— своеобразный языч. пантеизм (прямое заявление об этом см. Nat. Quaest. Proleg. 13; II, 45, 3) — сформировалось под влиянием Древней Стой. Для него все телесно (Epist. 106, 4; 113, 1; 117, 2), все есть теплое дыхание, т. е. в конце концов огонь, к-рый, находясь на небе в самом чистом и тонком виде, постепенно уплотняется по мере приближения к земле, застывая и окаменевая в этой последней (102, 7; 65, 2, 12). Душа человека, как и боги,— телесна. Она — истечение из высшего огня. С. признавал даже учение древних стоиков о периодич. воспламенении мира (Nat. Quaest. Ill, 13, 1; Ad. Polyb. 1,2; Epist. 9. 16) или о мировых потопах (Nat. Quaest. Ill, 27— 30). От Древней Стой к С. перешло также и телеоло-гич. провиденциально-фаталистич. учение о первоог-не и человеке, о боге, судьбе и природе (Nat. Quaest. II, 45, 1; De benef. IV, 7, 1). Бог, судьба, провидение, воля божия, природа со своими вечными законами, получающими осознание в человеке и становящимися его свободной волей, все это для С. совершенно одно и то же (Nat. Quaest. II, 36. 45, I; De benef. IV, 7,
582
СЕНЕКА
 8; 8, 2, 3; De prov. 5,8). Мир — гармоничен и целостен, его части согласованы, ему свойствен вечный круговорот переходящих одна в другую стихий, где царствует гераклитовское тождество «пути вверх и пути вниз» (Nat. Quaest. II , 2, 2; III , 10, 1, 3; VII , 27,3; De vita beata, 8,4; Epist. 107, 8). Космос является у С. единым и общим «градом» (urbs) для богов и людей (Ad. Marc. 18, 1). С. вполне разделял и панпсихизм древних стоиков, вытекающий из учения о всеобщей пневме и заставлявший С. одушевлять и обожествлять как все небесные светила, так и все поднебесное, включая Землю. Однако этому стоич. пантеизму противоречат идеалистич. моменты учения С. о душе, в особенности его религ. учение.
8; 8, 2, 3; De prov. 5,8). Мир — гармоничен и целостен, его части согласованы, ему свойствен вечный круговорот переходящих одна в другую стихий, где царствует гераклитовское тождество «пути вверх и пути вниз» (Nat. Quaest. II , 2, 2; III , 10, 1, 3; VII , 27,3; De vita beata, 8,4; Epist. 107, 8). Космос является у С. единым и общим «градом» (urbs) для богов и людей (Ad. Marc. 18, 1). С. вполне разделял и панпсихизм древних стоиков, вытекающий из учения о всеобщей пневме и заставлявший С. одушевлять и обожествлять как все небесные светила, так и все поднебесное, включая Землю. Однако этому стоич. пантеизму противоречат идеалистич. моменты учения С. о душе, в особенности его религ. учение.
В религ. у ч е н и и С. сочетались традиц. идеи языч. пантеизма с новыми тенденциями монотеизма. С одной стороны, его бог есть огонь, т. е. тело, высший разум — Зевс или Юпитер (Nat. Quaest. II , 46), идеальное обобщение и обожествление сил природы и общества, холодное и нейтральное в отношении чело-веч, личности. Но, с другой стороны, бог — это идея, разум как творящая сила. С. говорил о возможности подлинной жизни души только вне тела, от к-рого и происходит все зло для этого небесного гостя (Epist. 65, 16; 92, 13.33; 102, 26; 120, 14 и мн. др. тексты). С. рисовал картину пребывания души на небе (Ad. Polib. 9 и Ad. Marc. 26). В его религ. взглядах содержатся идеи божеств, милосердия, идея необходимости искупления человеком своей греховности.
Т. о., его пантеизм ослабевал и богов он уже не просто отождествлял с природой и ее законами, но склонен был считать их виновниками этих законов (De benef. VI , 23).Тут еще было очень далеко до христ. представления об интимно личных отношениях между человеком и божеством. Но в этих религ. стремлениях видны и несомненная близость гибели антич. мира, и судорожное искание новой философии на путях будущего христианства. Энгельс назвал С. «дядей» христианства (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 19, с. 307).
Противоречие пантеизма и религиозности свойственно и э т и ч. учению С. Это учение формировалось под влиянием Средней Стой (Панеций, Поси-доний) и в нек-рой мере эпикурейской школы. Душа продолжает быть для С. материальной пневмой (Epist. 57, 8; 50, 6), телом (Epist. 106, 4, 6), но он считал ее разумной, хотя и ограничивал эту разумность неразумными аффектами (Epist. 92, 92, I). Человеч. мудрость он трактовал как освобождение от тела и его аффектов (De ira, II 3.4) и как неизменное самотождество человеч. духа (Epist. 23, 7; 31, 8; 34, 4; 35,4; 95,43; 120, 22; De vita beata, 8). Несмотря на все это, душа у С. трактуется как область постоянной борьбы, взлетов и падений, а иной раз С. даже декларирует об освобождении души от аффектов и всякой скверны, об ее восхождении к богу и последующем очищении (Epist. 65, 16; 102, 22; Nat. Quaest. I prolog. 12). Наибольшее своеобразие этич. концепции С. состоит в том, что он рисовал беспомощность и слабость человека, его постоянную погруженность в грех и зло и почти полную невозможность выбраться из этого состояния (De benef. 7,27: Epist. II , 1—7; 54,4; 94— 54). С. являлся первым антич. писателем, к-рый чувствует человеч. беспомощность с крайним волнением, с неимоверной жаждой искупления. Единств, возможностью достигнуть спасения С. считал божеств, милосердие, и здесь его этич. учение смыкалось с религиозным — с тенденцией установить связь личности с богом, а это в свою очередь вызывало к жизни еще небывалую в античности теорию монотеизма.
Столь же противоречивы и его общественно-полит и ч. и д е и. Общестоич. космополитизм заставлял его презирать общественные, государст-
венные и вообще нац. дела (Epist. 68,2). Но, с др. стороны, он считал грехом презирать родину и гос-во, думая, что земное гос-во есть только часть гос-ва космического (De ira, II 31). С. вместе с др. стоиками на этом основании учил о природной необходимости гос-ва (Epist. 95,5.2), в отличие от эпикурейцев, к-рые понимали его как результат человеч. соглашения. С. известен как богач, как гос. деятель, придворный делец, ловкий дипломат. В то же время он мыслитель, беззаветно преданный тихой, уединенной и блаженной жизни сосредоточенного в себе философа, ценитель тончайших настроений измученной души. К добродетели стремился он только через самое же добродетель (Epist. 89,8) и в целях только ее же самой, а не чего-нибудь другого (113,32). С. считал всех людей равными и одинаково благородными, допуская даже, что рабы по существу своему часто гораздо благороднее своих господ. Все люди — члены одного мирового целого (Epist. 95,52), дети одного бога, все абсолютно равны друг другу (Epist. 44; 47, 1; De benef. Ill 28) и каждый человек даже священен для другого (Epist. 95, 33). Но фактически он не только презирал рабов, но даже всякое занятие ремеслом считал унизительным ввиду его утилитарности (Epist. 88,21) и, как аристократ, признавал только свободное духовное творчество (De benef. 7,1).
Т. о., эллинистич. противоречивость пронизывает все составные части его мировоззрения.
С оч.: Senecae opera, v. 1, fasc. 1, Dialogorum libros XII, ed. E. Hermes, Lpz., 1923; fasc. 2, De beneficiis libri VII. De Clementia libri II, ed. C. Hosius, Lpz., 1914; v. 2, Naturalium quaestionum libri VIII, ed. A. Gercke, Lpz., 1907; v. 3, Ad Lucilium epistolarum moralium, ed. O. Hense, Lpz., 1914; Supplementum, ed. F. Haase, Accedit index rerum memorabi-lium, Lpz., 1902; L. A. Senecae tragoediae, rec. R. Peiper et G. Richter, Lpz., 1921; в рус. пер.— Избр. письма к Люцилию, СПБ, 1893; О благодеяниях, «Вера и разум», 1889—1897; О провидении, Керчь, 1901; Утешения Марции, в кн.: Б р а ш М., Классики философии, пер. с нем., т. 1, СПБ, 1907, с. 311—30; Трагедии. Вступит, ст. Н. Дератани, М.—Л., 1932; Псевдоапофеоз императора Клавдия (Apocolocyntosis), «Филология, обозрение», 1899, т. 16, приложение.
Лит.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Из ранних произ
ведений, М., 1956 (по имен, указат.); Ленин В. И., Соч.,
4 изд., т. 38, с. 67; Модестов В. И., Философ С. и его
письма к Луцилию, К., 1872; Марта Б. К., Философы и
поэты-моралисты во времена рим. империи, М., 1879; Крас
нов П. Н., Л. А. С, его жизнь и филос. деятельность,
СПБ, 1895; Виноградов Н., Биографич. сведения о лат.
риторе С. и его трагедиях, Сергиев Посад, 1906; Ф а м и н-
екий В. И., Религиозно-нравст. воззрения Л. А. С.
(философа) и отношение их к христианству, К., 1906; его же,
Мораль языческого философа С. и совр. отношение к вопросам
нравственности, «Труды Киевск. духовной акад.», 1905, № 5,
с. 94—123; Буассье Г., Рим. религия от времен Августа
до Антонинов, М., 1914; Г е н к е л ь Г., «Книга о Провиде
нии» Л. А. С., «Сб. трудов проф. и преподавателей Иркут.
гос. ун-та», 1921, вып. 2, с. 25—43; Ш о х о р В., Сенека —
«дядя христианства», «Антирелигиозник», 1940, № 3; История
философии, т. 1, [М.], 1940 (по имен, указат.); Шендя-
п и н П. М., С.— философ, и его трактат «О милосердии»,
М., 1947 (Дисс); Виппер Р. Ю., Этич. и религ. воззрения
С, «Веетн. др. истории», 1948, № 1; М о т у с А. А., Рим.
стоики и первоначальное христианство, «Уч. зап. Ленингр.
гос. пед. ин-та им. Герцена», 1955, т. 111. с. 98—100; История
философии, т. 1, М., 1957, с. 153—4; Rubin S., Die Ethik
Senecas in ihrem Verhaltnis zur alteren und mittleren Stoa,
Munch., 1901; Burnier Ch., La morale de S6neque et le
neostoicisme, Lausanne, 1907 (These); Capelle W., Seneca
und die Humanitat, «Monatshefte der Comeniusgesellschaft»,
1909, H. 5; Waltz R., La vie politique de Seneque, P.,
1909 (These); Bernhardt H.,L. A. Seneca — ein moderner
Mensch, в сб.: Humanistisches Gymnasium und modernes Kul-
turleben, Erfurt, 1911; Howald E., Weltanschaung Senecas,
«Neue Jahrbiicher fur die klassische Altertum», 1915, Bd 35, S.
353—60; Holland F., Seneca, L., 1920; Vetter E.,
Seneca iiber Sklavenbehandlung, «Wiener Blatter fur Freunde
der Antike», 1922, Bd 1; В a i 1 1 у A., La vie de Seneque,
P., 1929; Knoche U., Der Philosoph Seneca, Fr./M.,
1933; P о h 1 e n z M., Philosophie und Erlebnis in Senecas
Dialogen, «Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften
in Gottingen», 1941, №6; M a r t i n a z z о I i F.. Seneca.
Studio sulla morale ellenica nell'esperienza romana, Firen-
ze, 1945; Grimal P., Seneque. Sa vie, son oeuvre, avec
un expose de sa philosophie, P., 1948; T о t о k W., Hand-
buch der Geschichte der Philosophie, Bd 1, Fr./M., 1964.
S. 310 — 17. А. Лосев. Москва.
СЕНИН — СЕН-СИМОН 583
 СЁНИН, Николай Герасимович (р. 2 июня 1918) — сов. философ, д-р филос. наук (с 1963), профессор (с 1965). Член КПСС с 1950. В 1942 окончил филос. фак-т МГУ. В 1943—51 — на дишгоматич. работе в МИД СССР. С 1951 — на науч. работе в Ин-те философии АН СССР. Осн. направление научно-исследовательской работы — история кит. философии.
СЁНИН, Николай Герасимович (р. 2 июня 1918) — сов. философ, д-р филос. наук (с 1963), профессор (с 1965). Член КПСС с 1950. В 1942 окончил филос. фак-т МГУ. В 1943—51 — на дишгоматич. работе в МИД СССР. С 1951 — на науч. работе в Ин-те философии АН СССР. Осн. направление научно-исследовательской работы — история кит. философии.
Соч.: Великий кит. революционер-демократ, «ВФ», 1955, N° 2; О перерастании новодемократич. революции в социалистическую, там же; Сунь Ят-сен — великий кит. революционер-демократ, М., 1956; Общественно-политич. и филос. взгляды Сунь Ят-сена, М., 1956; Теория «врастания» капитализма в социализм и действительность, «Коммунист», 1956, № 15; История философии, т. 1—5, М., 1957—61 (главы по Китаю); Кит. просветитель и материалист конца XIX в. Тань Сы-тун, «ВФ», 1958, № 9; Сотрудничество китайских и сов. историков философии, «Вестн. АН СССР», 1958, Л» 4 (совм. с М. Т. Иов-чуком); Прогрессивные мыслители Китая конца XIX в., М., 1958; «Движение 4 мая» и идеологич. борьба в Китае, «ВФ», 1959, № 7; Филос. и общественно-политич. взгляды кит. просветителей—реформаторов конца XIX в., «Гуанмин жибао», 1959, 13 дек. (на кит. яз.); Избр. произв. прогрессивных кит. мыслителей нового времени (1840—1898), пер. с кит., М., 1961 (ред. и автор вступ. ст.); Прогрессивная общественно-политич. и филос. мысль Китая в новое время (1840—1919), М., 1963 <Дисс).
СЕН-МАРТЕН (Saint-Martin), Луи Клод де {18 янв. 1743 — 13 окт. 1803) — франц. философ-мистик, теософ. Под влиянием работ мистика Марти-неса Паскуалиса, Бёме и Сведенборга воспринял идеи древневосточного, античного и ср.-векового мистицизма. Начиная с первой своей книги «О заблуждениях и истине» («Des erreurs et de la vorite, ou les Hommes rapples au principe vmiversel de la science», Edimbourg [i. e. Lyon], 1775) C.-M. боролся против материализма и атеизма франц. просветителей, в то же время отрицательно относясь к офиц. религ. идеологии. Существование бога для С.-М.— это истина, к-рую каждый человек открывает в своей душе. Духовный и физич. мир — эманация бога; между богом и природой, в порядке убывающего совершенства, находится множество промежуточных видов бытия. Материя сама по себе есть иллюзорное бытие, существующее лишь в человеч. восприятии; она есть внешняя оболочка физич. тел, сущностью к-рых являются активные духовные центры, напоминающие монады Лейбница. Пантеизм С.-М. носит идеалистам, характер. Человек, по С.-М., состоит из духовного и материального начал; его страдания, невежество и несовершенство доказывают, по С.-М., что совр. человек — это существо, к-рое деградировало в результате отпадения от бога. Акт отделения от бога породил зло, к-рое прекратится, когда все виды бытия воссоединятся с богом. Для человека эта высшая моральная цель достигается путем отрешения от всего чувственного и материального. С.-М. отрицал естеств. происхождение языка, права, общества, видя в них результат божеств, деятельности. История развертывается по планам провидения, и франц. революция в изображении С.-М.— это предусмотренное богом наказание за Fpexn духовенства и монархов; идеи революции ложны, но она сделала благое дело, искупив кровью невинных прежние грехи и подготовив почву для будущего, к-рое рисовалось С.-М. как соединение людей с божеством на основе теократич. принципа; демократии, и республиканские идеалы он решительно осуждал. Взгляды С.-М. оказали влияние на масонов (в частности в России), иллюминатов, на формирование идеологии Реставрации (де Местр, Бо-налъд, Шатобриан и др.), отбросившей в них то, что расходилось с христ. ортодоксией, и сохранившей все, что было направлено против материализма и атеизма.
Соч.: Tableau naturel des rapports qui existent entreDieu, l'homme et l'univers, pt. 1—2, Edimbourg [i. e. Lyon], 1782; L'homme de d6sir, [Lyon, 1790J; Ecce homo, P., [1796]; Le nou-vel homme, P., [1796]; Le crocodile, ou la guerre du bien et du mal, P., [1796]; De Г esprit des choses..., v. 1 — 2, P., [1800]; Le ministere de 1'homme-esprit, P., [1802]; Oeuvres posthumes, v. 1—2, Tour, 1S97; Des nombres, P., 1843; Gnostiques de Ja
Revolution. Claude de Saint-Martin et Fabre d'Olivet. Oeuvres, choisies et intr. par A. Tanner, t. 1, P., 1946; Mon portrait his-torique et philosophique 1789—1803, P., [1961].
Лит .: Леман Б., С.-М., неизвестный философ...,
М., 1917; Gence J. В. М., Notice biographique sur L. С.
de Saint-Martin..., P., 1824; С а г о E. M., Du mysticisme
au XVIII siecle. Essai sur la vie et la doctrine de Saint-Mar
tin, P., 1852; Matter A. J., Saint-Martin le philosophe
inconnu..., P., 1862; F r a n с k A., La philosophie mystique
en France a la fin du XVIII siecle. Saint-Martin et son maltre
Martinez Pasqualis, P., 1866; Claassen J., Ludwig von
Saint-Martin. Sein Leben und seine theosophischen Werke
in geordnetem Auszuge, Stuttg., 1891; V i a t t e A., Les sour
ces occultes du romantisme, illuminisme-theosophie, 1770—1820,
y. 1—2, P., 1928; Waite A. E., Three famous mystics, L.,
[1939]. В. Кузнецов. Москва.
CEHHEPT (Sennert), Даниил (25 нояб. 1572—21 июля 1637) — нем. врач, химик и философ, преподавал медицину в Виттенберге. Оставаясь в кругу традиц. аристотелевских идей и принимая понятие субстанциональных форм, С. вводил нек-рые атомич. и корпускулярные представления, в частности для объяснения химич. явлений, различая четыре рода атомов, соответственно четырем «стихиям» или «элементам» (вода, земля, воздух и огонь). Его представления об имматериальных факторах в природе (в частности о бессмертии души животных) вызвали протесты ортодоксальных теологов. Атомистич. представления С. вошли в нем. учебную литературу благодаря его ученику Иоганну Шперлингу (1603—58).
Соч.: Opera, t. 1—6, Lugduni, 1676.
Лит .: Lasswitz К., Geschichte der Atomistik, тот
Mittelalter bis Newton, Bd 1, Hamb.—Lpz., 1890, 2 Aufl.,
Lpz., 1926; Ramsauer R., Die Atomistik des D. Sennert,
Braunschweig, 1935. |в Зубов.\ Москва.
|
|
СЕН-СИМОН (Saint-Simon), Клод Анри де (17 окт. 1760 — 19 мая 1825) — франц. мыслитель, социолог, социалист-утопист. Опираясь на идеи физики Ньютона и Декарта, на идеи механистич. материализма, С.-С. стремился систематизировать принципы естеств. наук, отыскать универсальные законы, управляющие всеми явлениями природы и общества, перенести приемы естеств.-науч. метода на область обществоведения и создать филос. систему, призванную служить орудием построения рационального об щества. Отходя от атеизма франц. материалистов, С.-С. склонялся к деизму. В мировоззрении С.-С. имелись проблески диалектики.
В основе филос. воззрении С.-С. лежит признание объективной закономерности явлений природы и общества, к-рые подчинены действию единого универсального закона — закона всеобщего тяготения. С.-С. приравнивал органич. мир к явлениям текучей материи и представлял человека как организованное жидкостное тело. Всеобщий процесс развития природы и общества С.-С. истолковывал как постоянную борьбу между твердой и текучей материей, высказывая в рамках своей материалистич. натурфилософии глубокую догадку о единстве противоположных начал в природе и обществе — покоя и изменчивости, устойчивости и подвижности.
В рассуждениях о науч. методе познания С.-С. также подчеркивал всеобщую связь всех явлений, многообразную связь частного с целым, ввиду чего настаивал на необходимости выработать единую «общую операцию» познания, в к-рой эмпирич.-апостериорный метод, провозглашенный естествознанием 17 —18 вв. единственно научным, должен будет сочетаться с методом «априорного познания», методом постижения общих закономерностей и синтеза [см. в Избр. соч., вступ. ст. В. П. Волгина, т. 1—2, М.—Л., 1948
584
СЕН-СИМОН
 (имеется библ.); т.1, с. 215, 225, 247, 278]. Наибольшим достижением творческой мысли С.-С. явилось применение этих общих положений к познанию общества. Здесь мысль С.-С. более всего вырывалась вперед под непосредств. влиянием классовой борьбы капитали-стич. общества и обнажения его социальных противоречий.
(имеется библ.); т.1, с. 215, 225, 247, 278]. Наибольшим достижением творческой мысли С.-С. явилось применение этих общих положений к познанию общества. Здесь мысль С.-С. более всего вырывалась вперед под непосредств. влиянием классовой борьбы капитали-стич. общества и обнажения его социальных противоречий.
Фи л ос.-исто р ич. идеи С.-С. отразили все эти противоречия, обозначившийся технико-экономич. прогресс капитализма, растущее разочарование молодого еще пролетариата и новой трудовой интеллигенции в реальной действительности капиталистич. «победы разума», оказавшегося «...злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей» (ЭнгельсФ., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 19, с. 193). Этим разочарованием проникнуты уже «Письма женевского обитателя» («Lettres d'un habitant de Geneve a ses contempo-rains», Gen., 1803). Еще в конце 18 в. С.-С. поставил перед собой задачу проложить новый путь человеческому разуму — путь физико-политический (см. Lettres a М. М. les jures, Oeuvres choisies, t. 2, Brux., 1865).
От первоначального «физицизма» С.-С. перешел к созданию более глубокой концепции «науки о человеке» или «социальной физиологии», построенной на принципе историзма. Критикуя рационалистич. воззрения 18 в., С.-С. придавал рационализму характер история, категории. Его концепция сохраняла определяющую роль в обществе за состоянием человеч. разума, за господствующими в обществе науч. и филос. принципами, но С.-С. брал эти принципы в конкретном историч. развитии. Так, становление античного рабовладельч. строя С.-С. объяснял в конечном счете сменой первобытного идолопоклонства политеизмом, а разрушение рабовладельч. системы и установление феодализма — закономерной сменой политеизма монотеизмом в форме христианства.
С.-С. утверждал взгляд на человеч. общество как на закономерно развивающийся целостный организм, в к-ром все стороны жизни связаны воедино и к-рый объединяет своих членов не только определенными филос, религ. и моральными принципами, но и общеполезной трудовой деятельностью, являющейся ес-теств. необходимостью и обязанностью человека и создающей важнейшую связь между людьми. Развивая в этой форме идеи «экономизма», формировавшиеся у него не без влияния классич. политич. экономии Смита и Сэя, С.-С. подчеркивал исключит, значение в жизни и развитии общества «индустрии», под к-рой он подразумевал все виды деятельности в промышленности и с. х-ве, в области распределения и кредита. С.-С. доказывал, что в индустрии в конечном счете сосредоточены все реальные силы общества, хотя и объяснял по-прежнему состояние и степень развития этих сил филос. и науч. идеями данного общества (см. «L'industrie ou Discussions politiques, morales et philosophiques...», v. 4, ср. отрывки из этого соч. С.-С— Избр. соч., т. 1, с. 416, 424).
Т. о., оставаясь в своей основе идеалистической, философско-историч. система С.-С. отводила огромную роль в истории экономич. деятельности людей, производству и формам собственности, а также классам, олицетворяющим определенные формы собственности. Каждая обществ, система, доказывал С.-С, сменяла господствующие формы собственности и соответственно выдвигала новые господствующие и руководящие силы в экономич., политич. и духовной жизни.
Плодотворной новой идеей С.-С. было также признание им поступательного хода развития человечества от низших форм общества к высшим. Критериями прогресса С.-С. считал способность данного обществ, строя удовлетворять важнейшие потребности массы людей, объединять возможно большее их число для
отпора чужеземным завоевателям, развивать их природные способности, выдвигать из них достойнейших носителей знания и культуры и обеспечивать наибольший прогресс цивилизации и наук. В соответствии с таким пониманием историч. прогресса С.-С. набрасывал схему историч. развития человечества, в к-рой выделял три гл. стадии умств. развития, являющегося вместе с тем стадиями роста производит, способности человека: религ. системы мышления, метафизич. системы и, наконец, науч. системы положительного знания — позитивная индустриальная стадия. Эти мысли С.-С. были заимствованы и использованы впоследствии К оптом для его схемы классификации наук. Эта концепция была по существу диалектической — С.-С. показывал историч. прогресс в виде постоянной смены созидательных эпох (когда данная обществ, система развивает постепенно и до конца свои принципы и возможности) эпохами разрушительными (означающими глубокий кризис данной обществ, системы, ведущий к разрушению ее и к построению на базе новой науч. и филос. идеи более высокого обществ, строя). Эти филос. историч. построения служили у С.-С. обоснованием важнейшей цели его изысканий — плана создания лучшего, разумного обществ, строя и ускорения его наступления в ближайшем будущем. В отличие от предшествующих утопистов, С.-С. стремился раскрыть осн. черты разумного общества, обращаясь к историч. процессу: «... будущее слагается из последних членов ряда, в котором первые члены составляют прошлое» (там же, с. 199, см. также с. 146). Франц. революция 1789 явилась, по С.-С, закономерным осуществлением историч. необходимости уничтожения господства и власти феодалов и духовенства и перехода ее к промышленникам и ученым. Но он считал, что революция совершила ошибку, передав власть в руки метафизиков и законников, к-рые были далеки от понимания гл. созидательной задачи революции — построения новой, науч. обществ, системы. Эту задачу, не выполненную франц. революцией, и предстоит теперь осуществить созданием «новой промышленной системы».
Осн. черты своего обществ, идеала С.-С. обрисовал с наибольшей полнотой в сборниках «Организатор» («L'organisateur», livr. 1—2, 1819—20, особенно в ст. «Притча»), в соч. «О промышленной системе» («Du systeme industriel», pt. 1—3, 1821—22), «Катехизис промышленников» («Catechisme des industriels», cahier 1—4, 1823—24), «Лит., филос. и промышленные рассуждения» («Opinions litteraires, philosophiques et industrielles», 1825, совм. с L. Halevy) и в последнем произведении, вышедшем в свет вскоре после смерти автора, «Новое христианство» («Nouveau Christianis-me ...», 1825).
Развивая взгляды Дидро и Кондорсе на назначение общества, С.-С. провозглашал: «Лучшее общественное устройство — это то, которое делает жизнь людей, составляющих большинство общества, наиболее счастливой, предоставляя им максимум средств и возможностей для удовлетворения их важнейших потребностей (Избр. соч., т. 2, М.—Л., 1948, с. 277). С.-С. подверг глубокой критике современное ему капиталистич. общество, к-рое «...являет собой воистину картину мира, перевернутого вверх ногами», где «... менее обеспеченные ежедневно лишают себя части необходимых им средств для того, чтобы увеличить излишек крупных собственников», где «... невежество, суеверие, лень и страсть к разорительным удовольствиям составляют удел главарей общества, а способные, бережливые и трудолюбивые люди подчинены им и используются лишь в качестве орудий» (там же, т. 1, с. 433, 434).
Гл. мысль С.-С состояла в том, что путь избавления трудящихся от бедствий нищеты лежит через расцвет
СЕН-СИМОН
585
 пром. и с.-х. производства, через всемерное развитие производит, сил общества на основе применения науч. принципов нового времени. Принципы эти включают в себя, по С.-С, искоренение паразитизма господствующих классов и введение обязательного производит, труда для всех членов общества, к-рое должно стать большой производит, ассоциацией людей; обеспечение равных для всех возможностей применить свои способности; создание плановой организации произ-ва, сполна удовлетворяющего все потребности общества; постепенное утверждение всемирной ассоциации народов и всеобщего мира; превращение политики в «позитивную науку о производстве», а гос-ва — из орудия управления людьми в орудие организации производства, «управления вещами».
пром. и с.-х. производства, через всемерное развитие производит, сил общества на основе применения науч. принципов нового времени. Принципы эти включают в себя, по С.-С, искоренение паразитизма господствующих классов и введение обязательного производит, труда для всех членов общества, к-рое должно стать большой производит, ассоциацией людей; обеспечение равных для всех возможностей применить свои способности; создание плановой организации произ-ва, сполна удовлетворяющего все потребности общества; постепенное утверждение всемирной ассоциации народов и всеобщего мира; превращение политики в «позитивную науку о производстве», а гос-ва — из орудия управления людьми в орудие организации производства, «управления вещами».
Применение этих принципов в «промышленной системе» наглядно обнаруживало все сильные и слабые стороны воззрений С.-С., «... у которого рядом с пролетарским направлением сохраняло еще известное значение направление буржуазное ...» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 19, с. 191). Последнее нашло выражение в том, что инициативу и руководящую роль в обществ, переустройстве С.-С. передавал пром. буржуазии и бурж. интеллигенции — ученым. Хотя C.-G. неоднократно отмечал наличие в обществе лишенных собственности пролетариев, он не выделял пролетариат в отдельный класс, а объединял его с буржуазией (за исключением ее паразитич. рантьерской верхушки) в единый класс «индустриалов», в к-ром главенство должно принадлежать пром. предпринимателям, являющимся «в силу природы вещей» руководителями и представителями трудящегося большинства населения. В этих мыслях С.-С. получила известное отражение, своеобразная обстановка во Франции в годы наполеоновской империи и особенно в период реставрации Бурбонов, когда на первый план выдвинулись противоречия и борьба молодой пром. буржуазии против дворянской реакции и поддерживающего ее блока феод, аристократии и привилегированной верхушки буржуазии. Но были и более глубокие историч. корни этих утопич. построений «промышленной системы» С.-С. Ее проекты создавались в ту эпоху, когда пролетариат еще только формировался, когда казалось, что он неспособен помочь сам себе и помощь ему может быть оказана лишь извне и сверху учеными и промышленниками. Оставляя в руках последних собственность на средства производства, С.-С. отводил им, в сущности, задачу: за хорошую мзду прибылей вывести беднейшие классы общества из бедственного состояния нищеты, обеспечить рост обществ, богатства и изобилие благ для трудящихся.
В качестве средств борьбы против эгоистич. интересов и паразитич. вожделений буржуазии С.-С. вводил в своей «промышленной системе» подчинение всех предпринимателей единому плану работ и отмену права наследования с тем, чтобы единственным принципом возвышения людей во всех областях хоз. и обществ, жизни стали их способности, а обществ, лестница представляла бы строгую «иерархию способностей». Раскрывая подлинный смысл всех этих проектов С.-С, Энгельс указывал, что в его утопич. «промышленной системе» буржуа «... должны были стать чем-то вроде общественных чиновников, доверенных лиц всего общества ...» (там же, с. 195).
Поскольку в своем глубинном течении мысль С.-С. направлялась к социалистич. цели уничтожения эксплуатации пролетариата, неизбежно было нарастание внутр. конфликта между «буржуазным» и «пролетарским» направлением его идей, к-рое в последние годы его жизни стало занимать все большее место. В своем последнем произведении «Новое христианство» С.-С. «... прямо выступил от лица рабочего класса и объявил
его эмансипацию конечной целью своих стремлений» (Маркс К., Капитал, т. 3, 1955, с. 619). Но идеа-листич. основы философско-историч. концепции С.-С. и непонимание классовых противоречий капиталистич. общества определили мистич. характер решения С.-С. этой задачи: С.-С. выдвинул морально-религ. концепцию «нового христианства». Эта новая религия, с ее гл. лозунгом «все люди — братья», должна была гарантировать выполнение новоизобретенного плана улучшения участи пролетариата, дополнив материальные стимулы «промышленной системы» моральным ка-тегорич. императивом, исходящим из самой властной над людьми силы — силы религ. веления. Апелляция к религии нагляднее всего обнаруживала свойственные учению С.-С. реакц. тенденции.
Это сказалось на всем дальнейшем развитии сенсимонизма и прежде всего на деятельности школы его учеников и последователей (Анфантен, Базар, Родриг и др.).
В статьях сен-симонистских журналов «Produc-teur» («Производитель», 1825—26) и «Organisateur» («Организатор», 1829—31) и, особенно, в публичном курсе лекций 1828—29, изданном под названием «Изложение учения Сен-Симона» («Doctrine de Saint-Simon. Exposition», 1830; рус. пер. первого из двух томов в кн.: «Изложение учения С.-С», встуи. ст. В. П. Волгина, М., 1961) были углублены социоло-гич. идеи великого утописта. Сен-симонисты представили всемирно-историч. процесс как закономерный процесс убывания антагонизма в обществе и роста сотрудничества — ассоциации. Они сделали большой шаг вперед в понимании сущности самого социального антагонизма, видя в истории смену различных историч. форм классовой эксплуатации. «Человек эксплуатировал до сих пор человека. Господа, рабы; патриции, плебеи; сеньоры, крепостные; земельные собственники, арендаторы; бездельники, труженики — такова прогрессивная история человечества до нашего времени» («Изложение учения Сен-Симона», с. 110).
При характеристике капиталистич. общества ученики С.-С. пошли значительно далее учителя в анализе анархии производства и экономич. кризисов и, что особенно важно, в анализе классовых противоречий пролетариата и буржуазии. Они показали, что в этом обществе изменилась лишь форма эксплуатации, но эксплуатация по-прежнему существует и продолжается в отношениях между хозяевами и наемными рабочими. «... Рабочий ... эксплуатируется материально, интеллектуально и морально, как некогда эксплуатировался раб» (там же, с. 254).
Понимание этого коренного пункта вело к различению сен-симонистами классовых граней внутри «индустриалов»: с одной стороны — предприниматели, с другой — пролетарии, к-рые, как отмечали сен-симонисты, эксплуатируются собственниками средств производства. Ученики С.-С. не делали отсюда вывода о противоположности классовых интересов буржуазии и пролетариата, они сохраняли «индустриалов» как единый класс, противоположный паразитич. классу тунеядцев. Однако они уже осознавали связь между собственностью на средства производства и классовой эксплуатацией. Они обосновывали в своих лекциях закономерность историч. изменений форм собственности и необходимость ликвидации частной собственности на средства производства посредством перехода права наследования к гос-ву, превращенному в ассоциацию трудящихся. Собствен-нич. праву наследования сен-симонисты противопоставили право труда и способности. Они писали: «Каждому по его способности, каждой способности по ее делам — вот новое право, которое заменит собою право завоевания и право рождения, человек
586
СЕН-СИМОН
 не будет более эксплуатировать человека; человек в товариществе с другим человеком будет эксплуатировать мир, отданный ему во власть» (там же, с. 110— 11). Т. о., вместе с устранением наиболее кричащего противоречия «промышленной системы» С.-С. сен-си-монисты впервые сформулировали важнейший принцип социализма, выражаемый лозунгом распределения по способностям.
не будет более эксплуатировать человека; человек в товариществе с другим человеком будет эксплуатировать мир, отданный ему во власть» (там же, с. 110— 11). Т. о., вместе с устранением наиболее кричащего противоречия «промышленной системы» С.-С. сен-си-монисты впервые сформулировали важнейший принцип социализма, выражаемый лозунгом распределения по способностям.
Но вместе с тем сен-симонистская школа интенсивно развивала релпт.-мистич. стороны учения С.-С, превращая их в законченную религ. систему. В объяснении историч. процесса сен-симонисты отводили решающую роль уже не прогрессу разума, а прогрессу морали и чувства, воплощенному в религ. системах. Самый прогресс истории истолковывался теперь телеологически, как развитие человечества к предопределенной божеств, цели, к-рой будто бы проникнуты все созидательные («органические») эпохи человеч. истории.
Ученики С.-С. отвергали аскетич. интерпретацию религии и толковали материальную экономич. деятельность людей как явление религ. порядка, требуя «реабилитации плоти». Но в то же время во главу всех проектов социального переустройства сен-симонисты ставили создание «нового христианства», к-рое должно «обновить человека» и служители к-рого должны играть руководящую роль в «промышленной системе». «Новое христианство» получило церк. организацию, особые ритуалы и целую иерархию священнослужителей во главе с' первосвященником, олицетворяющим «живой закон».
Сен-симонистская «промышленная система» приобретала т. о. многие характерные черты теократич. утопий прошлых веков, что подчеркивало лишь начавшийся процесс реакц. вырождения сен-симонизма. Его превращение в замкнутую религ. секту было ускорено попытками сен-симонистской школы загасить начавшуюся революц. борьбу пролетариата, что нашло яркое выражение в выступлениях сен-симонистов во время первого рабочего восстания в Лионе в 1831 в роли «братьев милосердия», примиряющих борющиеся классы. Внутр. расколы сен-симонистской секты по вопросам морали «нового христианства», социальной роли женщины и свободы любви привели к распаду сен-симонистской религ. общины (после судебного процесса над ней в 1832) и выявили полнейшую изоляцию ее от реального историч. движения своего времени. После банкротства сен-симонизма отдельные его последователи перешли в лагерь фурьеристов, другие основывали новые школки мистич. мел-кобурж. и бурж. утопич. социализма. Но немалое число бывших сен-симонистов, воспринявших более всего бурж. направление его идей, занялось апологетикой капиталистам, предпринимательства, фритредерства и банковской деятельности и превратилось в железнодорожных дельцов и финансистов, а нек-рые впоследствии стали опорой бонапартистского режима Второй империи во Франции.
Учение С.-С. явилось значительным этапом развития передовой филос. и обществ, мысли и развития социализма от утопии к науке. Сен-симонистская школа впервые создала собств. теоретич. оружие утопич. социализма, к-рый до того делал лишь последовательные выводы из идей просветительной философии и естеств. правовой теории.
Филос. историч. концепция С.-С. порывала с ра-ционалистич. антиисторизмом просветительства и положила начало историч. воззрениям на общество и его развитие. Своим учением об обществе, как закономерно развивающемся целостном организме, С.-С. закладывал первые камни в фундамент социологии, заслугу создания к-рой пытался приписать себе впоследствии Конт, являвшийся одно время учеником
и сотрудником С.-С. Оставаясь идеалистической, социальная философия С.-С. содержала плодотворные догадки о диалектич. характере историч. развития, о важнейшей роли в обществе экономики и форм собственности, о классовой борьбе в истории и связи между формами собственности и изменениями классовой структуры общества.
С именем С.-С. связан переход от примитивных представлений о социалистич. и коммунистич. обществе на базе производит, сил ремесленного производства и патриархального с. х-ва и связанных с этим аскетич. уравнит. принципов распределения к идее социалистич. общества, базирующегося на быстром развитии производит, сил и расцвете индустриального производства, создающего изобилие и возможность обеспечения всех потребностей человеч. личности.
Сен-симонистский идеал «промышленной системы» содержал ряд гениальных догадок о плановой организации обществ, производства в общенац. масштабе, о важнейшей роли в нем науки и ученых, о социалистич. принципе распределения по способности, о превращении гос-ва из орудия власти над людьми в орудие управления хозяйством. Все это дало Энгельсу основание отнести С.-С. к числу «основателей социализма» и отметить, что у С.-С. «... мы встречаем гениальную широту взгляда, вследствие чего его воззрения содержат в зародыше почти все не строго экономические мысли позднейших социалистов...» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 19, с. 196).
Это подтвердилось и тем мощным воздействием, какое оказал сен-симонизм на передовую обществ. мысль и развитие социалистич. идей во Франции, Германии, Италии и ряде др. стран. Во Франции это влияние сказалось на идеях либеральных историков эпохи Реставрации о классовой борьбе, но в особенности — на учениях многочисл. школ утопич. социализма 30— 40-х гг. 19 в.— Леру, К. Пеккёра, Блаиа, Прудона и др. В России влияние идей С.-С. испытали декабрист Лунин, Белинский, Герцен, Салтыков-Щедрин и ряд др. передовых людей.
Учение С.-С. содержало нек-рые подготовительные моменты материалистич. понимания истории и науч. социализма, к-рые заключены были в рамки противоречивой идеалистич. концепции.
Ревизионисты и реформистские апологеты капитализма, искажая истинное историч. соотношение между науч. коммунизмом и предшествующими ему теориями утопич. социализма, пытаются выдать нек-рые догадки С.-С. за марксизм, чтобы легче было его опровергнуть. Ленин давно высмеял и разоблачил подобное фальсифицирование истории марксизма, «... делающее шаг назад от точного научного анализа Маркса к догадке — хотя и гениальной, но все же только догадке, Сен-Симона» (Соч., т. 22. с. 290).
Только преодоление Марксом и Энгельсом концепции С.-С. могло привести к созданию науч. социологии и науч. социализма.
Идеологи совр. империалистич. реакции (см., напр., J. Burnham, The managerial revolution..., N. Y., 1942; а также нек-рые доклады 1-й Социологич. недели в Париже, 3—5 июня 1948 — «Industrialisation et technocratie», P., 1949) пытаются изобразить С.-С. пророком и провидцем «организованного капитализма», глашатаем идей технократии и даже фашизма. Вся эта реакц. модернизация сен-симонизма представляет собой фальсификацию сущности его социального учения. При всех заблуждениях великого франц. мыслителя, при всех его увлечениях «научным индустриализмом», между его социальным идеалом и эксплуататорским, человекоубийств, существом монополистам, капитализма — империализма лежит глубочайшая пропасть. С.-С. относится к числу тех великих
СЕН-СИМОНИЗМ — СЕНСУАЛИЗМ
587
 социалистов-утопистов, чьи учения послужили одним из источников марксизма.
социалистов-утопистов, чьи учения послужили одним из источников марксизма.
Соч.: Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin, v. 1—47, P.. 1865—78; Textes choisies, P., [1951]; Selected writings, Oxl., [1952]; в рус. пер,—Избр. соч., М,—П., 1923.
Лит.: Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3, 20 (см. имен, указат.); Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 20, с. 184; Плеханов Г. В., Соч., 2 изд., т. 18, М,—Л.. 1928, с. 57 — 73, 86—132; Волгин В. П., История социа-листич. идей, ч. 2, вып. 1, М.—Л., 1931; его же, С.-С. и сен-симонизм, М., 1961; История философии, т. 3, [М.], 1943, с. 505—24; История философии, т. 2, М., 1957, с. 158—70; Застенкер Н. Е., Анри де С.-С, в сб.: История социа-листич. учений, М., 1962; Weill G., L'ecole saint-simonien-ne, son histoire, son influence jusqu'a nos jours, P., 1896; M u-c k 1 e F., Saint-Simon und die okonomisChe Geschichtstheorie, Jena, 1906; Bauer St., H. de Saint-Simon nach 100 Jahren, «Archiv fiir die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbe-wegung», 1926, [Jg.] 12; С h a r 1 ё t у S., Histoire du saint-simonisme, P., 1931; Garau djE., Les sources francaises du socialisme scientifique, P., 1948; Pasquier A., Saint-Simon et les problemes du temps present, «Revue d'histoire eco-nomique et sociale», 1948, v. 27, № 1; M a n u e 1 F. E., The new world o( H. Saint-Simon, Camb. (Mass.), 1956; «Revue Internationale de Philosophies, 1960, № 53—54 (номер посвящен С.-С); Fournel H., Bibliographie saint-simonienne. De 1802 au 31 decembre 1832, P., 1833. H . Застенкер. Москва.
СЕНСИМОНИЗМ — см. Сен-Симон.
СЕНСУАЛИЗМ (лат. sensus — восприятие, чувство, ощущение) — направление в теории познания, согласно к-рому в отличие от рационализма чувственность является гл. формой познания. С. стремится вывести все содержание познания из деятельности органов чувств, а также свести все содержание сознания к их показаниям как первоначальным элементам.
В истории философии вопрос о роли разума и чувств в процессе познания возник как только встала проблема генезиса человеч. сознания. Первоначально и еще недостаточно четко идеи С. формулируются в индийской философии (в учении чарвака), в китайской философии (в учении моистов), в древнегреческой философии (Гераклит, отчасти Демокрит и Аристотель, являющийся в целом рационалистом).
В дальнейшем ходе истории философии определяются материалистич. и идеалистич. направления С. Материалистич. С. усматривает в чувств, деятельности человека связь его сознания с внешним миром, а в показаниях его органов чувств — отражение этого мира. Идеалистич. С. видит в чувств, деятельности некую самостоятельную и самосущую сферу. Идеализм наметился уже в С. Протагора с его релятивистской и субъективистской тенденцией, усилившейся у Аристиппа и его последователей из основанной им киренской школы. Провозглашая чувств, восприятие единств, источником наших знаний, эти философы вместе с тем утверждали, что оно сообщает людям данные только относительно их собств. состояний, но отнюдь не о внешних вещах, являющихся их причинами (Секст Эмпирик, Adversus mathematicos, VII, 191 и ел.). Последние непознаваемы, и понятие истины применимо только к изменениям нашего «обств. существа (там же, а также Diag. L. 11, 192). Впрочем С. киренских философов представлял собой не столько положение теории познания, сколько положение развитой ими этики гедонизма.
Система материалистич. С. была сформулирована Эпикуром, являвшимся гл. представителем этого направления в античности и одним из наиболее последовательных сенсуалистов в истории философии.
Более умеренный С. был разработан стоицизмом уже в древней его фазе. В отличие от эпикурейцев стоики признавали истинным не каждое чувств, восприятие, а только те из них, к-рые возникают в человеч. сознании при определенных условиях («каталептические образы»). Отвергая взгляд, по к-рому понятия ума имеют внеопытное происхождение, стоики пришли к концепции, согласно к-рой человеч. сознание первоначально представляло собой «чистую доску» (tabula rasa), заполняемую в процессе жиз-
ненного опыта образами и понятиями. К гносеологии стоицизма восходит и мысль, к-рая была сформулирована С. как положение о том, что нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в чувстве (nihil est in intellectu quod non sit us in sensu). Элементы С. имелись и в номинализме.
В эпоху Возрождения, когда передовые философы выступали с решительной критикой схоластики и стали подчеркивать необходимость опытного исследования природы, С. снова приобрел значительное влияние (Телезио, Кампанелла, Ф. Бэкон и др.).
Видными представителями материалистич. С. в 17 в. являлись Гассенди и Гоббс. Последний исходил из древней формулы С, считая, что «...нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально, целиком или частично, в органах ощущения» (Избр. произв., т. 2, М., 1964, с. 50).Локк, исходя из основоположных формул С, предпринял попытку вывести из чувств, опыта все содержание человеч. сознания, хотя и допускал, что уму присуща спонтанная сила, не зависящая от опыта.
Непоследовательность локковского С. была использована Беркли, к-рый полностью отбросил внешний опыт и стал рассматривать ощущения («идеи») как достояние только человеч. сознания, т. е. интерпретировал С. идеалистически. Однако берклианский субъективно-идеалистич. С. не выдерживал своего исходного принципа, вводя идею бога, не воспринимаемого ни в каком чувств, опыте. Именно деятельность бога объясняет, по Беркли, возникновение всех идей человеч. духа. Более последователен Юм в своем субъективно-идеалистич. С, основанном на агностицизме и не апеллировавшем к богу. Идеи Юма заложили фундамент субъективно-идеалистич. феноменализма, к-рый составляет основу таких влиятельных направлений бурж. идеализма 19—20 вв., как позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм.
Виднейшими представителями материалистич. С. были франц. материалисты 18 в. Ламетри, Гельвеций, Дидро, Гольбах. Преодолевая непоследовательность Локка и отвергая идеализм Беркли, они последовательно связывали ощущения, как основу всех знаний, с объективным миром, как их источником. Материалистич. сенсуализм Гельвеция стал фундаментом разработанной им этико-социологич. доктрины с ее центр, утверждением о том, что внешняя среда играет решающую роль в формировании человеч. сознания. Эта идея Гельвеция оказала большое влияние на Оуэна и нек-рых др. представителей утопического социализма.
Обстоятельную разработку гносеологии С. произвел Кондилъяк, хотя он и проявлял тенденцию к агностицизму.
В истории С. немаловажную роль сыграла материалистич. гносеология Фейербаха. В противоположность умозрительно-спекулятивному идеализму, господствовавшему в нем. философии конца 18—нач. 19 вв., Фейербах подчеркивал непосредств. достоверность чувств, познания. Вместе с тем Фейербах понимал, что оно составляет только исходный пункт познания, сложный процесс к-рого с необходимостью включает в себя деятельность рассудка и разума.
Диалектический материализм в своей теории познания исходит из высокой оценки роли чувств, познания. Но он считает, что домарксовский С. был созерцательным и индивидуалистическим, поскольку в подавляющем большинстве домарксистских гносео-логич. построений субъектом познания выступал индивидуальный, а не обществ, человек. Сознание такого человека обычно рассматривалось как внеис-торич. феномен. Преодолевая эти пороки, вскрывая роль практики в познании и его обществ, сущность, марксизм-ленинизм глубоко увязывает чувств, и
588
СЕНТ-ЭВРЕМОН — СЕРЁЖНИКОВ
 рациональную формы познания, вскрывая диалектику их взаимодействия как в истории человеч. познания, так и в индивидуальной деятельности.
рациональную формы познания, вскрывая диалектику их взаимодействия как в истории человеч. познания, так и в индивидуальной деятельности.
Лит.. см. при статьях Ощущение, Отражение, Теория
познания. В. Соколов. Москва.
СЕНТ-ЭВРЕМОН (Saint-Evremond), Шарль де (1 аир. 1610—29 сент. 1703) — франц. вольнодумец, писатель, поэт, лит. критик, историк, философ-моралист.
Филос. идеи С.-Э. складывались под влиянием Монтеня, Гассенди, отчасти Спинозы. С.-Э. считал недоказуемым учение об абсолютной духовности и бессмертии души, выражая несогласие с Декартом; он считал невозможным знание о природе бога, бытия к-рого не отрицал. Материалистич. тенденция проявляется у С.-Э. как твердое убеждение в реальности материального мира; земная жизнь человека — единственно достоверная форма его бытия, имеющая самостоятельную ценность. Христианство, в особенности католицизм, С.-Э. называл наилучшей формой религии, но он резко расходился с ортодокс, пониманием христианства, истолковывая его в духе, близком к деизму. Христианский аскетизм совершенно чужд С.-Э. Жизнь, по его мнению, должна быть наслаждением; высшее счастье человек находит в дружбе, являющейся также моральной добродетелью. Любовь, милосердие, терпимость — осн. моральные принципы. С.-Э. осуждал религ. фанатизм, призывая искать то, что объединяет людей — общие моральные принципы, и не враждовать из-за расхождений в религ. догмах. Примирение католиков и протестантов, а в конечном счете людей всех вероисповеданий, он считал насущной задачей. Истинную причину ожесточенности религ. борьбы С.-Э. видел в стремлении духовенства различных церквей установить свое господство над обществом и тем самым обеспечить себе привилегированное положение («Беседа маршала д'Окенкура с отцом Каней» — «Conversation du marechal d'Hocquincourt avec le pere Canaye», P., 1665). В противоположность Паскалю и Ларошфуко, С.-Э. из признания ограниченности познавательных способностей человека и наличия у него эгоистич. побуждений не делал пессимистич. выводов. С.-Э. был уверен, что человек в состоянии улучшить свою жизнь, показывать примеры высокой нравственности и быть относительно счастливым. Участвуя в полемике о «древних и новых авторах», С.-Э. считал, что в общем совр. лит-ра стоит выше античной, поскольку она руководствуется более здравыми нравств. понятиями и более истинными понятиями об окружающем мире; это делает С.-Э. одним из основателей теории прогресса, сформулированной в 18 в. франц. просветителями. С.-Э. является видным представителем передовой филос. мысли Франции 17 в., того вольнодумства, к-рое явилось одним из источников франц. Просвещения 18 в.
Соч.: Oeuvres, mises en ordre et publiees avec une introduction et des notices par R. de Planhol, v. 1—3, P., 1927; The letters of Saint-Evremond, ed. by J. Hayward, L., 1930.
Лит .: Вороницын И. П., История атеизма, 3 изд., [Рязань], [1930], с. 87—88; История философии, т. 2, [М.], 1941, с. 165—66; История франц. литературы, т. 1, М.—Л., 1946, с. 458; Daniels W. M., Saint-Evremond en Angle-terre, Versailles, 1907; Mollenhauer E., Saint-Evremond als Kritiker, Greifswald, 1914; Wilmotte M., Saint-Evremond. Critique litteraire, introduction et notes, P., 1921; Schmidt A. M., Saint-Evremond, ou l'humaniste impur, P., (932; Spalatin K., Saint-Evremond, Zagreb, 1934; Lafargue M. P., Saint-fivremond, ou le Petrone du XVII siecle, P., [1945]; Petit L., La Fontaine et Saint-Evremond, ou la tentation de l'Angleterre, Toulouse, 1953; Barnwell H., Les idees morales et critiques de Saint-Evremond, P., 1957; Hope Q. M., Saint-Evremond. The honnete homme as critic, Bloomington, 1962; его же, Saint-Evremond [Bibliography], в кн.: A critical bibliography of French literature, v. 3, Syracuse—[N. Y.], 1961. В . Кузнецов . Москва.
CEPBET (Servet), Мигель (р. 1509 или 1511 — ум. 27 окт. 1553) — исп. мыслитель и ученый, деятель
революц. естествознания эпохи Возрождения (см. Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1964, с. 8, 165), идеолог антитринитариев. Учился в Сарагосе, Тулузе, Париже, жил в Италии, Германии, Швейцарии. По своим взглядам примыкал к раннему рационализму и пантеизму. С. считал, что природа неделима, дух и материя едины и все возникающее есть лишь разные соотношения и видоизменения элементов природы. С. вплотную подошел к открытию науч. теории кровообращения. В 1553 анонимно издал осн. труд — «Восстановление христианства», в к-ром изложил свои филос. и естеств.-науч. взгляды. По приговору инквизиции С. был подвергнут сожжению; сожжены были и его книги.
Соч.: De trinitatis erroribus libri septem, [Haguenau], 1531; Dialogorum de trinitate, libri duo, [Haguenau], 1532; Christianismi restitutio, Vienne, 1553.
Лит .: Будрин Е., М. С. и его время, Казань, 1878; Tol 1 inN., Das Lehrsystem Michael Servet's genetisch dar-gestellt, Bd 1—3, Giitersloh, 1876—78; DomenecnC. de, Miguel Servet, Barcelona, 1911; Goyanes C. J., Miguel Serveto, teologo, geografo у medico, Md, 1933.
И. Костикова. Москва.
СЕРЕБРЯКОВ, Михаил Васильевич (4 сент. 1879—12 июня 1959) — сов. философ и обществ, деятель, профессор (с 1921), д-р историч. наук (с 1942). С сер. 90-х гг.— в революц. движении; в 1903 сослан в Вост. Сибирь, откуда бежал за границу. С 1904 — член РСДРП, большевик. В 1904 вернулся в Петербург, где поступил в ун-т; окончил его в 1911. Активный участник Окт. революции и гражд. войны. Проф. Петрогр. ун-та (с 1921), Коммунистич. ун-таи др. вузов. Основатель и руководитель Науч. об-ва марксистов, к-рое в 20-х гг. являлось центром марксистской мысли Ленинграда. С 1922—декан фак-та обществ, науки проректор, в 1927—30 — ректор ЛГУ. В 30—40-е гг.— директор Ин-та истории искусств, Всероссийской академии искусствознания, Ин-та экономики, философии и права.
Осн. работы С. посвящены становлению мировоззрения Ф. Энгельса, филос. борьбе в Германии 30— 40-х гг. 19 в. Наряду с проблемами философии С. разрабатывал вопросы истории социалистич. учений, эстетики, искусствознания, истории лит-ры.
Соч.: Новое о Вильгельме Вейтлинге, «Книга и революция», 1921, К° 7; Фридрих Энгельс в лит-ре, там же, № 10—11; Энгельс и его участие в обосновании науч. социализма, «Записки Науч. об-ва марксистов», 1922, № 1; Макс Штирнер перед судом наших современников, там же, JV5 4; Осн. проблемы историч. материализма, там же, 1927, №8(2); 1928, N5 1(9), 2(10); Зомбарт и социологи, «Изв. ЛГУ», 1928, т. 1; Классики марксизма-ленинизма о Н. Г. Чернышевском, в сб.: Н. Г. Чернышевский, Л., 1941; Нем. социализм и борьба с ним Маркса а Энгельса, «Уч. зап. ЛГУ. Сер. филос. наук», 1948, вып. 2; Поэт Гервег и Маркс, Л., 1949; Штирнер Макс, в кн.: БСЭ, т. 62, М., 1933; Фридрих Энгельс в молодости, Л., 1958.
Лит.: Чагин Б. А., Профессор М. В. Серебряков, «Вестн. ЛГУ», 1947, JMi 2; Б а ч м а н о в В. С, Филос. фак-т и филос. науки, в сб.: Ленинградский ун-т за советские годы. 1917—1947, Л., 1948; И л ь е н к о в Э. В., Подлинная популярность — союзница строгой научности, «ВФ», 1960, № 3.
В. Клушин. Ленинград.
СЕРЁЖНИКОВ, Виктор Константинович (24 ноября 1873—27 июня 1944) — сов. философ, д-р филос. наук, профессор (с 1918) Социалистич. Академии обществ, наук, МГУ, МИФЛИ и Смоленского ун-та. Директор Гос. Историч. музея (1935). Окончил в 1897 юридич. фак-т Петерб. ун-та. С.— организатор и участник первых марксистских кружков в России, член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1907—12 жил за границей, где наряду с революц. деятельностью вел науч. работу. В Париже им было задумано издание «В-ки франц. материалистов 18 в.», для к-рого он подготовил переводы соч. Дидро («Избранные филос. произведения», СПБ, 1914) и Ламетри(«Человек—машина», СПБ, 1911). С. перевел также диалог Платона «Теэтет». С. — автор одной из первых хрестоматий по диалектич. материализму, трудов по истории философии. За годы педагогич.
СЕРЕНИ — СЕЧЕНОВ
589
 деятельности С. подготовил многочисл. кадры сов. интеллигенции. В обстановке культа личности был незаконно репрессирован (1938). Посмертно реабилитирован.
деятельности С. подготовил многочисл. кадры сов. интеллигенции. В обстановке культа личности был незаконно репрессирован (1938). Посмертно реабилитирован.
С о ч.: Ламетри, М., [1925]; Кант, М.—Л., 1926; Очерки по истории философии, [т.]1, М.—Л., 1929; Диалектический материализм, М., 1930; Сократ. Основные проблемы философии Платона М 1937
СЕРЕНИ (Sereni), Эмилио (р. 13 авг. 1907) — деятель итал. коммунистич. движения. Член Итальянской коммунистич. партии (ИКП) с 1928. В 1930—43 неоднократно арестовывался за антифашистскую деятельность. С 1936 — член ЦК ИКП, с 1945 — член Руководства компартии. В годы войны С.— активный участник итал. Сопротивления — был президентом правительственного Совета пров. Ломбардия. С 1946—47— министр послевоен. обеспечения и министр обществ, работ. С 1948 — сенатор. В 1949—55 С.— ген. секретарь Итал. комитета сторонников мира. С 1950— член Всемирного Совета Мира, с 1951 — член его Бюро. С 1955 С.— председатель «Национального объединения крестьян». Как теоретик ИКП С. уделяет много внимания развитию и пропаганде марксизма в Италии. В центре внимания теоретич. деятельности С.— анализ аграрных отношений: проблема рынков для с. х-ва и пром-сти, проблемы перенаселения итал. деревни, науч. обоснование необходимости всеобщей аграрной реформы. Большое место в теоретич. исследованиях С. занимают вопросы культуры, науки, философии, иск-ва, к-рым посвящена книга С. «Марксизм, наука, культура» (М., 1952). Полемизируя с Б. Кроче, критикуя спекулятивный, созерцат. характер крочеанской эстетики, С. отстаивает принципиальную противоположность бурж. культуры кулЕ,туре социалистического общества, опровергает тезис о «надклассовости» культуры, доказывая ее неизбежную зависимость от господствующего класса.
С о ч. в рус. пер.: Аграрный вопрос в Италии. Итал. крестьянство в борьбе за демократию, М., 1949; Развитие капитализма в итал. деревне (1860—1900), М., 1951; Старое я новое в итал. деревне, М., 1959.
СЁРНО-СОЛОВЬЁВИЧ, Николай Александрович [13 дек. 1834—9 февр. 1866] — рус. революционер, демократ, публицист и философ. Род. в Петербурге в семье чиновника. Окончил Александровский лицей (1853). В 1853—59 — на гос. службе. К концу 50-х гг. складываются антикрепостнич. воззрения С.-С, но он еще верит в возможность коренного преобразования России путем реформ («Записка об отмене крепостного права и откупов», 1858, не опубл.). С конца1859 в идейном развитии С.-С,тесно сблизившегося с Чернышевским, происходит перелом. Он склоняется к признанию революц. средств борьбы, действия масс «с н и з у, насильственно», если будет продолжаться «противодействие» ликвидации «старого порядка» (см. Публицистика. Письма, 1963, с. 7). Уйдя в отставку, С.-С. уезжает за границу, где знакомится с Герценом и Огаревым. Здесь происходит дальнейшее углубление революционного характера воззрений С.-С. В «Проекте действит. освобождения крестьян» (1860) он резко критикует правительств, проект крест, реформы, защищает демократич. программу решения агр. вопроса в России. Возвратившись на родину, С.-С. развертывает большую обществ .-просветит, деятельность; в это время окончательно завершается становление его революц.-демократич. убеждений. Он отвергает реформу как один из предполагаемых и даже предпочтит. путей обществ, пребразований в России. Ликвидация царизма даст «...простор великому мирскому началу развиваться во всех своих проявлениях» («Мысли вслух», там же, с. 168). При активном участии С.-С. в 1861—62 в Петербурге возникает тайное революц. об-во «Земля и воля», важнейшую задачу к-рого С.-С. видел в слиянии ре-
волюц. интеллигенции с народом. 7 июля 1862 С.-С. (одновременно с Чернышевским) был арестован и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В июне 1865 отправлен в сибирскую ссылку. Умер в Иркутске.
С.-С. был одним из представителей атеистич. традиции в России. Видя гл. задачу науки в удовлетворении потребностей обществ, жизни, С.-С. в написанной в тюрьме статье «Не требует ли нынешнее состояние знаний новой науки» (опубл. в «Рус. слове», 1865, № 1) призывал к созданию новой науки — социологии. «Если до сих пор не создалась общественная наука, то это только доказывает, что люди предшествовавших поколений не вполне сознавали солидарность, связывающую все человечество, не вполне понимали, что его существование управляется известными законами» (там же, с. 199). Полагая, что «мысль о правильности исторического развития» высказал Воклъ, С.-С. считал необходимым «продолжать и дополнять» его «бессмертный труд» (см. там же, с. 228).
Лит.: Герцен А. И., Иркутск и Петербург, Собр. соч., т. 19, М., 1960; Л е м к е М., Очерки освободит, движения «шестидесятых годов», СПБ, 1908; Р о м а н с н к о В. И., Мировоззрение Н. А. С.-С, [М.], 1954; Богато в В. В., Социологич. взгляды Н. С.-С, М., 1961; Володарский И.Б., Н. А. С.-С, в кн.: С е р н о-С о л о в ь е в и ч Н. А., Публицистика. Письма, М., 1963; Коган Л. А., Филос. драматургия Н. А. С.-С, «ВФ», 1959, № 10; е г о же, Атеис-тич. взгляды Н. А. С.-С, в кн.: Вопр. истории религии и атеизма, сб. 12, М., 1964; Виленская Э., Революц. подполье в России (60-е годы XIX в.), М., 1965.
А. Володин. Москва.
СЕУС — см. Сузо.
|
|
СЕЧЕНОВ, Иван Михайлович [1(13) авг. 1829— 2(15) ноября 1905] — основоположник рус. физиологии и объективной детерминистич. психологии, философ-материалист. В 1856 окончил мед. фак-т Московского ун-та. С 1860 — проф. физиологии Медико-хирургич. академии, а затем Новороссийского, Петерб. и Моск. ун-тов. Мировоззрение С. сложилось под влиянием философии революц. демократов.
Принцип материалистич. монизма и детерминизма является метод ологич. основ oil учения С, набросок к-рого изложен впервые в «Рефлексах головного мозга» (1863). Главная идея трактата: «...все акты сознательной и бессознательной жизни, по способу происхождения (т. е. по механизму совершения.— Ред.), суть рефлексы» (Избр. филос. и психологич. произв., 1947, с. 176). В связи с этим принципиальной критике подверглись попытки обособления психологич. явлений от организма и внешнего мира в идеалистич. философии и психологии. Вместе с тем, в противовес вульгарному материализму утверждалось своеобразие нер-вно-психич. регуляций по сравнению с чисто физиологическими. С. радикально преобразовал существовавшее прежде понятие о рефлексе, оиираясь на ряд сделанных им выдающихся физиологич. открытий, в частности на открытие т. и. центрального торможения (тормозящего влияния высших нервных центров на мышечную систему). С. первым в нейрофизиологии поставил на передний план «... не форму, а деятельность, не топографическую обособленность органов, а сочетание центральных процессов в естественные группы» («Физиология нервных центров», 1952, с. 21). С этих позиций нейрофизиологич. школа, созданная С.(Н.Е. Введенский, И. П. Павлов и др.), обогатила мировую науку фундаментальными открытиями.
Полемизируя с господствовавшим на Западе мехапи-стич. взглядом на поведение и интроспекционистским
590 СЕЧЕНОВ —СИГЕР БРАБАНТСКИЙ
 на сознание, С. трактует рефлекс как акт, состоящий из чувствования и движения, и определяет его по объективной функции в жизнедеятельности, выделяя два конституирующих признака чувствования: иить орудием различения условий действия и регулятором последнего (см. Избр. филос. и психологич.произв., с. 416). Взяв в качестве образца автоматич. устройства, где есть «... такие регуляторы, которые заменяют руку машиниста...» («Физиология нервных центров», с. 26), С. предложил трактовать чувствование как сигнал. Это позволило внести идею саморегуляции в рефлекторную схему и заложило основы для идеи обратной связи, кольцевого управления движением. Считая, что реальность ощущения коренится в реальности двигат. акта, С. предложил новое учение о фи-зиологич. механизме чувств, познания. В его понимании орган чувств составляет лишь сигнальную половину целостного снаряда, другую нераздельную половину к-рого образует эффекторный аппарат. Стремясь вскрыть психофизиологич. механизм логич. мышления, С. считал, что исходные логические операции заложены в чувств, деятельности организма, требующей приспособления к связям и отношениям вещей.
на сознание, С. трактует рефлекс как акт, состоящий из чувствования и движения, и определяет его по объективной функции в жизнедеятельности, выделяя два конституирующих признака чувствования: иить орудием различения условий действия и регулятором последнего (см. Избр. филос. и психологич.произв., с. 416). Взяв в качестве образца автоматич. устройства, где есть «... такие регуляторы, которые заменяют руку машиниста...» («Физиология нервных центров», с. 26), С. предложил трактовать чувствование как сигнал. Это позволило внести идею саморегуляции в рефлекторную схему и заложило основы для идеи обратной связи, кольцевого управления движением. Считая, что реальность ощущения коренится в реальности двигат. акта, С. предложил новое учение о фи-зиологич. механизме чувств, познания. В его понимании орган чувств составляет лишь сигнальную половину целостного снаряда, другую нераздельную половину к-рого образует эффекторный аппарат. Стремясь вскрыть психофизиологич. механизм логич. мышления, С. считал, что исходные логические операции заложены в чувств, деятельности организма, требующей приспособления к связям и отношениям вещей.
В сигналах мышечного чувства представляемое и действительное совпадают друг с другом, поэтому мышца дает наиболее фундаментальное и адекватное отражение действительности. В этой связи С. подвергал критике кантовский априоризм.
Опираясь на новую рефлекторную схему, С. выдвинул программу преобразования психологии в объективную науку (см. статью «Кому и как разрабатывать психологию?», 1873). Его программа противостояла господствовавшему на Западе позитивистскому направлению. В полемике с рус. сторонниками этого направления (прежде всего с Кавелиным) С. доказывал, что превратиться в подлинную науку психология сможет, лишь ориентируясь на естествознание, прежде всего — на физиологию; поэтому психологич. исследование должно быть передано в руки физиологов. Это дало повод идеалистам объявить его ликвидатором психологии. Истинный же смысл предложения С. был иным. Психологов по профессии в ту эпоху еще не существовало, и С. рекомендовал черпать их кадры из рядов нейрофизиологов, а не философов-метафизиков. Созданный С, развитый в трудах Бехтерева, Павлова и, частично, франц. психолога Рибо, объективный метод способствовал успешному развитию естеств.-науч. психологии и получил мировое признание. Выдвинутый С. план построения психологии как объективной науки остался незавершенным из-за узости, ограниченности антропологич. принципа, на к-ром он базировался; объяснения С. не простирались далее локомоции, тогда как истинно человеч. форму взаимодействия живых систем с природой образует трудовая деятельность. Хотя к началу 20 в. интересы С. переместились с локомоторных актов на трудовые движения (см. «Очерк рабочих движений человека», М., 1901), однако общая абстрактно-антропологич. трактовка сознания при этом не изменилась. Поэтому и попытки С. ввести принцип «интериоризации» — объяснить генезис внутр. плана поведения из его внешней структуры — не увенчались успехом, ибо за исходный уровень сознат. регулирования были приняты прямые жизненные встречи организма со средой.
Антропологизм препятствовал также последовательно материалистич. решению С. вопроса о детерминации воли. Вскрыв психофизиологич. механизм волевого действия, С. понимал его зависимость от обществ, среды лишь в абстрактно-этич. плане, не видя того, что сам этот план является производным от соцпаль-но-историч. обстоятельств.
Уязвимые аспекты теории С. касаются проблем, впервые разрешенных диалектич. материализмом. В 90-х гг. С. выступил с рядом филос.-психологич. работ, пропагандировавших материалистич. учение о характере человеч. знания. В условиях идейно-филос. борьбы своего времени С. являлся союзником рус. марксистов в борьбе против агностицизма и субъективизма; его работы оказали положит, влияние на развитие материалистич. гносеологии, на укрепление позиций филос. материализма в естеств. науках. Вся науч.-идейная деятельность С. была непосредственно связана с революц.-освободит, движением в России.
Соч.: Автобиографии, записки..., М., 1907 (имеется библ. работ И. М. С).
Лит.: Рубинштейн С. Л., Физиология и психоло
гия в науч. деятельности И. М. С, «Физиол. журнал СССР
им. И. М. С», 1946, т. 32, № 1; А н а н ь е в Б. Г., Очерки
истории рус. психологии XVIII и XIX вв., [M.J, 1947; Т е п-
л о в Б., Филос. и психологич. взгляды И. М. С, «Больше
вик», 1948, Ш 7; Б у д и л о в а Е. А., Учение И. М. С. об
ощущении и мышлении, М., 1954; ЯрошевскийМ. Г.,
Проблема детерминизма в психофизиологии XIX в., Душанбе,
1961; его же, Сеченовские идеи о мышечной чувствитель
ности в свете теории отражения и кибернетики, «ВФ», 1963,
№ 10. М. Ярошевский. Москва.
СЙВБЕРН (Sibbern), Фредерик Кристиан (18 июля 1785—16 дек. 1872) — дат. философ-идеалист. Учился в Германии. В 1813—70 — проф. Копенгагенского ун-та. Испытал влияние Фихте, Шлейермахера, Стеффенса и нем. романтиков. Позже С. отошел от романтизма и подверг критике систему Гегеля за спекулятивно-умозрительный характер. С. стремился разработать «реалистич.» философию, придавая особое значение анализу психологич. опыта субъекта. С. считал, что наличное бытие является системой спорадически протекающих процессов развития во времени, и тем самым отрицал закономерный характер этого развития. Согласно С, ряды этих процессов пересекаются, возникает борьба, являющаяся причиной прогресса. Т. к., по С, познающий всегда есть только один из мн. спорадич. элементов бытия и находится в одном нз рядов развития, то познание бытия в целом невозможно («О познании и исследовании» — От erkjendelse og granskning, Kbh., 1822). По вопросу об истине С. стоял на позициях релятивизма.
Соч.: Menneskets aandelige natur og vaesen, del. 1—2, Kbh., 1819—28; Speculativ kosmologie med grundlag til en speculativ theologie, Kbh., 1846; Om forholdet imellem sjael of legeme..., Kbh., .849.
Лит .. Н0 if ding H., Danske filosofer, Kbh., 1909; Himmelstrup J., Sibbern. En monografi, Kbh., 1934; Kallmoes P. H., F. С Sibbern, Kbh., 1946.
А. Мысливченко. Москва.
СИГЕР БГАБАНТСКИИ (Siger de Brabant) (p. ок. 1240—ум.ок.1281—84)—ср.-век. философ, проф. фак-та искусств Парижского ун-та, один из основателей зап.-европ. аверроизма. В трактатах «О вечности мира» («De aeternitate mundi»), «О необходимости и взаимосвязи причин» («Tractatus De necessitate et contingen-tia causarum») и «О разумной душе» («Tractatus de anima intellective»), в комментариях к «Физике», «Метафизике» и др. соч. Аристотеля С. Б. сформулировал учение о двойственной истине, считал, что истина рационального знания может приходить в прямое противоречие с истиной религ. откровения. Признавая существование бога как первопричины, С. Б. отрицал творение «из ничего» и считал, что мир «совечен» богу; бог не свободен в своем отношении к миру, в к-ром господствуют им же установленные закономерности, воплощенные, в частности, в движении небесных тел. С. Б. сформулировал принцип детерминизма, исключающий непосредств. божеств, вмешательство. Он подчеркивал неразрывное единство материи и формы, к-рые различаются лишь как понятия, но не в объективной реальности. Материя существует вечно, формы зарождаются в ее недрах и не могут существовать вне и независимо от материи. Че-
Дата: 2018-12-21, просмотров: 631.