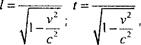Понять характер средневековой науки можно, лишь раскрывая всю систему средневекового теологического миросозерцания, конституирующими элементами которого выступали универсализм, символизм, иерархизм, телеологизм. Охарактеризуем их.
| ' Бицилли П. Элементы средневековой культуры. Одесса, 1919. С. 2. |
| 3 Философия науки |
Универсализм. Специфической чертой средневекового мышления было некое тяготение к всеобъемлющему познанию, стремление «охватить мир в целом, понять его как некоторое законченное всеединство»1-. Причины этого заключались в том, что в качестве нормативной в средневековье функционировала описанная выше античная гносеологическая модель «подлинного» — всеобщего, аподиктичного — знания, получившая солидное обоснование на новом социокультурном и мировоззренческом материале. Фактическим обоснованием этой модели выступало представление о единстве космоса и человека, заключавшееся в их генетической (креационистской) общности, из чего вытекало: знать способен только тот, кто проник в суть божественного творения, — поскольку же оно универсально, всякий, знавший его, знал все; соответственно не знавший его, вообще не мог ничего знать. Естественно, в такой парадигме не находилось места частичному, относительному, незавершенному или неисчерпывающему знанию; знание могло быть либо универсальным, либо никаким.
Символизм. Символизм как компонент средневекового миросозерцания был в полной мере всеобъемлющим: он охватывал как онтологическую, так и гносеологическую сферу. Истоки «онтологического символизма» можно понять, учитывая радикальность установок креационизма. Будучи сотворенной, всякая вещь — от пылинки до природы в целом — лишалась статуса онтологической основательности. Ее существование, определяемое неким верховным планом, не являясь независимым, не могло не быть символичным: оно лишь воспроизводило, воплощало, олицетворяло скрытую за ним фундаментальную сущность, несовершенным прототипом, дубликатом которой оно являлось.
Онтологическая формула «все отмечено печатью всевышнего» в качестве гносеологического эквивалента порождала формулу «все исполнено высшим смыслом», которая в свою очередь предопределяла концептуализацию действительности на основе возрожденной мифологической, крайне символической типологии «причина— значение». Корни «гносеологического символизма» средневековья уходят в известное новозаветное: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово здесь — орудие творения, онтологическая стихия. Но не только. Переданное человеку, оно выступало и универсальным орудием постижения творения, средством реконструкции божественных творческих актов.
В силу прямого отождествления понятий с их объективными аналогами, повсеместного гипостазиса лингвистических структур вопрос о химерах, фикциях не возникал: все, выразимое в языке, мышлении, понятии, слове, присуще действительности. Реалистический изоморфизм понятий и объектов действительности обусловливал своеобразное тождество онтологического и гносеологического, которое выступало условием возможности знания.
Учитывая генетическую фундаментальность понятия по отношению к действительности, владение, обладание им вместе с тем означало владение исчерпывающим знанием о действительности, производной от понятия. В соответствии с этим процесс познания вещи заключался в обращении к исследованию понятия, ее выражающего, что определяло сугубо книжный, текстовой характер познавательной деятельности. Поскольку же наиболее представительными текстами, к тому же освященными непогрешимым божественным авторитетом, выступали святые тексты, идеалом, инструментом познания представлялась экзегетика — искусство истолкования святых писаний, этих предельных резервуаров всех возможных знаний.
Иерархизм. «Все «вещи видимые» обладают свойством воспроизводить «вещи невидимые», быть их символами. Но не все в одинаковой мере. Каждая вещь - - зеркало, но есть зеркала более, есть менее гладкие. Уже одно это заставляет мыслить мир как иерархию символов»1. Символы подразделялись на «высшие» и «низшие», принадлежность к которым определялась приближенностью или удаленностью от бога на основе оппозиции небесного (непреходящего, возвышенного) — мирского (бренного, тленного, твар-ного). Так, вода «благороднее» земли, воздух «благороднее» воды и т. п.
Телеологизм. Атрибутом средневекового миросозерцания былтелеологизм, заключающийся в истолковании явлений действительности как существующих по «промыслу божию» для и во имя исполнения каких-то заранее предуготовленных ролей. Так, вода и земля служат растениям, которые в силу этого более благородны, занимают в иерархии ценностей более высокие места. Растения в свою очередь служат скоту.
Логическим финалом, естественным завершением телеологизма был антропоцентризм. Ибо, как в свое время подметил А. Шопенгауэр, формула «ничто не существует напрасно» подразумевает формулу «существует то, что полезно человеку».
| 1 Бицилли П. Элементы средневековой культуры. Одесса, 1919. С. 34. |
На основе антропоцентризма складывался геоцентризм. Человек в Средневековье представлялся существом сугубо амбивалентным: с одной стороны, он — венец творения, воплощение божеского, созданный по образу и подобию верховного творца, с другой стороны, он — плод искушений дьявола, греховная тварь. Человек постоянно выступал объектом борьбы, средоточием противоборства высших альтернативных сил мира — Бога и дьявола. В связи с этим вопрос реальной судьбы человека был вопросом вопросов. Последнее, конечно, укрепляло телеологизм. Если учесть, что «ради разрешения этого вопроса Бог... снизошел на Землю, чтобы в образе человека претерпеть за род человеческий проклятие греха — смерть и этой жертвой преодолеть грех и ад», то следовательно, «мир без человека немыслим, так как без него он был бы бесцелен»1. Однако не менее принципиально то, что местом действия всемирной драмы избиралось место жительства человека — Земля. Не что-нибудь, а именно она «представляла собой сцену, на которой происходило взаимодействие Бога, дьявола и человека». Именно «на ее поверхности сходились столь резко разделенные до тех пор стороны» и разыгрывали здесь великую «божественную комедию» искупления»2.
Оценка перечисленных выше опорных элементов средневекового миросозерцания позволяет сделать некоторые выводы применительно к вопросам познания.
Во-первых, деятельность человека в эпоху Средневековья предпринималась в русле религиозных представлений — вне церкви ничто не имело прав на гражданство. Противоречащее религии запрещалось специальными декретами. Реймский собор 1131 г. наложил запрет на изучение юридической и медицинской литературы. Второй Латеранский собор 1139 г., Турский собор 1163 г. и декрет Александра III подтвердили это запрещение и т. д.
Воззрения на природу проходили цензуру библейских концепций. Так, проводя идею подчиненного характера физики относительно метафизики, Винцет де Бове в «Зерцале истории» утверждал, что наука о при-
1 Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания. СПб., 1907. С. 544.
2 Там же.
роде «имеет своим предметом невидимые причины видимых вещей» и т. п. Обобщенную доктрину познания Средневековья разработал Фома Аквинский, который, приводя к единому знаменателю многочисленные частные теологические предписания к познанию, в качестве центральной максимы выдвигал: «...созерцание творения должно иметь целью не удовлетворение суетной и преходящей жажды знания, но приближение к бессмертному и вечному».
Подобные установки, усиливая элемент созерцательности, настраивали познание на откровенно мистический теологический лад, что не только препятствовало его поступательному развитию, но и определяло регресс или, во всяком случае, стагнацию. Так, Средневековье отказалось от прогрессивной теории возникновения природы античных атомистов только потому, что процесс этого возникновения рассматривается как случайный (демокритовская апроноэсия), а не фатальный, соответствующий божественному промыслу. Другим рельефным тому примером служил опыт медицины, где за бортом реальной практики оказались ранее накопленные знания и где в качестве общепринятых использовались не собственно медицинские (то же анатомирование, без которого невозможна хирургия, как величайший грех предано анафеме), а мистические средства — чудотворство, молитва, мощи и т. п.
Во-вторых, в средневековой картине мира не могло быть концепции объективных законов, без которой не могло оформиться естествознание.
Причина взаимосвязанности, целостности элементов мира усматривалась средневековым умом в Боге. Мир целостен постольку, поскольку есть Бог, его сотворивший. Сам по себе мир бессвязен: устрани Бога — он развалится. Ибо всякий объект утратит естественное место, отведенное ему Богом в иерархии вещей. Так как объект определялся в отношении к Богу, а не в отношении к другим естественным объектам, не находилось места идее вещности, объективной общемировой связности, целостности, без чего не могло возникнуть ни понятие закона, ни, если брать шире, — естествознание.
В-третьих, в силу теологически-текстового характера познавательной деятельности усилия интеллекта сосредоточивались не на анализе вещей (они были вытеснены из контекста рассмотрения), а на анализе понятий. Универсальным методом служила дедукция, осуществлявшая субординацию понятий, которой соответствовал определенный иерархический ряд действительных вещей. То, что логически выводилось из другого, уже мыслилось как реально подчиненное этому другому, как стоящее «за ним» по «достоинству», а такого рода последовательность, в свою очередь, смешивалась с последовательностью временной, онтологической. Поскольку манипулирование понятиями замещало манипулирование объектами действительности, не было необходимости контакта с последними. Отсюда принципиально априорный, внеопытный стиль умозрительной схоластической науки, обреченной на бесплодное теоретизирование.
Однако взгляд на Средневековье как на интеллектуальное кладбище человечества был бы поверхностым. Хотя культура Средневековья не знала науки в современном понимании, в ее недрах успешно развивались такие специфические области знания — мы не решаемся называть их наукой, — которые подготовили возможность образования науки в более поздний период. Имеются в виду астрология, алхимия, ятрохимия, натуральная магия. Примечательно то, что, представляя собой противоречивый сплав априоризма, умозрительности и грубого, наивного эмпиризма, опытом своего функционирования эти области знания исподволь разрушали идеологию созерцательности, осуществляя переход к опытной науке. Опыт функционирования этих дисциплин справедливо расцениваемый как промежуточное звено между техническим ремеслом и натурфилософией, уже заключал в себе зародыш будущей экспериментальной науки.
Как отмечалось выше, предпосылкой науки является выделение объективных закономерных ситуаций, получающее опытную апробацию. В Античности этому препятствовала созерцательность, чем объясняется невозможность оформления там эмпирически обоснованной науки. В средневековье препятствием этому служила та же созерцательность, имеющая, правда, в отличие от античности сугубо религиозную, теологическую подоплеку. В связи с этим интересно, что опыт натуральной магии противоречил или, по крайней мере, не состыковывался с религиозно-мистической созерцательностью как некоей идеологической доминантой. В самом деле: религия в общем смысле представляет попытку культовым способом воздействовать на свободную волю бога с целью достичь каких-то результатов (с принципиальной точки зрения религия есть апелляция к «скрытым параметрам», упрочивающим детерминацию поведения верующих). Уповая на бога и основываясь на вере, религия, естественно, не поставляет гарантий эффективности этих воздействий.
Подобно религии, натуральная магия также представляет собой попытку воздействовать на бога с целью получить заранее запланированные результаты, однако уповает при этом не на его свободную волю, а на некоторую эмпирическую методику. Поэтому, если религия далека от того, чтобы предполагать ориентацию деятельности на выявление эмпирически обоснованных законов, натуральная магия уже не может не предполагать подобную ориентацию, она отличается от религии эффективным характером, который обеспечивается лишь опытной апробацией абстрактно-мыслительного содержания. Последнее сближает магию с наукой, одновременно разобщая ее с религией.
Конечно, момент этот не следует преувеличивать. По точной характеристике В.Л. Рабиновича, «средневековый рецепт как особая форма деятельности... не просто сумма предписаний... но такая форма деятельности, в которой словесно-заклинательно предвосхищается, осуществляется сама эта деятельность»1. Другими словами, магическая деятельность еще не может рассматриваться как некультовая. В действительности она сопровождалась мистическими духовными обря-
' Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979. С. 68.
дами, освящалась обильными молитвами (культ слова) и т. п., представляя вполне экстатическое, оргиастичес-кое ремесло. Но в то же время она уже не может рассматриваться как всецело культовая — во всяком случае она включает структуры, гносеологически весьма перспективные, имея в виду их возможность (чего ранее не было) трансформироваться в экспериментальную науку. Вот почему та же алхимия, «которая до. конца сохранила тесную связь с магией, могла спокойно перейти в химию»1.
Более подробно проиллюстрируем нашу мысль на примере астрологии.
Согласно идеологическим установкам средневековья перипетии человеческого существования, происходящее на Земле, представляющей средоточие Вселенной, развивается по «звездной книге». Все по-дответственно своему светилу, знаку зодиака, определяющему его судьбу, предназначение. Раскрыть связь микро- и макрокосмоса и входило в компетенцию астролога, который, деля эклиптику на 12 «астрологических домов», символизирующих перипетии жизни, анализировал, «части каких знаков зодиака попали в какие дома и в каких домах находятся Солнце, Луна и планеты»; так как «каждый знак зодиака и каждое из указанных светил» связывались с точки зрения благоприятствования с судьбой рассматриваемого вопроса, «на основании того, в какие дома и какие знаки зодиака и светила попали»2, делался вывод, осуществлялись предсказания.
| Мейерсон Э. Тождественность и действительность. СПб., 1912. С. 6. 2 Розенфельд Б.А., Рожанская М.М., Соколовская З.К. Абу-р-Рай-хан-ал-Бируни. М., 1973. С. 23. |
Во всей этой, на первый взгляд, целостно-фидеистической деятельности тем не менее просматриваются два относительно автономных пласта. Первый — установить положение планеты на небесном своде применительно к произвольной точке времени — представляло по сути дела внутринаучную задачу, стимулирующую как эмпирические (тщательные наблюдения за движениями планет), так и теоретические (создание моделей планетных движений) исследования, составившие в будущем ядро астрономии. Второй — интерпретация установленного положения планеты на небесном своде как связанного с точки зрения благоприятствования (неблагоприятствования) с судьбой определенного вопроса — представляла фиктивную, псевдонаучную задачу, возникавшую лишь в рамках символичес-ко-теологического истолкования действительности на основе типологии «причина — значение». Если характеризовать гносеологическую сущность этого пласта более тщательно, обращаясь при этом к данным современной науки, необходимо отметить следующее.
Идея зависимости жизни, естественных процессов в пространственно-временном континууме от космических факторов получила в современной науке солидное обоснование. Это относится в первую очередь к концепции цикличности и ритмичности природных явлений.
Сама по себе идея зависимости земных событий от космических, далеко не беспочвенная, рациональная, позволяет на основании данных о движении планет осуществлять прогностическую деятельность. В каком же смысле можно говорить об обоснованности прогнозов астрологов? Анализ прогностической деятельности астрологов показывает, что она не имеет необходимого и достаточного рационального обоснования. В лучшем случае астролог мог руководствоваться эмпирическими обобщениями, позволяющими осуществлять прогноз будущего, как, например, в случае индикаторных законов. Скажем, вполне допустим вывод, идущий от эмпирических наблюдений над периодами констелляций, что последние неблагоприятны для событий земной, человеческой жизни. Разумеется, астролог не мог знать причин этого (констелляции вызывают неравенство сил тяготения, обусловливают возрастание солнечной активности и т. п., что отрицательно сказывается на всем живом), но он мог пользоваться эмпирически установленными данными на этот счет, применяя их как индикаторный закон, подобно тому как всякий, не зная медицины, оценивает состояние здоровья по показаниям термометра. Однако важно то, что рациональные предсказания от такого рода обобщений могли иметь лишь самую общую неопределенную форму. Во всяком случае, рационально они никак не могли быть индивидуализированы, т. е. распространены на единичные локализованные в конкретных точках пространства-времени события. Поэтому правильной оценкой деятельности астрологов является оценка их деятельности как мистической, которая лишь заключала в себе отдаленную предпосылку научной деятельности, учитывая ее, во-первых, в принципе эмпирический характер, а во-вторых, неявную ориентацию на чисто астрономическую задачу: уметь определять положения планет на небесном своде для произвольной временной точки.
Проделанный анализ позволяет прийти к следующему заключению. В истории европейской культуры, в истории мировой мысли средневековая культура выступает феноменом совершенно специфическим. Если пытаться выразить эту специфику одним словом, то это будет противоречивость, — амбивалентность, внутренняя неоднородность. С одной стороны, Средневековье продолжает традиции Античности, свидетельством чему являются такие мыслительные комплексы, как созерцательность, интенция на постижение общего безотносительно к единичному, склонность к абстрактно-умозрительному теоретизированию, принципиальный отказ от опытного познания, признание примата универсального над уникальным, стабильного над становящимся, надличностного над личностным и т. п. С другой стороны, Средневековье порывает с традициями античной культуры, «подготавливая» переход к совершенно иной культуре Возрождения. Подтверждением этого выступает значительный прогресс алхимии, астрологии, ятрохимии, натуральной магии, имеющих «экспериментальный» статус. Будучи интегрированы воедино, эти моменты и обусловливали противоречивость средневековой культуры, которая для судеб науки имела едва ли не решающее значение. Дело в том, что, сохраняя, гальванизируя навыки работы с идеализированными конструкциями, взращенными в антич-
Глава 3. Наука в Срвднввекввье
ной натурфилософии, именно в этот период исследующее мышление направляет свою работу «в русло достижения практических эффектов». А это составляло решающее условие возможности оформления научного естествознания. Подчеркиваем, именно условие, ибо самому научному естествознанию было не суждено оформиться в эпоху Средневековья. Препятствием тому служил ряд причин.
| 1 Гессен Б.М. Социально-экономические корни механики Ньютона. М.-Л., 1963. С. 20. |
1. Средневековая культура не знала идеи самодостаточности природы, управляемой естественными объективными законами: поскольку природа есть нечто сотворенное, она управляется волей творца. Для изменения этой парадигмы требовались существенные идейные сдвиги во всей системе миро-видения, которые произошли много позже в связи с утверждением разрушающих монополию теологического креационизма деизма (Ньютон, Вольтер) и пантеизма (Спиноза).
2. Созерцательный, теологически-текстовой характер познавательной деятельности, который был настолько самодовлеющим, прочно укорененным в культуре, что даже во времена Галилея выступал мощным мировоззренческим фактором, сдерживающим прогресс опытной науки. Чтобы убедиться в серьезности, действенности этого обстоятельства, достаточно вспомнить заявление перипатетика, который на приглашение Галилея посмотреть в телескоп и воочию убедиться в наличии пятен на Солнце отвечал: «Напрасно, сын мой. Я дважды прочел Аристотеля и ничего не нашел у него о пятнах на Солнце. Пятен нет. Они происходят либо от несовершенства твоих стекол, либо от недостатка твоих глаз»1.
3. Полумистический, со значительным удельным весом вербального элемента (поборники натуральной магии верили в таинственную силу словесных заклинаний) характер «опытной» деятельности в науке. Конкретные методики натуральных магов не представляли еще эксперимента в общепринятом смысле слова — это были скорее чудодействия, нацеленные на вызывание духов, потусторонних сил, сверхприродных могуществ. Говоря строго, средневековый ученый оперировал не с вещами, а с силами, за ними скрытыми, — с их «идеальными» формами, праэлементами. Акты опытного познания развертывались как ритуальные действа, направленные на контакт с потусторонним миром: в силу вездесущего символизма мир средневекового человека был двухмерен, а ученый функционировал как двухмерный субъект. 4. Качественный характер знания. «Средневековая наука, — отмечает Э. Мейерсон, — не подвластна понятию количества, и в этом именно заключается ее коренное отличие от современной науки»1. Основу картины мира средневековья составляла качественная онтология — теория неоднородного и анизотропного пространства Аристотеля, узаконивавшая «естественную» диалектику стихий и утверждавшая привилегированность различных точек и направлений движений в пространстве. Не менее качественными были и гносеологические установки — мы имеем в виду традиционную для средневековья доктрину наивного реализма, некритически отождествлявшего субъективное с объективным (формула esse in intellectus — esse in re) и в конечном счете препятствовавшего адекватному познанию. Качественный характер науки, разделение сущности — essentia и существования —- existential, вещественное моделирование обусловливали невозможность образования понятия закона, подменяя представление о естественно-объективно-необходимо-связанной действительности телеологическим представлением об антропоморфической каузальности (учение Аристотеля о четырех причинах).
| 1 Мейерсон Э. Цит. соч. С. 6. |
Ввиду этого средневековая наука лишь ступень к подлинной науке. Глубоко неправы те, кто, подобно
Глава 3. Наука в Срвдневвковьв
Дюгему и Кромби, помещает точку отсчета науки (имеется в виду эмпирически обоснованная наука) в эпоху средневековья, превознося деятельность натуральных магов, в частности, Парижской (Буридан, Орем и др.) и Оксфордской (Р. Бэкон, Р. Гроссетесте и др.) школ. Хотя в отдельных эмпирических результатах представители этих школ и предвосхитили некоторые из последующих достижений классической науки, они не могут квалифицироваться как основоположники ее творческого метода. Ибо наука Р. Бэкона и др., как справедливо подчеркивает Л. Торндайк, «придавала особое значение обработке чудес» и не выходила за рамки фидеистической деятельности. Отсчет экспериментальной науки от Парижской или Оксфордской школы представляет пример антиисторизма в анализе феномена науки, ничем не оправданную подгонку фактических данных под априорную исследовательскую конструкцию. Подлинная экспериментальная наука возникла в период Нового времени, а исходным пунктом и точкой отсчета ее является Галилей.
КЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА
Процессами, которые сопутствовали формированию научного естествознания в период Нового времени, с нашей точки зрения, были следующие: крушение архаичной антично-средневековой космософии под напором набиравшей силу натуралистической идеологии; соединение абстрактно-теоретической (умозрительно-натурфилософской) традиции с ремесленно-технической; аксиологическая переориентация интеллектуальной деятельности, вызванная утверждением гипотетико-дедуктивной методологии познания.
Крушение аашно-среашшвой шмосори
Для простого перечня причин той интеллектуальной революции, которая разрушила антично-средневековую концепцию мира и привела к оформлению научного естествознания, потребовалось бы целое исследование, изучающее и производственный прогресс, и социально-политическое разложение феодального общее гва, и реформацию, разъедающую монолитность церковной идеологии, и пуританизм, сыгравший определенную роль в становлении рационализма, и процесс укрепления института абсолютной монархии, и упрочение гелиоцентризма, опровергавшего теологическую концептуализацию явлений действительности через оппозицию «небесного-мирского», что сдерживало поступательное развитие познания, и возрождение античных традиций работы с натурфилософскими иде-ализациями, и протестантскую этику, пропагандировавшую идею личной инициативы, и многое другое.
Поэтому выделим лишь главное. С нашей точки зрения, основу естественно-научной идеологии, ориентировавшей на получение знания о «безличных, слепых, репродуктивных, самоопределяющихся бытийных автоматизмах, которые возникают между воздействующими друг на друга объектами1, составляли следующие представления и подходы.
Натурализм. Укреплению идеи самодостаточности природы, управляемой естественными, объективными законами, лишенной примесей антропоморфизма и телеологического символизма, а также концептуализируемой на основе типологии «причина-следствие», а не «причина-значение», способствовали два обстоятельства.
Первое — разработка таких нетрадиционных теологических концепций, как пантеизм (Спиноза) и деизм (Ньютон, Вольтер, Шаррон). Растворение бога в природе, представлявшее в то время, несомненно, форму атеизма, приводило, с одной стороны, к тому, что пантеистическому богу было трудно молиться, а с другой стороны — к своеобразной эмансипации природы, которая по своему статусу не только становилась «однопорядковой» богу, но и — в условиях концентрации познавательных интересов на вопросах естествознания — приобретала явное превосходство над ним. Деизм же уже фактически утверждал возможность естественных объективных законов, ибо дифференцировал творение как супранатуральный акт и натуральные принципы существования сотворенного. Изучение первого (причины мира) составляло вотчину метафизики, а изучение второго (автономно существующего мира как следствия) — физики, причем между одним и другим не находилось общих точек соприкосновения («физика — бойся метафизики!»).
| 1 Науковедение и история культуры. Ростов. С. 78. |
Второе — развитие медицины, физиологии, анатомии и т. п., которое укрепляло идею «тварности» человека, его единства с органической и неорганической природой («человек — вещь во множестве вещей») и которое разрушало антропоцентристские телеологические иллюзии о некоей привилегированности человека в мире.
Раздел I. Рентные зтаны развитии науки
Комбинаторностъ. Это мировоззренческий-подход к вопросам структуры действительности, противоположный доминировавшему ранее символически-иерархическому подходу. Согласно ему, всякий элемент мира представлялся не в виде некоего качественного целого, органически связанного с другими подобными це-лостностями во всеохватывающую и всепроникающую тотальность, а в виде набора форм разной степени существенности и общности. Суть этого подхода передают следующие слова Галилея: «...никогда я не стану от внешних тел требовать что-либо иное, чем величина, фигуры, количество... движения... я думаю, что если бы мы устранили уши, языки, носы, то остались бы только фигуры, число и движение». Подобную позицию разделяли (спор о первичных и вторичных качествах) Локк, Гоббс, Декарт, Спиноза и др. На этой основе устанавливалось своеобразное единство мира, понимаемое как общность его форм, что разрушало качественный взгляд на мир как на неограниченное много- и разнообразие. Разнообразие действительности отныне описывалось в терминах механической комбинаторики нескольких фундаментальных форм, ответственных за известные качества. Отсюда, знать действительность означало знать правила сочетаний форм. Последнее определяло такие специфические черты новой идеологии, как инструментальность и механистичность, сыгравших видную роль в процессе оформления естествознания как науки.
Квантитативизм. На основе комбинаторности развился квантитативизм — универсальный метод количественного сопоставления и оценки образующих всякий предмет форм: «познать— значит измерить». Значительный импульс прогрессу методов подведения форм под количественное описание придала разработка Декартом и его последователями (де Бон, Шутен, Слюз, де Витт, Валлис и др.) аппарата аналитической геометрии, где обосновывалась идея единства геометрических форм и фигур, объединенных формальными преобразованиями. В связи с этим «пространственные формы... которые в своей индивидуальности даже боготворились греками, рассматривавшими их как некоторые индивидуальные сущности... были развенчаны и сведены к ряду некоторых простейших и всеобщих соотношений»; это и позволяло «единообразно рассмотреть все царство индивидуальностей»1.
Существенным представляется то, что качества, которые ранее не могли быть соизмерены на единой основе (Аристотель в силу «качественного» стиля мышления не мог создать теорию стоимости, хотя вплотную подошел к этому), теперь оказались соизмеримыми, что учреждало картину унитарного — гомогенно-количественного, а не иерархизированного — гетерогенно-качественного космоса.
Причинно-следственный автоматизм. Существенный вклад в оформление образа естественной причинно-следственной связности явлений действительности внесли Гоббс, который элиминировал из введенных Аристотелем материальных, действующих, формальных и целевых причин две последние, а также Спиноза, который показал, что, «если бы люди ясно познали весь порядок природы... они нашли бы все так же необходимым, как все то, чему учит математика»2. Эта мировоззренческая позиция, нашедшая активную поддержку во внутринаучном сознании (Галилей, Бойль, Ньютон, Гюйгенс и др.), лишала действительность символически-телеологических тонов и открывала путь для объективно-необходимого закономерного ее описания. Кроме того, следует отметить такой момент, как всемерно упрочившийся в то время монотеистический характер верования, которого не было в античности и который в гораздо большей степени, чем античные идеи долженствования и приказа, способствовал утверждению понятия о единообразно и закономерно детерминируемой действительности.
Аналитизм. У греков «именно потому, что они еще не дошли до расчленения, до анализа природы, — природа еще рассматривается в общем, как одно целое.
; Науменко Л.К. Монизм как принцип диалектической логики. Алма-Ата, 1969. С. 76.
2 Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 301.
Всеобщая связь явлений природы не доказывается в подробностях: она является для греков результатом непосредственного созерцания»1. В условиях же Нового времени утверждается совершенно отличный от античного стиль познания, в соответствии с которым познавательная деятельность функционировала не как абстрактно-синтетическая спекуляция, а как конкретно-аналитическая реконструкция плана, порядка и конституции вещей, как умение разлагать их на фундаментальные составляющие. Примат аналитической деятельности над синтетической в мышлении представителей данного периода способствовал формированию системы физической причинности, которая окончательно сложилась и упрочилась с появлением механики Ньютона. До Ньютона подобной системы не существовало. Даже законы Кеплера «не удовлетворяли требованию причинного объяснения», ибо «представляли собой три логически независимых друг от друга правила, лишенных всякой внутренней связи» и относились «к движению в целом», не позволяя «вывести из состояния движения в некоторый момент времени другое состояние, во времени непосредственно следующее за первым»2.
Другими словами, законы Кеплера были интегральными и по своему гносеологическому статусу мало чем отличались от абстрактно-созерцательных формулировок мыслителей Античности. Дифференциальные же законы, а вместе с ними и та единственная форма «причинного объяснения, которая может полностью удовлетворять... физика»3, были впервые созданы в рамках аналитической механики Ньютона.
| 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 69. 2 Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. Т. 4. С. 83. 3 Там же. |
Геометризм. Эта черта мышления, противопоставляемая нами античному физикализму и медиевистско-му иерархизму, оформляется как следствие утверждения гелиоцентризма. Для разъяснения мысли остановимся на истории мировоззренческой ассимиляции последнего культурой того времени. Сам Коперник отчетливо сознавал, что влияние его теории не ограничивается физикой: «...она приведет к переоценке ценностей и взаимоотношений различных категорий; она изменит взгляды на цели творения. Тем самым она произведет переворот также и в метафизике и вообще во всех областях, соприкасающихся с умозрительной стороной знания. Отсюда следует, что люди, если сумеют или захотят рассуждать здраво, окажутся совсем в другом положении, чем они были до сих пор или воображали, что были»1.
| 1 Льоцци М. История физики. М., 1970. С. 86. |
Гелиоцентрическое учение действительно имело огромнейшее идеологическое значение, поскольку за поднятым Коперником чисто физическим вопросом — просто научной задачей скрывалось нечто чрезвычайно важное — уяснение положения человека во Вселенной. Революционной в связи с этим оказывалась прежде всего онтологическая сторона гелиоцентризма. Если антично-средневековая онтология базировалась на учении Аристотеля об анизотропном и неоднородном пространстве, что позволяло формулировать представление о пяти стихиях и, в частности, об эфире как «квинтэссенции бытия», противопоставляемой условиям земного бытия, а на этой основе оформлять антиномии небесного-мирского и т. д., то Коперник основывал свои построения на учении об однородном и изотропном (евклидовом) пространстве, все точки и направления движения в котором равноценны. Поскольку физическое действие в пространстве Коперник связывал не с диалектикой стихий, а с точками сосредоточения материального субстрата вне зависимости от их местоположения, постольку каких-либо качественных онтологических различий между Небом и Землей для него не существовало. Последнее означало образование картины унитарного космоса, развитие которой, затрагавая и вопросы гносеологии, позволяло обосновать доктрину универсальных законов природы. Разработке данных идей коперниканства посвятили себя многие передовые мыслители Ренессанса, но
особенно значительным был вклад, внесенный Г. Галилеем и Д. Бруно. Галилей открыл бесконечное множество неподвижных звезд, которых человек никогда не видел и не предполагал, что наносило смертельный удар по телеологическому учению перипатетиков, приспособленному к католицизму, ибо все эти небесные тела «не могли быть созданы для того, чтобы ночью светить людям»1. Заслуга же Бруно заключалась в том, что активно проводимая им критика телеологического антропоцентризма привела к созданию учения о бесконечной Вселенной, опровергавшего фидеистическую антиномию небесного — земного.
Таким образом, геометризация мира на основе евклидовой теории также стимулировала утверждение картины безграничного однородного, управляемого едиными законами космического универсума. Поскольку вследствие евклидизации мира устанавливалась картина онтологически гомогенной действительности (чему способствовал также факт открытия Галилеем пятен на Солнце), постольку, как писал Спиноза, «законы и правила природы, по которым все происходит и изменяется... везде всегда одни и те же, а следовательно, и способ познания природы вещей... должен быть один и тот же, а именно — это должно быть познанием из универсальных законов и правил природы»2.
Фундаментализм — допущение предельных унитарных основоположений, образующих для познавательного много- и разнообразия незыблемый монолит центр-базис, имплицирующий производные от него дистальные единицы знания.
Финализм — интенция на гомогенную, неопровержимую, самозамкнутую, абсолютно истинностную систему знания.
| ' Мармери Дж. Прогресс науки, его происхождение, развитие, причины и результаты. СПб., 1896. С. 99. 2 Спиноза Б. Цит. соч. С. 82. |
Имперсональность — субъективная отрешенность знания как следствие погружения последнего в область безличного объективно сущего, чуждого индуцируемых познающим субъектом аксиологических измерений.
Абсолютизм — субъект как асоциальный, аисто-ричный, среднетипический познаватель, отрешенное воплощение интеллектуальных способностей обладает талантом непосредственного умосозерцания истин, данных как извечные, неизменные, непроблематизиру-емые регистрации беспристрастного обстояния дел.
Наивный реализм — онтологизация познавательной рефлексии: постулирование зеркально-непосредственно-очевидного соответствия знания действительности, восприятие содержания мыслительных отображений реальности как атрибутивного самой реальности.
Субстанциальность — элиминация из контекста науки параметров исследователя (натурализация познания), рефлексии способов (средства, условия) рефлексии субъектом объекта.
Динамизм — установка на жестко детерминистическое (аподиктически-однозначное) толкование событий, исключение случайности, неопределенности, многозначности'— показателей неполноты знания — как из самого мира, так и из аппарата его описания; ставка на нетерпимый к дополнительности, альтернативности, вариабельности, эквивалентности агрессивно-воинствующий монотеоретизм, навевающий тенденциозную авторитарно-консервативную идеологию всеведения (исчерпывающе полное, вполне адекватное знание не как императив, а как реальность).
Сумматизм — ориентация на сведение сложного к простому с последующей реконструкцией комплексного как агрегата элементарных частей.
Эссенциализм — разрыв явления и сущности, сущности и существования, нацеленность на восстановление за наличной вещностью скрытых качеств, сил, олицетворяющих внутреннюю господствующую, самодовлеющую, преобладающую основу.
Механицизм — гипертрофия механики как способа миропонимания. С античного атомизма до вульгарного физиологического материализма XIX в. господствует редукционистская идеологема о мире-машине и человеке-автомате, которые ввиду этого доступны познанию.
Кумулятивизм — трактовка развития знания как линейного количественного его саморасширения за счет монотонной аддитации новых истин. Симптоматично в этом отношении такое убеждение Гегеля: большая и даже, может быть большая часть содержания наук носит характер прочных истин, сохраняясь неизменной; возникающее же новое не представляет собой изменения приобретенного ранее, а прирост и умножение его1. Отсюда энтелехия познания — достижение все большего уровня систематичности и точности: будущие открытия в детализации наличного знания.
| 1 Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. IX. М., 1936. С. 7. |
Теперь можно зафиксировать основные черты нового стиля мышления, который разрушил архаичную антично-средневековую картину мироздания и привел к оформлению вещно-натуралистической концепции космоса, выступающей предпосылкой научного естествознания. Эти черты следующие: отношение к природе как самодостаточному естественному, «автоматическому» объекту, лишенному антропоморфно-символического элемента, данному в непосредственной деятельности и подлежащему практическому освоению; отказ от принципа конкретности (наивно квали-тативистское телесно-физическое мышление Античности и Средневековья): становление принципов строгой количественной оценки (в области социальной — в процессе становления меркантилизма, ростовщичества, статистики и т. д., в области научной — с успехами изобретательства, созданием измерительной аппаратуры — часов, весов, хронометров, барометров, термометров и т. д.), жестко детерминистская причинно-следственная типологизация явлений действительности, элиминация телеологических, организмических и анимистических категорий, введение каузализма; инструменталистская трактовка природы и ее атрибутов — пространства, времени, движения, причинности и т. д., которые механически комбинируются наряду с составляющими всякую вещь онтологически фундаментальными формами; образ геометризированной гомогенно-унитарной действительности, управляемой
Гдана 4. Классическая наука
едиными количественными законами; признание в динамике универсального метода описания поведения окружающих явлений (не вещественные модели, а формальные геометрические схемы и уравнения).
Соединение абстрактно-теоретической (умозрительно шрршоетшк) традиции с ремесленно-технической
Науку конституирует единство эмпирической и теоретической деятельности. Однако в периоды античности и средневековья два эти вида деятельности гносеологически и социально противопоставлены, разобщены. Теоретическая деятельность замыкалась на семь классически свободных искусств — астрономию, диалектику, риторику, арифметику, геометрию, медицину, музыку — и только на них. Эмпирическая деятельность проходила по ведомству механических, несвободных искусств — ремесленничества. Дело доходило до курьезов. Так, теоретическое занятие медициной считалось научным и сводилось к толкованию книг. Практическое занятие медициной — непосредственная терапевтическая деятельность — научным не считалось и квалифицировалось как врачебное дело.
Данное положение, когда теоретические занятия составляли удел абстрактного интеллекта, а эмпирические (опытно-экспериментальные) занятия — удел конкретного ремесла, крайне затрудняло синтез эмпирического и теоретического уровней, а значит, делало невозможным формирование науки. Представители кабинетной учености, не занимаясь экспериментаторством по психологическим обстоятельствам (отсутствие престижности), обрекали себя на бесплодное системосози-дание и схоластическое теоретизирование. Представители же цехового ремесла, не занимаясь вопросами теории по обстоятельствам социальным (сословные барьеры), оказывались не в состоянии перешагнуть рубеж ползучего эмпиризма и беспросветного филистерского невежества. Разрыву этого порочного круга и радикальному изменению ситуации, приведшему к синтезу эмпирической и теоретической деятельности, а вместе с этим — к образованию науки, мы обязаны тем социально-практическим процессам, которые составляли стержень общественной жизни того времени.
Как справедливо указывает Цильзель, наука возникает тогда, когда рушится «барьер между двумя составными частями научного метода... и методы верхнего слоя ремесленников» (эмпирическая деятельность) усваиваются «академически воспитанными учеными»1 (теоретическая деятельность). Подобное и происходит в эпоху Ренессанса в результате обусловленного развитием капитализма бурного прогресса промышленности. Таким образом, синтез эмпирической и теоретической деятельности, абстрактного знания и конкретного умения, осуществленный в эпоху Ренессанса, означал возникновение науки в собственном смысле слова.
Конечно, было бы вульгарным социологизировани-ем процесс вызревания научного естествознания интерпретировать как непосредственное и прямое следствие развития капитализма. С нашей точки зрения, этот (безусловно, социокультурный) процесс детерминировался обществом более опосредованным и сложным образом. Адекватная картина генезиса науки о природе по социокультурной составляющей представляется нам такой.
Оформление естествознания как науки стало возможным лишь в условиях капиталистического товарного производства, породившего ценностную переориентацию познания на получение практически полезного знания. Свидетельством этого служат настроения самих деятелей науки того времени, выраженные, к примеру, Гуком, который заявлял: «Задача науки состоит в изыскании совершенного знания природы, а также свойств тел и причин естественных процессов; эти знания приобретаются не... ради самих себя, а для того, чтобы дать возможность человеку... вызывать и совершать такие эффекты, которые могут наиболее способствовать его благополучию в мире»2. Однако для обра-
' Zilsel Е. The Sociological roots of Science. — Amer. I. Sociology, 1942. Vol. 47. P. 555.
2 Espinass M. Robert Hooke. L., 1959. P. 9.
зования теоретического естествознания самих по себе данных установок недостаточно, поскольку, как уже отмечалось, направленность на достижение прикладных результатов должна сочетаться с использованием мыслительных навыков работы с идеализированными объектами, с идеальным моделированием действительности.
Для объяснения социальных предпосылок возможности сохранения и развития этих навыков недостаточно ссылок на развитие капиталистического производства.
Ключ к пониманию причин сохранения и развития античной деятельности по конструированию идеальных объектов, без которой невозможна наука, заключается в признании особого значения средневековой культуры, сыгравшей исключительную роль в данном отношении. Поскольку для образования естествознания необходим синтез абстрактно-теоретической и опытно-практической деятельности, а он, как было выяснено, не мог произойти в условиях античного рабства, на начальном этапе требовалось, видоизменяя систему производственных отношений, препятствующих указанному синтезу, сохранить принципы деятельности с идеализациями. Нечто подобное и осуществилось в эпоху Средневековья, экономической основой которого было уже не рабство, но феодализм, а интеллектуальной основой — абстрактно-теоретическая деятельность с идеальными конструкциями (теологическая спекулятивная система мира). Данными совершенно своеобразными условиями средневековой культуры и объясняется как дальнейший прогресс «теоретического» исследования природы, так и отсутствие социальных запретов на «опытное» (алхимия, натуральная магия и пр.) ее изучение. Во всяком случае, путь от идеального моделирования действительности к опыту прокладывался именно в то время.
Насколько непростым, продолжительным и трудным был этот путь, можно судить хотя бы по временному показателю — для соединения абстрактно-теоретической (умозрительно-натурфилософской) традиции с ремесленно-технической человечеству потребовалось четырнадцать столетий.
Следовательно, существенной вненаучной предпосылкой оформления научного естествознания наряду с развитием капиталистических отношений явился факт освоения в рамках феодализма античных культурных традиций. Учитывая это, процесс оформления научного естествознания с точки зрения реализации социокультурной детерминации, обеспечившей синтез эмпирической и теоретической деятельности, в самой лапидарной форме может быть реконструирован так.
1. Специфические обстоятельства Средневековья позволили транслировать мыслительные достижения Античности (опыт идеального моделирования действительности) в культуру Ренессанса, тогда как специфические обстоятельства последнего позволили существенно преобразовать эти достижения (данный процесс, как отмечалось, начался уже в эпоху Средневековья — «очаги» опытного естествознания в монастырях) — от установок на поиск гносеологических средств удостоверения результатов естественно-научного поиска до формирования собственно «техногенного» естествознания. Переходными формами эволюционной цепи от умозрительной натурфилософии к эмпирически обоснованному естествознанию являются такие двухмерные, эмпирико-теоретичес-кие феномены, как астрология, алхимия, натуральная магия и т. п., равно как и концепции тогдашних деятелей культуры (Бруно, Р. Бэкон), сочетавших в себе по тем временам буквально несовместимые эмпирические (опытно-экспериментальные) и теоретические (теологически-спекулятивные) взгляды и установки.
2. В дальнейшем благодаря последовательному вытеснению на интеллектуальную периферию фидеистических, теологических и метафизических комплексов (деизм) и все возрастающему стремлению практически эффективизировать научную деятельность (прогресс капиталистических отношений) постепенно образуется новый, ранее не известный интеллектуальный феномен — опирающееся на опыт теоретическое естествознание.
Утверждение гштетш-дедртишй нещшпк дознания
Основу составляющего ядро современного естествознания гипотетико-дедуктивного метода образует логический вывод утверждений из принятых гипотез и последующая их эмпирическая апробация. Под последним понимается процедура, обеспечивающая возможность установления истинности теоретических утверждений в процессе их соотнесения с непосредственно наблюдаемым положением дел.
Если от характеристики гипотетико-дедуктивного метода, лежащего в основании гипотетико-дедуктивной теории, перейти к характеристике последней, то можно сказать следующее. Гипотетико-дедуктивная теория представляет собой дедуктивно оформленное множество предложений, состоящее из синтаксиса и интерпретации. В отличие от логико-математических (формальных) систем естественно-научные гипотетико-де-дуктивные теории всегда интерпретированы, что означает обязательную переводимость (проецируе-мость) их синтаксиса на заданный фрагмент реальности (онтологию), относительно которого выполняются описательные, объяснительные и предсказательные функции теории.
Приоритет введения в науку гипотетико-дедуктивной тактики исследования по праву принадлежит Г. Галилею. Мы имеем в виду прежде всего разработанную им концепцию пустотной механики, базировавшуюся на принципах рациональной индукции и мысленного эксперимента. Чтобы понять существо методологических новшеств Галилея, необходимо хотя бы бегло охарактеризовать аристотелевскую науку о природе, критика которой стимулировала создание Галилеем новой программы строительства естествознания.
Физика Аристотеля включает общую теорию бытия, являющуюся с современной точки зрения конкретизацией традиционной онтологии. Собственно физические проблемы в принятом понимании развиты у Аристотеля слабо, что следует из анализа содержания его немногочисленных произведений, посвященных этим проблемам, в частности — «Физики», «О небе» и
«Механических проблем». Аристотелевская «Физика» представляет общее учение о природе, о первых началах и четырех причинах. «О небе» посвящено вопросам круговых и прямолинейных, «естественных» и «насильственных» движений. «Механические проблемы», по мнению историков, созданные не самим Аристотелем, а его эпигонами, и представляющие собой апокриф, обсуждают задачи в основном технического характера, решение которых построено по единообразному методу рычага.
Стержень физической проблематики у Аристотеля составляет учение о движении, которое первоначально связывалось им с концепцией энтелехии, или философской теорией актуализации. Однако, поскольку такая трактовка движения оказывалась непригодной для решения частных физических задач, Аристотель вынужден был ее конкретизировать. С этой целью он ввел более частные понятия типов движения (перемещение, изменение, возрастание, уменьшение), а затем предложил еще более уточненное понятие изменения положения тела с течением времени (понятие локального движения), которое в дальнейшем специфицировал на естественное и насильственное. Чтобы понять смысл данной дистинкции, следует охарактеризовать аристотелевскую концепцию пространства.
Пространство, по Аристотелю, есть место, граница объемлющего с объемлемым. Тело, снаружи которого имеется объемлющее его тело, находится в месте. В соответствии с учением об элементах земля находится в воде, вода — в воздухе, воздух — в эфире, этот же последний — ни в чем. Исходное местоположение тел обусловливает качественную определенность физических перемещений (локальных движений) в зависимости от природы носителей. Так, огонь естественно, по природе, движется вверх, а вниз — против природы — насильственно; для земли же пребывание наверху — противоположно естественному и т. д. Так как движение тел изначально предопределено характером субстрата, тяжелые тела движутся к центру, легкие — на периферию. Таким образом, пространство Аристотеля, конституированное качественными границами между объектами и средами, гетерогенно, векторизовано; неодинаковость его точек дополняется неравноправностью, неравноценностью перемещений по направлениям, дифференцируемым привилегированными системами отсчета.
Анализ аристотелевской доктрины неоднородного и анизотропного пространства позволяет глубже понять существо его механики. Как справедливо отмечает Либшер, в ней не существует относительности между системами отсчета, ибо не выполняется теорема импульсов: силы там пропорциональны не изменениям импульсов, а самим импульсам. Кроме того, «состояние равновесия свободного объекта есть покой, что выделяет определенную систему отсчета. При наблюдении этого состояния равновесия можно в каждой системе отсчета установить, какую скорость она имеет относительно абсолютно покоящейся системы»1.
В чем гносеологический источник данной естествоведческой позиции Аристотеля? В грубом некритическом эмпиризме и архинаивнейшем реализме: ставя вопрос, как движутся тела на самом деле — in re, Стагирит а) не в состоянии абстрагироваться от эффектов трения; б) вынужден постулировать зависимость скоростей движения от качественных свойств тел, параметров среды.
| 1 Либшер Д.Э. Теория относительности с циркулем и линейкой. М., 1980. С. 31. |
Подобная примитивно-физикалистская трактовка исключает формулировку столь капитальных законов механики, как законы инерции, падения и т. д. (Идейное ядро перипатетической механики составляет закон: движимое движется чем-то — находящий метафизичес кую проработку в доктринах импетуса и антиперистасиса.) Именно против подобной — примитивно-физикалист-ской — постановки вопроса активно выступил Галилей. Он усилил заложенную Коперником многозначительную тенденцию разведения образов (символов) и объектов, содержательного строения знаков (язык науки) и их связи с реальностью. Отправляясь от идей более ранних критиков Аристотеля (Тарталья, Бенедет-
ти, Борро, Пикколомини), Галилей нанес перипатетической платформе наивного реализма (примитивного физикализма) сокрушительный удар.
Уже в первой своей работе, посвященной проблеме движения, сочинении «О движении» (ок. 1590 г.), он подверг критике динамику Аристотеля. В частности, Галилей опроверг перипатетическое учение о естественных и насильственных движениях. Он показал, что если среда движения не воздух, а вода, некоторые тяжелые тела (скажем, бревно) становятся легкими, так как движутся вверх. Следовательно, движения тел вверх или вниз зависят от их удельного веса по отношению к среде, а не от «предназначения». Здесь же Галилей показал беспочвенность того тезиса перипатетиков, что скорости движения тел в менее плотной среде больше, чем в более плотной. Так, тонкий надутый пузырь движется медленнее в воздухе, нежели в воде и т. д.
Позитивная часть физической теории Галилея представлена фундаментальным трудом «Беседы и математические доказательства». В нем Галилей обращается к анализу изохронности качаний маятника. Он вывел, что разные по весу, но одинаковые по длине маятники совершают колебания одинаковой продолжительности. Но движение маятника сводится к падению тела по дуге круга. Отсюда следует, что сила тяжести в одинаковой мере ускоряет различные падающие тела. Значит, если отвлечься от сопротивления среды, все тела при свободном падении должны иметь одинаковую скорость.
Параллельно Галилей проводит опыты с катанием тел по наклонной плоскости и здесь же находит подтверждение мысли о равномерном ускорении различных тел силой тяжести. Однако доказательность этих опытов не являлась стопроцентной, поскольку проявление закона действия силы тяжести видоизменялось действием внешних причин. Для устранения данного недостатка следовало четко зафиксировать природу этих видоизменений. Последнее требовало радикальной переформулировки оснований господствовавшей перипатетической динамики, приспособленной к анализу эмпирически регистрируемых движений. Что же предпринял Галилей?
Он выработал особую исследовательскую тактику, предписывавшую проводить изучение не эмпирического, а как бы идеального, теоретического движения, описываемого аппаратом математики. В соответствии с этим новая, развиваемая Галилеем динамика условно распадалась на две части. В первой требовалось путем логического вывода получить законы движения в «чистом виде». Во второй, органически связанной с первой, требовалось осуществить опытное оправдание полученных в первой части абстрактных законов движения.
Развивая новую динамику, Галилей подверг критике перипатетический тезис «нет действия без причины», трактовка которого распространялась лишь на состояния покоя. А именно: всякое тело не переходит из состояния покоя в состояние движения без действия дополнительной силы. При этом перипатетики полагали, что прекращение движения связано с действием эмпирических условий (трение, сопротивление среды) в случае прекращения действия движущей силы. В эту трактовку Галилей вносит существенную поправку: ни одно тело не изменяет скорости ни по величине, ни по направлению без действия дополнительной силы. Другими словами, раз получив импульс, по прекращении действия силы тело продолжает движение с постоянной скоростью без учета сопротивления среды и эффектов трения. Последнее революционизировало не только сферу науки, фактически отмечая действительное начало физики (закон инерции), но и сферу гносеологии, разрушая наивно-физикалистские воззрения Аристотеля. Оценивая гносеологическое значение разработанного Галилеем метода идеального моделирования действительности, А. Эйнштейн и Л. Инфельд квалифицируют его как одно «из самых важных достижений в истории человеческой мысли», которое «учит нас тому, что интуитивным выводам, базирующимся на непосредственном наблюдении, не всегда можно доверять, так как они иногда ведут по ложному следу»1.
' Эйнштейн А. Собр. научн. трудов. Т. 4. С. 363.
Исходный пункт физики Галилея абстрактно-гипотетичен. Если Аристотель описывал действительные наблюдаемые движения, то Галилей — логически возможные. Если Аристотель ставил вопрос относительно реального пространства событий, то Галилей — относительно идеального, в котором «вместо непосредственного изучения процессов природы» узаконивался анализ математических предельных законов, какие «можно проверить только при исключительных условиях»1. Вместо движения реальных тел Галилей увидел «геометрические тела, движущиеся в пустом безграничном евклидовом пространстве»; «это был очень трудный переход, настоящая революция в понимании движения»2. Характеризуя гносеологический метод Галилея, исследователи его творчества указывают на мысленный эксперимент как на такой познавательный момент, который существенно обогатил арсенал научной деятельности. В чем, по Галилею, заключается его сущность? Книга природы, считает Галилей, написана на идеальном языке математики. Читая ее, следует абстрагироваться от условий эмпирической данности изучаемых процессов и вскрывать за чувственной кажимостью фундаментальные рациональные законы.
В этой связи представляется естественным, что Галилей возрождает гносеологические традиции Платона, разработавшего идеально-логическую трактовку природы знания. Если Аристотель пошел на сознательный идейный разрыв с Платоном («Платон мне друг, но истина мне больший друг»), отказавшись от его трактовки природы знания, то Галилей, обосновывая принцип интеллектуальной рационализации эмпирии — необходимость проникать в сущность, скрытую за существованием, — тем самым восстанавливает платонизм.
В понимаемой именно на платоновский манер природе познавательной деятельности, которая состоит в исследовании предельных случаев, реализу-
1 Heisenberg W. Wandlungen in der Grundlagen der Naturwis-senschaften. Leipzig, 1944. S. 31.
2 Ibid.
емых лишь в идеальных условиях, и заключается то новое, что связано с именем Галилея, обогатившего инструментарий науки методом мысленного эксперимента.
Оценивая творческий метод Галилея, невозможно обойти такую проблему: исключает ли деятельность по постановке мысленных экспериментов деятельность по проведению реальных экспериментов или нет? С высоты сегодняшнего дня вопрос кажется нелепым, поскольку нет оснований для противопоставления одного типа деятельности другому. Не являясь провизорной стадией обдумывания деталей предстоящего реального эксперимента, мысленный эксперимент выступает независимой и самостоятельной исследовательской процедурой, основанной на изучении идеализированной концептуальной действительности, в то время как реальный эксперимент представляется процедурой, изучающей объективную действительность. Поэтому один тип экспериментов не заменяет и не исключает другой.
Факт проведения Галилеем реальных опытов позволяет уточнить динамику оформления метода мысленного эксперимента, стимулировавшего образование научного естествознания. Она, с нашей точки зрения, такова.
1. Результаты реальных экспериментов (побочные эффекты условий эмпирической осуществимости), естественно, не оправдали ожидаемого: удельный вес отрицательных данных был значительным. Последнее обусловило нападки на новую галиле-евскую теорию падения не только исконных противников Галилея — реакционных перипатетиков (критическое выступление иизанской профессуры), но и таких прогрессивных деятелей культуры того времени, как, скажем, Декарт, который упрекал Галилея в нечистоте проведения опытов. Выход из этой драматической ситуации Галилей нашел в том, что рационализировал полученные в опыте результаты. Это позволило ему объяснить отрицательные данные нечистотой условий — погрешностями эмпирического уровня.
4 Философия науки
2. Гносеологическая рефлексия первоначально ad hoc (для данного случая. — Ред.) приема рационализации негативных свидетельств при опытной апробации теории вместе с оформившимся в ходе этой рефлексии убеждением о чрезвычайно неоднозначном, опосредованном характере взаимосвязи эмпирического и теоретического уровней в научном поиске, подсказали Галилею идею нового метода. Этот метод— рациональная индукция, использование которой соответствовало условиям не естественного, а искусственного, абстрактно-логического пространства — пространства идеальной научной реальности. Так выкристаллизовалась концепция пустотной механики: «если бы совершенно устранить побочные эффекты эмпирического уровня, то...» (мысленный эксперимент).
3. Развитие концепции пустотной механики в качестве логического финала имело оформление гипо-тетико-дедуктивной методологии, поскольку способом проверки выведенных в рамках пустотной механики идеальных законов движения мог быть только опыт. Если быть точным, надо сказать, что Галилей не выполнил свой план эмпирического обоснования идеальных законов пустотной механики (идея сопоставления идеальных законов с реальными, учитывая специальную систему поправок на эффекты эмпирического уровня — трение ит. п.). Этот план был фактически реализован позже — с завершением строительства величественного здания классической механики в следующем столетии.
Таким образом, обобщая сказанное относительно столь важного компонента, как утверждение гипоте-тико-дедуктивной методологии познания, правильно подчеркнуть роль Галилея. Именно Галилей, опровергнув аристотелевское: «Никакое движение не может продолжаться до бесконечности» (по существу, это равносильно открытию закона инерции, точную формулировку которого, однако, дал лишь Ньютон), заложил фактический фундамент науки о природе. Именно Галилей, развенчивая наивный квалитативистский фено-
Глава 4. Классическая падка
менализм перипатетиков, возрождая платонистскую интерпретацию природы знания, а также разрабатывая исследовательскую тактику мысленного эксперимента в идеальной реальности, обосновал возможность применения в рамках физики количественного аппарата математики, что означало перевод ее на строгую научную основу, Именно Галилей, обращая внимание на необходимость последовательного эмпирического обоснования идеально-логических законов и формулировок, создал универсальную методологическую канву естественно-научного познания.
Поэтому именно фигура Галилея, установившего «ясные» и «очевидные» сейчас законы, создавшего сами рамки мышления, которые сделали возможными последующие открытия в науке, реформировавшего интеллект, снабдившего его серией новых понятий, выработавшего специфическую концепцию природы и науки, — фигура Галилея отмечает рождение подлинно научного естествознания.
Выделим те доподлинно непреходящие моменты, какие внесло с собой утверждение принципов новоевропейского мышления, выразившее революциониза-цию духовной сферы. Это:
— секуляризация и детеологизация интеллекта, освобождение науки из-под ферулы церкви, авторитета канонических текстов: анализ святых писаний постепенно становится уделом монастырей, а не университетов, очагами науки все в большей степени перестают быть приходы и становятся академии; —- эмансипация научного мышления от фидеистических и организмических категорий: отказ от топографической иерархии «верх-низ» — центральной для системы католического арис-тотелизма; десакрализация пространственно-временных представлений — формирование и утверждение идей однородности и изотропности пространства и времени; забвение антропоцентризма; принятие картины унитарного космоса (спинозовское: «Вся сотворенная природа есть единое существо. Отсюда следует, что УУ
человек есть часть природы, связанная с остальными»1).
— демократизация и эффективизация научного поиска: отказ от средневекового начетничества, догматизма и талмудизма (критическая, антисхоластическая направленность теоретико-познавательных доктрин того времени от бэко-новского «Нового Органона» до декартовских «Правил для руководства ума» и «Рассуждений о методе»); разрыв с августиновским «Верь, чтобы понимать»; отказ от маргинального медиеви-стского духа познания (формула Бэкона: «Книги должны быть результатом науки, а не наука результатом книг», определяющий задачи королевского общества лозунг Ольденбурга: «...не ради толкования текстов... но ради исследования и объяснения... природы»); принятие про-грессистской парадигмы научного знания, отбрасывающей схоластический авторитаризм ratio scripta, священной, абсолютной и непреложной «истины текста» и развенчивающей характерное понятие финальности познавательного процесса. Достаточно вспомнить Паскаля: «Все науки бесконечны». Галилея: «Кто возьмется поставить пределы человеческому разуму?» Декарта: «В мире нет ни одной науки, которая была бы такою, в какую некогда научили меня верить». И многих других их современников;
— натурализация мышления, которое отныне опирается на фундамент каузализма, парадигму законосообразной, объективно-сущей природы с естественной причинностью, едиными проникающими и охватывающими ее как целое законами;
— согласование Логоса с Сенсусом: развенчание средневекового представления о существовании априорного оправдания разума, которое выводилось «из его провиденциальной гармо-
Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1. М., 1957. С. 301.
Глава И. Классическая наука
| ' Кузнецов Б.Г. Ньютон. М„ 1982. С. 25. 2 Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М., 1967. Т. IV. С. 82 3 Бор Н. Избранные научные труды. М., 1971. Т. 2. С. 526. |
нии и из его совпадения с ratio scripta»'; отказ от интерпретации понятий как самостоятельных стихий, действующих в качестве реальных универсалий; отказ от понимания логико-теоретического мышления как самодостаточного инструмента постижения мира; осознание необходимости опытной апробации, эмпирического контроля дискурсивно развертываемых схем и конструкций (начертанный на гербе Королевского общества девиз: «Nullius in verba»). Оценивая эту сторону дела, Эйнштейн отмечал: «...прежде чем человечество созрело для науки, охватывающей действительность, необходимо было ...фундаментальное достижение, которое не было достоянием философии до Кеплера и Галилея. Чисто логическое мышление не могло принести нам никакого знания эмпирического мира ...Именно потому, что Галилей сознавал-это, и особенно потому, что он внушал эту истину ученым, он является отцом современной физики и, фактически, современного естествознания вообще»2; — метризация и операционализация, внедрившие в знание понятия числа и величины и положили начало образованию точной науки; использование количественных методов анализа, расчета, обработки и оценки эмпирических данных, которые хорошо математически моделируются, поддаются квантитативизации (относительно этого Бор писал: «Галилеева программа, согласно которой описание физических явлений должно опираться на величины, имеющие количественную меру, дала прочную основу для упорядочения данных во все более и более широкой области»3); утверждение гипотетико-де-дуктивной архитектоники естественно-научного знания (физика принципов), которая обес
| 1 Бернал Д. Наука в истории общества. М, 1956. С. 276. |
печивала формулировку количественно детализируемых и опытно опробуемых положений; — кристаллизация необходимых семантических структур для установления в качестве доминирующего механического миропонимания: замена сверхъестественных индивидуализирующих объяснений через «скрытые качества», ответственные за частные свойства и поведение изучаемых явлений, на естественные объяснения через использование «материи» и «движения», позволяющие истолковывать существо явлений на основе общего принципа механического взаимодействия вещества с веществом; упрочение программы корпускуляризма (атомизм Галилея, Хэриота, Хилла, Гассенди, Гоббса; сформировалось учение о частицах Декарта, Бойля, Зеннер-та), т. е. концепции составимости действительности из мельчайших материальных образований; утверждение в качестве фундаментальных смыслообразующих категорий мышления математически выразимых и представимых «размера» (протяженности) и «перемещения» (относительного движения). В итоге: «была создана последовательная методология эксперимента и математического анализа, последовательный метод, с помощью которого можно было рано или поздно взяться за решение любой проблемы. Основы науки могли быть позднее пересмотрены и изменены, однако воздвигнутое на них сооружение было прочным. И, что еще важнее, общий метод для построения его был теперь известен и уже не подвергался угрозе быть когда-либо снова забытым»!.
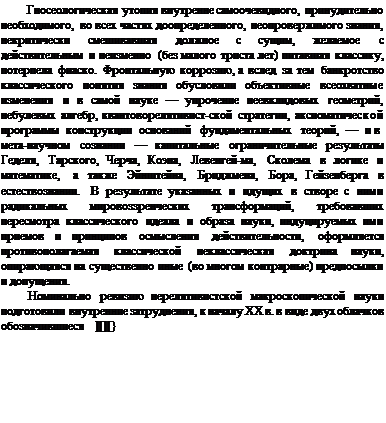
Глава S
НЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА
на ясном небосклоне почивавшей на лаврах, казалось бы, несокрушимой классики.
Это отрицательный результат опыта Майкельсона и сложности в объяснении спектра абсолютно черного тела. Усилия преодолеть данные сложности, собственно, и породили то новое в познавательной сфере, что именуется неклассикой.
В едва ли не всеобъемлющую механическую картину мира, рассчитанную на относительно малые скорости, не упаковывался электромагнетизм, имеющий дело со скоростями значительными. Внутренняя логика концептуализации явлений, скорость движения которых сравнима со скоростью света, привела к созданию релятивистской физики, использующей существенно иную сетку понятий (замена дальнодействия близкодействием, замена принципа относительности Галилея принципом относительности Эйнштейна, релятивизация пространственно-временных отношений и т. д.). Параллельно «ультрафиолетовая катастрофа» обнаружила предел применимости классических понятий (разбаланс теории и эмпирии в определении спектрального распределения энергии черного тела в особенности ультрафиолетовой части спектра и спектра более высоких волновых частот), поставила перед необходимостью различения процессов в макро- и микромире, учета специфики поведения микрообъектов. Адекватная модель, связанная с отказом от классической непрерывности и вводящая понятие порционного (дискретного) изменения энергии по закону излучения Планка, означала возникновение принципиально неклассического квантово-механического описания. Откуда вытекает, что непосредственные точки поворота от классики к неклассике — релятивистская и квантовая теории. В качестве констанции сказанное справедливо, но не настолько, чтобы исчерпать существо дела.
Переход от классики к неклассике — нечто неизмеримо большее, нежели включение в наукооборот постоянных «с» и «h», разграничивающих масштабы природы как предметы освоения предыдущего и последующего знания. Неклассику от классики отделяет пропасть, мировоззренческий, общекультурный барь-
Глава 5. Нвкдассичвская наука
ер, несовместность качества мысли. Замещение классики неклассикой поэтому основательнее понимать в смысле повсеместного и интенсивного реформистского процесса тектонического порядка, который, отбирая из тогдашней духовной среды созвучные ему далеко идущие параметры, шквалом обрушился на традицию и смял ее, утвердил на ее обломках причудливый, неведомый тип ментальности. С целью демонстрации этого обратим внимание на исходные стилеобразую-щие слагаемые неклассики, для чего в множестве содержательно инспирировавших ее факторов в качестве доминант обособим следующие идейные линии.
Психоанализ. В контексте нашего изложения интересен тремя моментами. Первый — мотив непрозрачности субъективного, признание наличия в нем затемнений, пустот, уплотнений, требующих специализированной рефлексии. Антитрансценденталистские психоаналитические трактовки субъективного привнесли перспективные модуляции в звучание гносеологической партии интерсубъективности: последняя стала расцениваться не как общее и само собой разумеющееся место, не как средство, но как цель. В условиях отсутствия антропологически очевидного, во всех точках высвеченного субъекта проблема интерсубъективного породила глубокую методологическую тему познавательного консенсуса: какова техника его достижения? Нетрудно увидеть, что именно погружение в эту тему индуцировало внедрение в арсенал поиска нетрадиционных верификационистских, операционали-стских, инструменталистских идей, соображений в духе теории когеренций. Второй — мотив синкретичности психического, рассматриваемого в психоанализе в трехмерном пространстве с динамическими, энергетическими, структурными осями (идеи многоуровневое™, целостности, комплексности явлений). Третий — мотив общих психических механизмов символизации и кодификации (идея инвариантов в способах фиксации информации — принципы симметрии, теоретико-групповые, логико-алгебраические подходы).
Психологизм. Питает неклассику: а) представлением психологически очевидного, достигаемого в результате генетически-конструктивных и операциональных процедур (интуиционизм, ультраинтуиционизм, конструктивизм, финитизм, операционализм); б) понятием непосредственно наблюдаемого (принцип наблюдаемости); в) идеей объективности (интерсубъективности) субъективных познавательных образов, которая обусловливается способом их варьирования, компоновки (релятивистские императивы альтернативных, эквивалентных описаний, концептуальный плюрализм).
Феноменология. Созвучна неклассике подчеркиванием возможности конструирования и конституи-рования действительности из субъективной спонтанности (абстрактное моделирование, интенсивная тео-ретизация).
Персонализм. Важен доктриной личности как самотворящей стихии. Изначальное отрицание монизма и панлогизма на фоне допущения множественности субъективных потенциалов навевает противостоящий классике образ полнокровно переживающего субъекта — носителя конкретных (не среднестатистических, омассовленных) способностей. Идеология самодеятельности познавателя не только разрушает модель зеркального копирования действительности, но мощным потоком вводит в эпистемологию умонастроение активизма: индивид как сгусток воли, цели, интереса самостийно творит законы, привносит стандарты в природу; мир человека — арена бытия, а не мир бытия — арена человека (конкретность, вышеупомянутые релятивистские и активистские императивы).
Модернизм. Для перспектив неклассики значим подчеркнутостью отхода от наглядности, духом эпатажа, борьбой с устоявшимся, склонностью к допущению новых типов реальности, опорой на условность, экспериментаторство. Идейные силовые линии модерна и неклассики совпадают буквально: интенции на ревизию вечных истин, релятивизацию стандартов, экзистенциализацию ситуаций, увязывание истины с субъективным взглядом на мир, признание уникальности личностного видения, самоценности избранных систем отсчета (неопределенность, локальность, момен-тализм), отрицание зеркальности, прямолинейности вектора от реальности к ее изображению и пониманию; идея самовыражения — обусловленная новыми задачами индивида установка не на внешний, а на внутренний мир (роль субъекта в познании, акцент объективно-идеальных ракурсов знания); сюрреализа-ция действительности — сращение реального и нереального в ее (действительности) изобразительных реконструкциях.
Анархизм и волюнтаризм. Поставляют клише человека-бунтаря, восстающего против косной массы, —■ релятивизация норм, индивидуализация ценностей, ставка на нетрадиционность, подрыв универсалий, абсолютов, канонов.
Прагматизм. Привносит стереотипы инструментальное™, эффективности, свободы поиска, волеизъявления (неклассичность истины, активность познава-теля).
Связав эти разнокалиберные особенное™ идейных предтеч неклассики в систему, возможно подытожить, что в архетипе духовности начала нашего века заложены столь многозначительные для грядущих судеб знания идиомы, как новаторство, ревизия, самоутверждение, пикировка с традицией, экспериментаторство, нестандартность, условность, отход от визуальное™, концептуализм, символичность, измененная стратегия изобразительности.
В этой во всех отношениях стимулирующей смыс-ложизненной среде смогла сложиться нетрадиционная интеллектуальная перспектива с множеством неканонических показателей. Вбирающие принципиальные черты неклассического миропредставления, они достойны того, чтобы сосредоточить на них самое пристальное внимание.
Полифундаментальность. Развал монистического субстанциализма с принятием образа целостной, мно-гоуровнево-системной реальности. По сути речь идет о нетрадиционном антифундаменталистском мирови-дении, отправляющемся от идеи гетерогенной, полиморфной, сложной (несложенной) предметности, которая ни структурно, ни генетически не опосредуется какими-то базовыми комплексами, трактуемыми как
моноцентричный онтологический первофундамент. Учитывая, что разнообразие не вторично, не производив, не порождено более глубоким единосущностно-единым, допускать подобный фундамент нет никаких резонов. Логичнее, последовательнее модель субстанциального плюрализма, навевающего картину исходно богатой, ипостасной реальности, способной на самоорганизацию, автоэволюцию.
Интегратизм. Ипостасная структура мира, вытесняющая классический фундаментализм с догмами типа: сложное аддитивно, механически редуцируется к простому; целое не влияет на части; в расчленении сложного (целого) на составляющие (простое, части) свойства его сохраняются и т. д. В противовес этому принимается не отягощенная фундаменталистским дизайном схема многомерной, поливариантной действительности, где целое и часть самодостаточны: целое не агрегат разрозненных, недоразвитых относительно него частей; часть не миниатюра целого.
Целое и часть (система и подсистема) нераздельны и неслиянны, будучи ипостасями, обладают самостояньем, суверенностью, они единосущны, однопоряд-ковы, не редуцируемы, но проникаемы друг в друга. Здесь правильно указать на отвергаемую неклассикой фундаменталистскую онтологию точечности (вводящую допущения «деление вещества безгранично», «целое больше части», «часть несамодостаточна» и т. п.). Факт образования элементарных частиц друг из друга (нуклона из пионов и т. д.) опровергает фундаменталистскую модель онтологически неограниченной дробности (безостаточной разложимости целого на части), жесткой субординированности объектов действительности. Самокоординированные элементарные частицы напрямую выпадают (идея единого мультиплета) из этой плоской модели, что служит решающим основанием ее дискредитации.
Синергизм. Классическая наука имела дело с миром, который с известной долей условности все же мог моделироваться как совокупность движущихся материальных точек (корпускул, конкреций, атомов, амеров, какуменов и т. д.), механически ассоциируемых в телесные многообразия. С расширением границ изучаемой реальности, необходимостью понимать внутреннее устройство активных, избирательных, целеориентиро-ванных систем (когерентные квантовые, молекулярные, биохимические, биофизические явления), свойства которых определяются текущими в них процессами (самоиндукция, самодействие), обнажился предел классических подходов. Самоорганизующиеся, неравновесные, нестационарные, открытые, каталитические системы ни при каких обстоятельствах не ведут себя как классические элементарные. Теоретическим плацдармом их описания ни в коем случае не могут быть классически базовые принципы сложенности (принцип Анаксагора —Демокрита) и механистичности (принцип Кеплера). Потребовалась, следовательно, иная эвристика, выступающая адекватным инструментом истолкования когерентных, кооперативных явлений. Ею стал синергизм, трактующий образование макроскопически упорядоченных структур в нетривиальных (немеханических) системах с позиций формирования порядка из хаоса вследствие коллективных эффектов согласования множества подсистем на основе нелинейных, неравновесных упорядочивающих процессов. С этим пришел конец элементаристско-фундаменталистской онтологии механицизма с обслуживающим ее категориальным блоком — стабильность, неизменность, постоянство, линейность, равновесность, обратимость, устойчивость, простота и т. д. На ее развалинах утвердилась организмическая картина, зиждущаяся на допущении совокупных эффектов самоорганизации, конструктивной роли времени, динамической нестабильности систем — категориальный блок, составленный неустойчивостью, неравновесностью, сложностью, нелинейностью, когерентностью, необратимостью, синхронностью, изменчивостью и т. д. Трансформировалось и понятие элементарности. Неклассическое его прочтение таково: оно, во-первых, не инспирирующее фундаментальное, а минимальное, остающееся зачастую равнодостойным композиционному и служащее его полномочным выражением; во-вторых, вопреки классическому аддитивно-матрешечному, оно обеспе-
чивает генетически-конструктивную интерпретацию явлений посредством отслеживания этапов становления, взаимодействия одних структур с другими (метод квазичастиц).
Холизм. Антифундаменталистский, антиредукционистский интеллектуальный блок, предопределяющий интерпретацию действительности как иерархию целостностей. В подобных случаях руководствуются планами: 1) кооперативной самоизменчивости — квантовая когерентная синхронизация изменений (квантовые процессы в лазерах); 2) гетерогенных многомерных структур, каждая им которых представляет самодетерминируемый инвариант в вариантах, —тот же нейтрон как кооперативное образование трех кварков осмысливается на базе соображений системности, динамичности, взаимосвязанностн коллективов, ответственных за итоговую структуру.
Антисозерцательность (оперативно-деятельнос-тное начало). Деятельностный подход в виде ориентации не на репродукцию заданных структур, а на преобразование внешней человеку действительности сам по себе не является чем-то новым: его упрочение в истории относится ко времени Реформации. Нам же принципиально то, что сферы влияния деятельнос-тного подхода, складывавшегося в рамках классической фазы новоевропейской культуры как критическое преодоление лишенного интенции на широкий социальный активизм схоластического средневековья, охватывали лишь область общественно-политической жизни (становление гражданского общества), не захватывая науку. Этим и объясняется такая черта классики, как антидеятельностная антисубъективность, предполагающая прямолинейное вытеснение из контекста исследования (фиксация и генерация результатов) субъективной деятельности. На стадии же неклассики субъект, поисково-изыскательское оснащение оказываются имманентно вплетенными в самую ткань науки — постановку, решение обсуждаемых ею вопросов.
Парадигма классической науки с узаконенным в ней объектным стилем мышления нацеливала на по-
Глава 5. Нвкдассичвская наука
знавательное освоение предмета, так сказать, самого по себе в его натуралистичной естественности и непосредственности. Последнее означало некритическую абсолютизацию «природного процесса», выделяемого безотносительно к условиям его изучения, что влекло повсеместную элиминацию из науки субъективной деятельности, игнорирование роли средств исследовательского воздействия на объект познания. Между тем стратегия герметичности объективного предмета никак и ничем не оправдана.
| 1 Бор И. Избранные научные труды. Т. 2. М, 1972. С. 31. |
Изоляционистская посылка отделения поведения материального объекта от его изучения, пренебрежение взаимодействием между объектом и прибором обнаруживает фиктивность со стадии атомной физики, поставляющей нестандартную ситуацию, где способом актуализации предметности оказывается взаимодействие объекта с познающим субъектом. С этого момента в методологическое сознание вводится запрет на объективистскую трактовку характеристик предметности «самой по себе» без учета способов ее освоения. «Согласно квантовому постулату, —уточняет Бор, — всякое наблюдение атомных явлений включает такое взаимодействие последних со средствами наблюдения, которым нельзя пренебречь. Соответственно этому невозможно приписать самостоятельную реальность в обычном физическом смысле ни явлению, ни средствам наблюдения»1. Поскольку невозможно исключить внешнее воздействие на предмет в ходе его изучения (иначе оно невозможно), равно как благодаря тому, что при изучении (наблюдении) имеется взаимодействие объекта с измерительным прибором, обессмысливается понятие исконного естественного процесса в чистом виде. По этой причине неклассика (от естествоведения до культурове-дения) отвергает объективизм как идеологию, отбрасывает представление реальности как чего-то не зависящего от средств ее познания, субъективного фактора.
Релятивизм. Внедряет, закрепляет в знании идею естественного предела значений как величин, так и способов их фиксации. Как умонастроение релятивизм питается двумя источниками.
Первый — онтологический, связан с зависимостью объективных характеристик предметности от фактических условий протекания реальных процессов: в различных контекстах существования свойства вещей варьируются. Данное с классической точки зрения необычное обстоятельство, вызвавшее массу недоумений и недоразумений, вновь и вновь оттеняет полифундаментальность, многослойность мира, имеющего плюральную структуру, которая определяет и предопределяет изменчивость его параметров. Тезису об изменчивости свойств действительности должно придавать самую широкую редакцию: вариабельны не только характеристики вещей (величины), но и формы, способы, условия бытия вещности, — даже наиболее универсальные, такие, как причинно-следственная размерность. Скажем: аксиоматично, что во времениподобных интервалах стандартного макромира причинно-следственные связи общезначимы. В микромире же при сильных полях и градиентах полей причинно-следственная схематика событий нарушается — так называемое самообусловливание, что требует разграничения причинно выполненных и причинно нарушенных интервалов.
Второй — эпистемологический, заключается в дискриминации выделенных (привилегированных) систем отсчета. Привилегированная система отсчета — неоперациональная, спекулятивная химера, возникающая вследствие принятия всеобъемлюще-неизменных рамок событий (вездесущего просцениума) в отвлечении от возможных обстоятельств, обратных воздействий, порядка и типа приближения. В противовес этому отстаивается линия зависимости аппарата науки (описания, понятия, величины) от конкретных систем отсчета, связанных с определенными онтологическими интервалами, сообщающими операциональную и семантическую значимость используемым абстракциям. Положению о релятивности знания в эпистемологическом смысле также требуется сообщать максимально широкое толкование. Знание не безотносительно, оно интенционально, сцеплено с приемами мыслительной и экспериментальной обработки действительности, процедурами идентификации объектов, правилами их интерпретации, систематизации и т. д. Онтологическая и ментальная региональность знания в конечном счете и выражают то, что именуют относительностью к реальности и средствам познания (понятийная и опытная интервальность— изоморфная контекстам реальности адекватность, точность, строгость знания).
| 1 Планк М. Сборник к столетию со дня рождения. М, 1958. С. 59. |
В качестве специфической черты неклассики релятивизм, безусловно, поддерживающий плюрализм, свободу выбора, действия (эквивалентные описания согласно принимаемым в локальных системах отсчета способам типологизации реальности), не может быть, однако, отождествлен с субъективизмом. Релятивизм не есть гносеологический анархизм, отрицание обязательности познавательных норм, объективных критериев правильности, состоятельности познания; он не исключает признания абсолютов. Как указывает Планк, «нет большего заблуждения, чем бессмысленное выражение «все относительно»... Без предпосылки существования абсолютных величин вообще не может быть определено ниодно понятие, не может быть построена ни одна теория»1. Перцептуальные и концептуальные абсолюты входят в знание через эпистемологические универсалии — законы освоения предметности: на эмпирическом уровне — посредством инструменталистских, верификационистских методик, рецептов манипулирования с объектами, метрического, функционального плана понятий; на теоретическом уровне — посредством структурных правил преобразования, стандартизирующих генерацию внутренних единиц теории — инвариантность, симметрия, морфизмы, фундаментальные константы, ковариантность как гарантия непротиворечивого перехода от одних систем координат к другим.
Раздел I. Оснввныв зтаны развития вауки
Дополнительность. Являясь неизбежным следствием «противоречия между квантовым постулатом и разграничением объекта и средства наблюдения»,1 характеризует сознательное использование в исследованиях (наблюдение, описание) групп взаимоисключающих понятий: сосредоточение на одних факторах делает невозможным одновременное изучение других, — анализ их протекает в неидентичных условиях с признаками опытной несовместимости (волна-частица, импульс-координата). Как неклассический принцип дополнительность разрушает классическую идею зеркально-однозначного соответствия мысли реальности безотносительно к способам ее (реальности) эпистемической локализации, символизирует имеющееся в неклассической науке существенное ограничение категории объективно существующего явления в смысле независимости его от способов его освоения. Фиксированные системы отсчета, пригодные для описания совершенно конкретных параметров (скажем, энергетических), не пригодны для описания иных (скажем, пространственно-временных). Следовательно, дополнительность выражает не просто относительность к прибору как таковому, но относительность к разным типам приборов (исследовательских ситуаций).
| 1 Бор Н. Указ. соч. С. 40. |
Логика развития неклассической науки обусловливает и более широкое толкование дополнительности. Суть в том, что многоярусные, полифундаментальные вариабельные системы не концептуализируются с каких-то преимущественных позиций. Дополнительность с этой точки зрения — следствие полиморфно-сти, ипостасности, гетерогенности принимаемой онтологии с атрибутивной ей потенциальностью. Учет данного обстоятельства накладывает отпечаток на трактовку взаимоотношения различных исследовательских программ и подходов. Классическая точка зрения определяется проведением гносеологического изоморфизма: единой и единственной сущности взаимосоответствует единая и единственная истина. С точки зрения неклассики подобная линия не проходит: различные ракурсы видения системы не сводятся к одному-единственному ракурсу; неустранимая множественность, полилог взглядов на одну и ту же реальность означает невозможность божественного взгляда-обозрения всей реальности. Претендующая на глубину научная теория, фокусируясь в отдельных фрагментах на некоторых онтологических эпизодах, должна выстраивать общую мозаичную панораму событий, создаваемую на разных «сценических площадках» методом полиэкрана.
Когерентность. Означает синхронизированность различных и зачастую кажущихся несвязанными событий, которые налагаются друг на друга и оттого усиливают или ослабляют размерность собственного тока. Говоря о когерентности, вводящей новую модель причинения, подчеркнем специфически коллективный, во многом несиловой и творческий строй детерминации изучаемых неклассикой явлений, понимаемых как результирующая объемных самоиндуцируемых кооперативных связей, дающих начало новым процессам. Это не классическая схема пересечения необходимо-стей в объяснении наблюдаемых реалий, а модель самоформирования макроскопических масштабов событий из внутренней потенциальности (эффекты системных связей, способных на коллективную самоиндукцию, резонансное самодействие).
Нелинейность. Классические допущения параметрической стабильности изменяющихся систем, независимости их свойств от происходящих в них процессов предельно сильны и неполноценны.
Чем регулируется естественный ток вещей? Согласно классике — строго однозначными зависимостями. Случайность, неопределенность, вероятность исключались из рассмотрения. По Гольбаху, например, «ничего в природе не может произойти случайно, все следует определенным законам; эти законы являются лишь необходимой связью определенных следствий с их причинами... Говорить о случайном сцеплении атомов либо приписывать некоторые следствия случайности — значит говорить о неведении законов, по которым тела действуют, встречаются, соединяются... разъединяются» 1.
Описание реальной изменчивости производилось по канонической механической модели: аппарат динамики (уравнения движения) с фиксацией начальных условий для установленного момента времени,— вот все, что требуется для исчерпывающего воссоздания поведения любой развивающейся системы. Столь ограниченный подход, однако, не дает глубокой концептуализации развития; мир классики — тавтологический, атемпоральный (Пригожий) — чужд внутренней созидательности.
| 1 Гольбах П. Избранные антирелигиозные произведения. Т. 1. М, 1934. С. 34-35. 2 Пригожим И., Стэнгерс И. Цит. соч. С. 55 — 56. |
Серьезный положительный сдвиг связан с неклассической трактовкой объективного формообразования. Векторизованность, качественная изменчивость организации явлений не плод задетерминированности, предзаданности. В соответствии с неклассической идеей конструктивной роли случая становление новых форм происходит в неустойчивых к флуктуациям точках бифуркации, дающих начало очередным эволюционным рядам. Избирательные, чувствительные к собственной истории, адаптационные механизмы порождения этих рядов носят нелинейный характер. В сильно неравновесных точках бифуркации, указывают Пригожий и Стэнгерс, «установлено весьма важное и неожиданное свойство материи: впредь физика с полным основанием может описывать структуры как формы адаптации системы к внешним условиям. Со своего рода механизмом предбиологической адаптации мы встречаемся в простейших химических системах. На несколько антропоморфном языке можно сказать, что в состоянии равновесия материя «слепа», тогда как в сильно неравновесных условиях она обретает способность воспринимать различия во внешнем мире (например, слабые гравитационные и электрические поля) и «учитывать» их в своем функционировании»2. Здесь-то
Глава 5. Нвкдассичвская наука
возникают и проявляются когерентные, кооперативные, синергетические, принципиально нелинейные эффекты, связанные с авторегуляцией, самодействием на базе «присвоения» фрагментов мира, перевода внешнего во внутреннее с соответствующим его преобразованием. Адекватную канву понимания подобных эффектов поставляет образ топологически неплоских морфизмов.
Топосы. Классическая наука трактовала мир как совокупность материальных точек, что на теоретико-множественном языке выражалось моделью элементарных множеств. (С этих позиций Канторова теория —определенное абстрактное подытоживание классической парадигмы, отвергающей внутреннюю изменчивость, избирательность, адаптивность, вариабельность, математическим аналогом которых выступает не множество, а функция, отображение, — понятия, трудно выразимые в теоретико-множественных терминах). С топологической точки зрения этот классический подход фундируется идеей плоских морфизмов, соответственно организующих следующие друг за другом динамические состояния материальных объектов. Порядок подобной организации задается двумя допущениями: возможностью строгого выделения в процессе частей и целого и недеформируемостью при отображениях их исходного статуса (часть остается частью, целое — целым, внешнее не переходит во внутреннее). Откуда вытекает принципиально линейный характер зависимостей, базирующихся на топологически плоских морфизмах. Коль скоро неклассика подвергает анализу явления, не распадающиеся на точечные обозримо-предсказуемые состояния (процессы в черных дырах, синергетические эффекты каталитических явлений, турбулентность и др.), она принимает отличную от плоской модель движения материальных систем. Такова схема топосов — объектов с вариабельной топологией, где допускается «перемешивание» частей с целым, переход внешнего но внутреннее. Поскольку для описания поведения неклассических явлений апелляции к краевым условиям и аппарату динамики недостаточно — требуется учет типа строения, специфики изменения процесса применительно к случаю (точки бифуркации, ход онтогенеза, роль генома и т. д.), — производится индивидуализация (а не типизация) «отрезков» мировых линий, чему способствует образ локально (кванты, события) и глобально (события и их комплексы) неплоских морфизмов, варьирующих способы взаимоорганизации, взаимокомпоновки событий.
Симметрия. Обогащает арсенал работающего исследователя принципами теоретико-группового (логико-алгебраического) подхода. Значительный импульс последнему придал Клейн, ставивший задачу развития теории инвариантов группы по имеющемуся многообразию и данной в нем группе преобразований. В основе соображений Клейна (Эрлангенская программа) — идея детерминации качеств геометрических объектов правилами их задания: каждая геометрия определяется специфической группой преобразований пространства, причем лишь те свойства фигур изучаются данной геометрией, какие инвариантны относительно преобразований соответствующей группы. Проникновению абстрактных теоретико-групповых подходов в естествознание способствовала теорема Нетер, связавшая симметрии системы с законами сохранения (динамическими константами). В настоящий момент буквально все фундаментальные, насыщенные формализмом естественно-научные конструкции используют идею инвариантности параметров (величины, соотношения) относительно фиксированных групп преобразований. В чем значимость принципов симметрии для вершения знания?
На стадии неклассической науки мыслительная проработка явлений зачастую производится в обход эмпирических исследований (которые к тому же, как в физике элементарных частиц, общей теории относительности, космологии и т.д., не всегда возможны). Теоретический поиск опирается в таких случаях на сверхэмпирические регулятивы (простота, красота, сохранение, соответствие), к которым принадлежат и принципы симметрии. В современной науке «стараются угадать математический аппарат, оперирующий с величинами, о которых или о части которых заранее вообще не ясно, что они означают»1.
Справедливости ради надо сказать, что и классике не чужда вовсе тактика метода математической гипотезы, инкорпорирующего в предметную область гомологичные формализмы. Подобие метода модельных гипотез обнаруживается в творчестве Галилея (метод мысленного эксперимента) и Ньютона (метод принципов), к чему, однако, с подозрением относились Гюйгенс, Эйлер, Декарт, Лейбниц и другие, настаивавшие на непосредственном тождестве предмета и его модели и отправлявшиеся от догмы индуктивной извлекаемое™ теории из реальности (знание как прямая коагуляция опыта). В общем правильно утверждать, что в самосознании классической науки превалирует эмпирическая методология восхождения к истине, нацеливающая на индуктивное движение от ощущений через рационализацию и генерализацию данных к универсальным теоретическим постулатам. Поскольку концептуальные схемы науки как бы навеваются экспериментом, «разум в своем эмпирическом применении не нуждается в критике», ибо «его основоположения постоянно проверяются критерием опыта»2.
Если дело сводится лишь к восприятию и воспроизведению наблюдаемых состояний, то все прозрачно, никакая критика опыта действительно не нужна. Вероятно, по этой причине классическая наука не критична и не гносеологична: какой бы то ни было серьезной теории познания в ней нет.
| 1 Мандельштам Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике. М, 1972. С. 329. 2 Кант И. Соч. Т. 3. С. 591. |
Совершенно иная картина на стадии неклассики: отправной точкой становления теории оказываются здесь не операции абстрагирования и непосредственной генерализации наличного эмпирического материала (взятая на вооружение классикой теория абстракций классического философского эмпиризма, которая в свою очередь кристаллизовалась как обобщение исследовательского кредо ученых-классиков), а построение «безотносительно» к опыту концептуальных схем, организующих и направляющих понимание опытных данных. Даже в своих истоках неклассическая теория поэтому предстает не как логическая систематизация sense data, но как продукт синтетической понятийной деятельности со своими значимыми механизмами получения результатов.
Когда способом задания теоретических отношений является математика, когда объекты науки «концептуально вносятся в ситуацию как удобные промежуточные понятия... сравнимые гносеологически с богами Гомера»1, когда понятийная ясность уже не предшествует пониманию абстрактных структур и науке еще более трудно угадать их содержание, когда формой развития знания выступает модель, применяется особый вид абстрагирования и идеализации, удовлетворяющий условиям обобщения содержательных пластов мысле-деятельности на уровне формальных соображений, здесь и имеет место широкое использование групповых идей как базы теоретического воссоздания действительности через призму аналитически вводимых инвариантов известных, систем референции.
| Quine W. From a Logical Point of View. Cambr., 1953. P. 44. |
Проблема роли принципов симметрии (теоретико-групповых методов) в познании весьма обширна. Поэтому в соответствии со своими целями ограничимся акцептацией следующего. Симметрия (инвариантность) выступает разновидностью абстракции отождествления, позволяет отвлечься от несходного и связать в одном законе объекты и понятия, кажущиеся разобщенными. Это может быть «эквивалентность систем отсчета относительно преобразований пространства и времени (как в геометрических принципах инвариантности, связанных с группами пространственно-временных преобразований); либо состояний физической системы по отношению к преобразованиям фазового пространства; либо тождественность объектов, свойств, параметров систем относительно того или иного типа взаимодействий (как в динамических принципах, свя-
занных с отдельными видами взаимодействий)»1. Связывание несвязного (через равенство, тождество, эквивалентность) — мощный эвристический прием, пополняющий синтетические ресурсы теоретического разума. Использование симметрии позволяет:
а) оперировать объектами как теоретическими, а не
эмпирическими сущностями (группы калибровоч-
ных преобразований — заряды элементарных ча-
стиц);
б) производить классификацию объектов (по инвари-
антам) ;
в) моделировать возможности в ситуации дефицита
опытных данных (метод теории групп и инвариан-
тов в релятивистской физике);
г) выражать схему эксперимента (в случае, когда
«способ классификации предикатов теории высту-
пает одновременно способом классификации сис-
тем референции, в которых реализуется измере-
ние, соответствующих параметров теории»)2;
д) проводить оптимизацию (симплификацию) изуча-
емых объектов (группировка сильно взаимодей-
ствующих частиц в мультиплеты и супермультип-
леты);
с) целеориентировать поиск — возможный синтез космологии и квантовой механики (мега- и микромира) усматривается на пути нахождения новой симметрии;
ж)расширять теории, повышая их информативность, объединение электромагнитного и слабого взаимодействия, поиски объединения электро-слабого и сильного взаимодействия в рамках проекта единой теории поля;
з) предсказывать от номологических соображений —
предсказание Дираком е+ в отсутствии визуально-
эмпирических шлейфов;
и) выступать критерием отбора единиц знания —
факт невыполнения условий релятивистской инва-
1 Методы научного познания и физика. М., 1985. С. 207.
2 Теоретическое и эмпирическое в современном научном познании. С. 301.
риантности, трактуемый как достаточный для выбраковки модели квантованного пространства — времени в редакции Марха и Иваненко. Утрата наглядности. Имеет причиной такие обстоятельства.
1. Ответственные за рост знания операции расширяющего синтеза инспирируются в неклассике по преимуществу не обобщением массивов фактов, а математизацией, исключающей исходную содержательную, понятийную ясность, которая в классике предшествует полному пониманию математических структур.
2. Зачастую эфемерна возможность экспериментального опробования теории по опытно удостоверяемым «эффектам» (физика твердого тела, суперсимметричные теории поля).
3. Затруднено прямое наблюдение исследуемых свойств и состояний (физика высоких энергий, космология, квантовая теория поля).
4. Происходит взаимопроницаемость факта и теории с утратой способности непосредственного наблюдения элементов изучаемой реальности (резонансы).
5. Не введены достаточные критерии существования анализируемых явлений и тем самым не снят вопрос истинных структурных компонентов исследуемых сред (квазичастицы).
В данных ситуациях руководствуются неэмпирическими императивами, целеориентирующими поиск по вектору соблюдения требований простоты, красоты, когерентности, эвристичности, информативности и т. п. (тенденции ревизии принципа эквивалентности в ОТО, не удовлетворяющего «красоте» — будучи основоположением теории, он сам оказывается ее следствием; проблема «расходимостей» в квантовой механике как индикатор внутренней парадоксальности отдельных ее фрагментов).
Вопрос наглядности получает в неклассике трактовку через призму операций введения и исключения абстракций, где под исключением понимаются не предметные инкарнации понятий, а содержательные моде-
Глава 5. Нвклассичвская наука
ли. Таким образом, неклассическая наглядность — это не «механическое» и не «непосредственно наблюдаемое» (очевидное), а концептуально эксплицированное.
Отказ от определенности в доскональном смысле. Науке имманентны понятия точности и строгости, нацеливающие на включение в ее состав надежных результатов. Проблематика удовлетворительного, совершенного обоснования составляет предмет метаиссле-дований (теории доказательств), вырабатывающих правила построения, организации и оправдания регулируемых началом достаточного основания элементов науки. Доказательность и научность неразделимы, и корреляции между ними стимулируют саморефлективные процессы, связанные как с оценками наличных демонстраций, так и с практическим их усовершенствованием, — деятельность Больян, Лобачевского, Паша, Гильберта и др. по реорганизации геометрии; прецизионная деятельность в опытных науках — эксперименты Майкельсона, Морли, Миллера, Траутона, Нобла, Томашека, Чейза и др. по определению наличия абсолютного движения Земли относительно эфира; опыты Бесселя, Этвеша, Зеемана, Дикке и др. по доказательству принципа эквивалентности инертной и тяжелой масс и т. д.
В данных и подобных им случаях речь идет о поиске лучшего логического или эмпирического обоснования (увеличение порядка точности и строгости) знания. Между тем в классический период стремление к точности и строгости, извечно свойственное сознанию ученых, некритически гиперболизировалось: научным считалось лишь всесторонне обоснованное знание в некоем доскональном смысле (лапласовский идеал в методологии, навевающий кумулятивную модель ее развития: перспектива исследований усматривалась в обнаружении очередных десятичных знаков после запятой). Соответственно присутствие вероятности расценивалось как недостаточная обоснованность — гипотетичность, неугочненность, «неподлинность» единиц знания, которые в силу этого выдворялись из науки. С течением времени, однако, выяснилось, что абсолютная точность и строгость знания недостижимы.
Подобно большинству капитальных методологических категорий понятие точности и строгости внутренне дифференцировано. Различают метрическую, логическую и семантическую плоскости точности и строгости. С метрической точки зрения повышение точности и строгости знания не беспредельно: существуют пределы разрешающих возможностей используемой аппаратуры; кроме того, имеются квантовые ограничения в виде требований принципов неопределенности и дополнительности. С логической точки зрения в силу
а) ранее упоминавшихся ограничительных результатов
Геделя, Тарского, Черча, Коэна, Левенгейма, Сколема;
б) неясности причин дефектности оснований матема-
тики (актуальная бесконечность, закон исключенного
третьего, непредикативные определения, аксиома вы-
бора, континуум-гипотеза и т. д.); в) феномена рандо-
мизации; г) наличия некорректных задач; д) релятив-
ности понятия «приближенного решения» — надежды
на абсолютную точность и строгость знания лишены
смысла. Дело усугубляет семантическая точка зрения,
упирающая на реальность неформализуемых содержа-
тельных контекстов, вхождение в науку латентного
предпосылочного знания, обостряющая проблемы по-
нимания (невозможность исчерпывающего логико-ана-
литического прояснения «нетривиальных» конструк-
ций) и оттого не оставляющая шанса рассматриваемой
классической иллюзии.
Таким образом, абсолютная точность и строгость — очередной классический вымысел: с его развенчанием, крушением мифа доскональности знания в неклассике удовлетворяются признаками прагматичности, инструментальности, эффективности. Скажем, вера в добропорядочность математических аксиом (при глубоких сомнениях в абсолютной непогрешимости аксиоматических систем теории множеств Рассела, Церме-ло и др.) поддерживается ныне убеждением в значимости, а потому справедливости теорем. Как видно, производится инверсия первоначального идеала строгого доказательства, зиждущегося на признании надежности следствий, дедуцированных из надежных начал науки. Проблематика обоснования поэтому толкуется
Глзвз 5. Нешсшесш нзукз
в неклассике не как проблематика абсолютного доказательства, а как экспликация, — поиск не незыблемого гранита знания, а метода организации, систематизации, упорядочения результатов.
Поворот от «бытия» к «становлению». Суть дела и в ревизии традиционного принципа объектности (невозможность индивидуализации микрочастиц), и разрушении привычной дискретно-телесной интуиции реальности, и понимании неоднозначности онтологии вещности (данность объекта трансформируется и зависимости от процедурно-семантической базы исследований и не постулируется a priori), и в использовании процессуальных описаний (возникающие в лоне динамических моделей обратных связей понятия взаимовлияния, конструктивного самодействия, самоорганизации), но что гораздо более важно, — в переходе от науки «существующего» к науке «возникающего». Речь, таким образом, идет о беспрецедентном эпистемологическом феномене — появлении эволюционной науки.
Классическое знание «становление» исключает. Последнее обслуживает весьма развитый аппарат, образованный: законами сохранения (идея качественной стабильности вещей), принципами постоянства, цикличности, ритмичности (идея воспроизводимости «нетекущей» действительности), требованиями относительности, симметрии (идея инвариантности содержательных аспектов мышления относительно его формальных аспектов), отношениями тождества, эквивалентности, равенства, схемами стабильности, несамоизбыточнос-ти, непротиворечивости сущего и т. д. Осмысление мира как процесса изменяющейся историчной стихии (ввиду эмпирических интуиции «становления») было вынесено за рамки науки — в метафизику. Монополией на концептуализацию «становления» долгое время владела философия — многочисленные типы диалектики, динамический спиритуализм, эмерджентизм, доктрины органической целостности, историзма.
Постепенное проникновение и укоренение в познавательном дискурсе эволюционистских, историци-стских, организмических, телеономических категорий означало незаурядный поворот науки к «становлению». Когда же мысль подошла к пункту, обострившему звучания тем генетических оснований наличных законов (проблема статуса ФФК), вводимого из соображений радикальности значений ФФК для судеб нашего мира антропного принципа, модели Большого взрыва, нетрадиционных неорганических структур, неустойчивых к деформациям, нарушений симметрии в органическом универсуме (киральная чистота живого), невозможности объяснения тайны жизни с чисто вероятностной точки зрения (случайные процессы столкновения атомов, перебор мутантов), — когда мысль стимулировала появление в нашем культурном локале всех этих идейных комплексов, возникли зачатки новой версии науки — глобального эволюционизма, универсальной теории развития. Непосредственными слагаемыми ее в виде более или менее отработанных представлений являются:
1. Теория структур. Развитие есть череда стабильных фаз, устойчивых в некоторых интервалах к внешним и внутренним воздействиям-возмущениям. Теория структур (топологическое, когомологическое естествознание) ищет схему, устанавливающую природу фундаментальных физических законов на основе выделения универсальных групп симметрии. Симметрии, обусловливая трансверсальность (структурную устойчивость состояний систем), оказываются инструментом описания природы;
2. Модель вектора. Развитие есть последовательность переходов от одних устойчивых состояний к другим с изменением качества, уровней организации. Идея направленности развития, надо признать, наиболее непроясненное место в современном знании. Феноменологически она вводится трояко:
а) эмпирически — факты барионной асимметрии (кос-
мология), упоминавшаяся киральная чистота (асиммет-
рия правого и левого) живого (биология);
б) теоретически — реанимация номогенеза как исследо-
вательской программы. Номогенетические законы,
по-видимому, топологические, обеспечивают избира-
тельность, качественный, организационный прогресс
вследствие топологической чувствительности к упо-
рядоченности — предположение «предопределенности» ФФК, характеризуемой сильной редакцией АП (космология); номогенетический сценарий органической эволюции (биология); идея конструктивной самоорганизации с нарушением принципов суперпозиции, аддитивности причин и следствий; сомнения в обусловливающей однотипность законов однородности времени (допущение «выделенных» точек типа сингулярности) ;
в) метатеоретически — принятие телеономии: немеханический тип каузальности на базе организмичности, динамизма, целостности, автономности, асимметричности, открытости, избирательности, саморегуляции, функциональной оптимизации, самоусиления, поливариантности. Целесообразность — следствие самоорганизации, активного обмена веществом, энергией, информацией систем со средой: результат нарушения симметрии в череде переходов от исходных устойчивых состояний к последующим (через «катастрофические» скачки по синергетическим уровням). Хотя о фактическом оформлении глобального эволюционизма говорить рано — его полнокровное и полноценное состояние — синтез космогонии, антропого-нии и социогонии, что принадлежит будущему, — возможно фиксировать многообещающий поворот науки к «становлению», который не замедлил дать импульс новому типу знания.
Появление вычислительной науки (Computer Science). Моделирование поведения больших сложных систем в экстремальных ситуациях (волновые коллапсы, турбулентность) компьютерными методами по сути размывает традиционные границы экспериментальных и концептуальных исследований. Возникает нетрадиционный синтетический тип разработческой деятельности, именуемый машинной имитацией. Главными последствиями этого являются:
1) удаление от натурного эксперимента;
2) фактический переход на трудно воспроизводимый однократный, одноразовый эксперимент;
3) обострение проблемы выявления систематической ошибки в эксперименте; становится трудно реали-зовывать обычную практику описания экспериментальных процедур.
Интертеория. Неведомый классике тип строения знания, радикально исключающий «монополизм» из концептуальной сферы. Принимается каскадный принцип организации, проводящий исходно плюралистичную, пролиферационную установку: теория развертывается как пучок, сериал относительно самостоятельных моделей-описаний предметной области. Ставка делается не на конфронтацию, а координацию подходов, обеспечивающих объемное объективное видение, в частности, за счет перебора логически и фактически допустимых альтернатив (характерные дивергенции: в ОТО — метрическая и тетрадная формулировки; в физике элементарных частиц — дисперсионный, групповой, компенсационно-динамический подходы).
Претендуя на концептуальный абрис неклассики, сказанное позволяет судить о ней как о весьма цельном, однородном пласте духовности., подготовленном глубокими идейными процессами на рубеже XIX — первой четверти XX в. Реальная незавершенность интеллектуальной фазы неклассики не позволяет предметно решать вопрос датировок: известно лишь место и время старта, однако покрыто тайной место и время финиша. И все же, используя экстраполяцию, возможно обойти план хроники, переведя обсуждение в интенсивно теоретическую плоскость.
Преодолевая некритические догмы классики, неклассика тем не менее не порывает с ней вовсе. Непосредственная, явная связь между ними просматривается в части толкования предназначения знания. И классика и неклассика сходятся в одном: задача науки — раскрытие природы бытия, постижение истины. Замыкаясь на натуралистическом отношении «познание — мир», «знание — описание реальности», они одинаково отстраняются от аксиологических отношений «познание — ценность», «знание -— предписание реальности». Обоснованием выделения и обособления неонеклассического этапа выступает, следовательно, фактор ценности: сосредоточение на вопросе понимания не того, «что есть» (истина о мире), а того, что должно быть (потребный проект мира).
Неонешссш
В ситуации превращения знания в орудие, рукотворную планетарную силу, возникает вопрос цены, жизнеобеспечения истины. Человек подходит к распутью, что важнее: знание о мире или знание деятельности в мире. В свете данных идей радикализуется утверждение: «центр перспективы —человек, одновременно и центр конструирования универсума»1-
Неклассическая цепочка «знание — реальность» трансформируется в неонеклассическое кольцо «реальное знание и его человеческий потенциал в онаучиваемой реальности». Натуралистические гео- и ге-лиоцентризации уступают место аксиологической ан-тропоцентризации: высшим кредо постижения мира предстает не эпистемологический (знание — цель), а антропный принцип: знание — средство, при любых обстоятельствах познавательная экспансия должна получать гуманитарное, родовое оправдание. Подобная нетривиальная постановка обостряет проблему взаимоотношения знания и цели, истины и ценности, еще более разобщая неонеклассику с классикой и неклассикой. Остановимся на этом подробнее.
Классика и неклассика функционировали как знания — отображения, ориентированные на постижение свойств мира. Неонеклассика, у истоков которой мы пребываем, будет функционировать как знание — инструмент, ориентированный на утверждение нас в мире. Раньше вожделением познания было знание бытия, с настоящего момента и далее радикализуется знание перспектив творения бытия, отвечающего нашим запросам.
Таким образом, очевиден сдвиг с субстанциализма на креативизм, с онтологии на телеологию, который (сдвиг) оправдывается встройкой в знание новых преобладающих тенденций. В их числе упомянем:
Синкретизм. Из принципиальных глобальных движений человечества по упрочению перспектив рода, получению ясных гарантий выживания ставится задача сознательного созидания бытия, обеспечивающего
Шарден Т. Феномен человека. М., 1987. С. 38.
будущую историю. В таком ракурсе интенции фундаментальной науки на получение достоверного знания изначально увязываются с интенциями прикладной науки на получение социально работоспособного утилизуемого знания. В основе координации этих интенций— понимание подчиненности науки (органона) общечеловеческой логике пролонгирования цивилиза-ционно базовых поставляющих процессов. По ходу проектирования бытия в творческой деятельности с намерением получать оптимальные результаты нет иного пути, как сообразовываться с гуманитарно высокими образцами, согласующими знание и ценности, истину и идеалы, этику и технологию. Неонеклассичес-кая наука, следовательно, есть воплощение гетевского сочетания Unum, Bonum, Verum.
Телеономия. Классика и неклассика различали механическую и целевую причины. От Аристотеля, Лейбница, идеологов Просвещения красной нитью идет линия на вытеснение цели из контекста знания. Дело доходило до курьезного выхолащивания личности в рационалистической дидактике, толкующей человека как чистый продукт обстоятельств. Оттого — дихотомии механической науки — свободно-целевой духовности, физики — метафизики, знания — этики, мира природы — мира свободы, естествоведения — культу-роведения, сферы сущего — сферы должного, объяснения — понимания, истины — ценности.
С неонеклассической фазы, однако, знания и ценности перестают противостоять друг другу. Чтобы понять это, довольно погрузиться в следующие проблемы: наука занята поиском истины, но олицетворяет ли истина высшее и конечное предназначение человечества? Научное знание нейтрально относительно его последующей утилизации, но нейтрально (безразлично) ли человечество относительно социальной техники, запущенной на базе научного знания? Наука не просто познает мир, она познает его для человека, ибо мир без человека ничто, — в этой связи, — так ли уж внутренние инициативы науки отрешены от жизненных (внешних) реалий?
Непредвзятое осмысление этих и связанных с ними проблем обязывает лишить науку самодовлеюще-
Глава 5. Нвкдаесичвская нзра
го статуса: вершение науки не цель, а средство самоутверждения человечества. Отсюда правильно отвести науке подобающее место, поместив ее в отличающийся большей самодостаточностью ценностный контекст. Принимая во внимание, что наука, как задним числом знаем, потенциально в состоянии 1) обслуживать далекие от интересов истины предприятия; 2) представлять угрозу для существования человека и человечества; 3) инициировать столкновение человеческих воль с вероятностью одиозных исходов, — она не может функционировать в режиме автономного спонтанного действия. Необходима иерархия ценностей, расставляющая приоритеты с позиций учета коренных целей человечества как рода. Учет же последних, что очевидно, никогда не свяжет ни с истиной, ни с наукой того, что является наиважнейшим.
Как бы там ни было, сказанное требует тщательного обсуждения, тематизации на уровне развернутой методологии и теории. Но прошлая наука себя этим не утруждает, что, разумеется, чревато как близоруким сциентизмом, технократизмом, так и некритическим рассогласованием способа исследования вещно-нату-ралистического, где ценностно-оценочное устраняется, и экзистенциально-жизненного, где ценностно-оценочное при всем желании устраниться не может. /Логический финал такого подхода — гносеологический дуализм: объективизм в освоении вещно-физичес-кого и субъективизм в освоении экзистенциально-жизненного, дробление познания на науку и гуманистику со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Возможность их снятия — в новом взгляде на природу ценностей, перспектива которого вырисовывается за рамками традиционной модели «наука — действительность» в пределах нетрадиционной модели «наука — очеловеченная действительность». В последнем случае истолковывание вещно-физического уже не может дистанцироваться от экзистенциально-жизненного, истина и ценность перестают быть разобщенными.
Традиционная трактовка «целесообразности» как характеристики деятельности и ее объективации (культура, общество, история) себя исчерпала. На деле целесообразность это — идущий от человека активный поток привнесения в мир человеческих обстоятельств. Антропосфера утрачивает модус онтологии истории: она приобретает модус онтологии природной жизни. Отсюда оправданность постановки антропоморфной определенности мира, целесообразно-смыслового начала, пронизывающего и пропитывающего мир. Подходящим ресурсом тематизации этого начала, аппаратом, приспособленным к рефлексии новых реалий, оказывается аппарат герменевтики. Отныне познать мир, возникший как материализация человеческих целей, означает раскрыть предназначение, побуждение человека.
Новая рациональность. Классика и неклассика строились как дианойа: знание — беспристрастный логико-понятийный анализ реальности — либо как эпи-стема: знание, согласованное с внутренними канонами рационального анализа реальности (стандарты экспериментального и логического доказательства). В нашей ситуации, когда мир взвешивается ценностями, антиаксиологизм или узкий формально-рациональный аксиологизм чреват катастрофой.
Для классики и неклассики бытие бессмысленно, интерпретируемо в терминах когитальиой прагматики: техногенное естествознание объясняет и ухилизу-ет. Для неонеклассики бытие как сгусток ценностно-целевых инкарнаций осмысленно: воспринимаемо через призму оптимальных путей выживания, т. е. тех идеалов гуманитарных констант, абсолютов, которые пролонгируют вершение родовой истории.
Для допускающих финализацию деятельности классики и неклассики апофеоз науки — законосообразная истина. Потому рационально то, что ведет к ней. Такая финализация для неонеклассики кощунственна: поскольку контрапункт — целесообразная жизнь, выживание, рационально то, что ведет к ним. Неонеклас-сика, таким образом, вводит иную идеологию рациональности, которая кратко определяется как гуманитарный антропоморфизм.
Глава 5. Нвклзссичеекая наука
р Словарь ключевых терминов___________________
Античная наука — причудливый сплав сугубо научных интенций на фундаментальность, имперсональность, концептуальное моделирование с установками незрелого эмпиризма. Апология первых — в творчестве Пифагора, стоиков, элеатов, Платона, развивавших картину бытия-логоса, подпадающего под умо-зрение. Платон, как известно, рекомендовал подходить к вещам средствами одной мысли, не привлекая никаких чувств и пытаясь уловить подробности бытия самого по себе, во всей его чистоте, отрешившись как можно полнее от собственных глаз, ушей, всего своего тела. Апология вторых — в трудах Аристотеля, настаивавшего на опытной природе знания: обладание отвлеченным знанием в отсутствии опыта, познание общего без представления содержащего в нем единичного влечет ошибки, ибо дело приходится иметь с единичным.
Архаика — рецептурно-эмпирическое, утилитарно-технологическое знание, функционировавшее как набор индуктивных генерализаций и прикладных навыков. Эти примитивные познавательные формы, конечно, не были наукой. Они не были систематичными, теорийно-номологически-ми. Наука упрщается с фундаментально систематическим законосообразным дискурсом. Если исходить из того, что минимум науки — это выведенный в пространстве идеализации закон, то можно констатировать: архаичные культуры (Майя, Китай, Египет, Индия, Ближний Восток) науки не знали.
Архаичное знание древнего мира — преддверие науки. Не выражая подлинных законов, оно вместе с тем ориентировало на выявление, постижение столь существенных для процесса наукообразования связей, как каузальные. Индуктивные генерализации, в конце концов, приводят к установлению импликативных отношений «если... то», что оказывается удаленной предтечей закона. Технические навыки, имеющие нормативно-инструктивный статус (организующие деятельность субъекта с объектом, в чем сказывается отличие знания-технологии от знания-созерцания) эффективны при опоре на подленные (сущносто необходимые)отношения действительности, а потому складываются на основе вычленения последних. Это способствует прогрессу типично научной установки на раскрытие, воспроизведение законообразных черт мира. В историческом времени данный гносеологический процесс совпадает с расцветом древневосточной культуры.
Древневосточная наука — знания на Древнем Востоке, которые вырабатывались с помощью популярных индуктивных обобщений непосредственного практического опыта и циркулировали в социуме по принципу наследственного профессионализма. Процессы изменения знания протекали стихийно; отсутствовала критико-рефлексивная деятельность по оценке генезиса познавательных результатов, их принятие осуществлялось на бездоказательной догматической основе в обход критического испытания; знание функционировало как набор готовых рецептов деятельности, что вытекало из его утилитарного, практико-технологического характера. Исторический тип познавательной деятельности, сложившийся на Древнем Востоке, соответствует в целом донаучной стадии развития интеллекта и собственно научным еще не является.
Классическая наука — специфическое состояние научного интеллекта, реализовавшееся как главенствующее умонастроение на масштабном историко-культурным ареале от Галилея до Пуанкаре. Эвристическое начало типических особенностей теоретизирования (способы постановки проблем, приемы исследования, описание предметных областей, характер обоснования выводов, формы подачи, изложения, фиксации результатов) на классической фазе развития науки составляли: фундаментализм, финализм, имперсональность, абсолютизм, наивный реализм, субстанциальность, динамизм, сумматизм, эссенциализм, аналитизм, механицизм, кумулятизм.
Неклассическая наука — идейные предтечи неклассики — многозначительные идиомы в архетипе духовности начала XX в. — такие как новаторство, ревизия, пикировка с традицией, экспериментаторство, нестандартности, условности, отход от визуальности, концептуализм, символичное гь, измененная стратегия изобразительности. В данной, во всех отношениях стимулирующей смысложизненной среде сложилась нетрадиционная интеллектуальная перспектива с множеством неканонических показателей. В их числе: гю-лифундаментализм, интергратизм, синергизм, холизм, дополнительность, релятивизм, нелинейность, когерентность, утрата наглядности, интертеоретичность.
Неонеклассическая наука — в отличие от классики и неклассики, функционировавших как знания-отображения существенных свойств мира, неонеклассика, у истоков которой мы находимся, функционирует как знание-инструмент, орентированное на утверждение человека в мире. Раньше целью познания считалось знание бытия, с настоящего мо-
Глава 5. Некласснческая наука
мента в качестве такой цели все более утверждается знание перспектив творения бытия, отвечающего нашим запросам. Таким образом, в неонеклассике очевиден сдвиг с суб-станциолизма на креативизм, с онтологии на телеологию, который оправдывается встройкой в знание новых преобладающих тенденций. В их числе: синкретизм — увязывание интенции фундаментальной науки на получение достоверного знания с интенциями прикладной науки на получение социально работоспособного утилизуемого знания; теле-ономия — вскрытие антропоморфной определенности мира, целесообразно-смыслового начала, пронизывающего и пропитывающего мир; новая рациональность — бытие-сгусток ценностно-целевых воплощений, воспринимаемый через призму оптимальных путей выживания. Разделяемая классикой гносеологическая утопия внутренне самоочевидного, принудительно-необходимого, во всех частях до определенного, неопровержимого знания потерпела фиаско. Фронтальную коррозию, а вслед за тем банкротство классического идеала знания обусловили объективные всеохватные изменения как в предметном поле науки (создание неэвклидовой геометрии, небулевых алгебр, кван-тово-реалятивисткихпостроенийидр.), такив ееметодо-логии (ограничительные результаты Геделя, Тарского, Черча, Коэна, Левенгейма, Сколема, Бриджмена, Бора, Гейзенберга). Синтез спекуляции и эмпиризма обусловил возникновение специфического типа науки в Античности: с одной стороны, гносеологическим стандартам научности математики, а с другой —до научного (в отсутствии квантитативизации, проверочного эксперимента) — на-турфилософско-мифологического естествознания. Средневековая наука — характерные черты средневековой мысли, как схоластическое теоретизирование, герметизм, символизм, иерхаизм, авторитаризм, консерватизм, традиционализм, ретроспектиность, дидактизм, талмудизм, телеологизм, универсализм, созерцательность, квалитати-визм, мистицизм, эссенциализм, фундаментализм, исключили возможность удовлетворяющего высоким гносеологическим ценностям знания в принципе. Верно отметил в свое время Кондорсе, в Средневековье «речь шла не об исследовании сущности какого-либо принципа, но о толковании, обсуждении, отрицании или подтверждении другими текстами тех, на которые он опирался. Положение принималось не потому, что оно было истинным, но потому, что оно было написано в такой-то книге и было принято в такой-то стране и с такого-то века. Таким образом, авторитет людей заменял всюду авторитет разума. Книги изучались гораздо более природы и воззрения древних лучше, чем явления Вселенной».
1 Вопросы для обсуждения______________________
1. Миф, преднаука, наука.
2. Особенности древневосточной преднауки.
3. Возникновение науки в Древней Греции: социально-исторические условия и особенности.
4. Социально-исторические предпосылки и специфические черты средневековой науки.
5. Социально-исторические условия возникновения новоевропейской науки.
6. Сущностные черты классической науки.
7. Неклассическая наука и ее особенности.
8. Основные тенденции формирования науки будущего.
| Литература___________________
БерналАж. Наука в истории общества. М., 1956. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII — XVIII вв.). М., 1987.
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. М., 1980.
Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к естествознанию). Ростов н/Д, 1992.
Ильин В.В. Философия и история науки. М., 2006.
Косарева A.M. Социокультурный генезис науки: философский аспект проблемы. М., 1989.
Кузнецова Н.И. Наука в ее истории. М., 1982.
Купцов В.И., Девятова СВ. Естествознание в контексте мировой истории. М., 2003.
Лебедев СЛ. Современная философия науки. М, 2007.
Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. 1-3. М., 1933-1934.
Принципы историографии естествознания. М., 1993.
Степин B.C. Философия науки. Общие проблемы. М.,
РАЗДЕЛ II
СТРУКТУРА, МЕТОДЫ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
УРОВНИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Одной из главных философских тем в исследовании науки является вопрос об общей структуре научного знания. Традиционно принято выделять в этой структуре два основных уровня: эмпирический и теоретический.
Всякое научное знание есть результат деятельности рациональной ступени сознания (мышления) и потому всегда дано в форме понятийного дискурса. Это относится не только к теоретическому, но и к эмпирическому уровням научного знания. На это обстоятельство обратил внимание В.А. Смирнов, указав на необходимость различения оппозиций «чувственное —■ рациональное» и «эмпирическое — теоретическое». Противоположность чувственного и рационального знания есть общегносеологическое различение сознания, фиксирующее, с одной стороны, результаты познавательной деятельности органов чувств (ощущения, восприятия, представления), а с другой — деятельности мышления (понятия, суждения, умозаключения). Оппозиция же «эмпирическое—теоретическое» есть различение уже внутри рационального знания. Это означает, что сами по себе чувственные данные, сколь бы многочисленными и адаптивно-существенными они ни были, научным знанием еще не являются. В полной мере это относится и к данным научного наблюдения и эксперимента, пока они не получили определенной мыслительной обработки и не представлены в языковой форме (в виде совокупности терминов и предложений эмпирического языка некоторой науки). Необходимо подчеркнуть, что научное знание — это результат деятельности предметного сознания. В отношении эмпирического познания это достаточно очевидно, ибо оно представляет собой взаимодействие сознания с чувственно воспринимаемыми предметами. Но столь же предметен (правда, идеально-предметен) и теоретический уровень познания. С другой стороны, важно отметить, что возможности и границы эмпирического познания детерминированы операциональными возможностями свойствами такой ступени рационального познания, как рассудок. Деятельность последнего заключается в применении к материалу чувственных данных таких операций, как абстрагирование, анализ, сравнение, обобщение, индукция, выдвижение гипотез эмпирических законов, дедуктивное выведение из них проверяемых следствий, их обоснование или опровержение и т. д.
Для понимания природы эмпирического знания важно различать по крайней мере три качественно различных типа предметов: 1) вещи сами по себе («объекты»); 2) их представление (репрезентация) в чувственных данных («чувственные объекты»),'"3) эмпирические (абстрактные) объекты. Формирование сознанием содержания «чувственных объектов» на основе его сенсорных контактов с «вещами в себе» существенно зависит от многих факторов. Прежде всего, конечно, от содержания самих познаваемых объектов. Но, с другой стороны, как это доказано в психологии восприятия, также от целевой установки исследования (практической или чисто познавательной) . Это относится к любому виду познания, не только научному, но и обыденному и др. Целевая установка выполняет роль своеобразного фильтра, механизма отбора важной, значимой для «Я» информации, получаемой в процессе воздействия объекта на чувственные анализаторы. В этом смысле верно утверждение, что «чувственные объекты» — результат «видения» сознанием «вещей в себе», а не просто «смотрения» на них. Тот же самый процесс фильтрации сознанием внешней информации имеет место и на уровне эмпирического познания, который приводит к формированию абстрактных (эмпирических объектов). Разница лишь в том, что количество фильтров, а тем самым активность и конструктивность сознания на этом уровне резко возрастает. Такими фильтрами на эмпирическом уровне научного познания являются: а) познавательная и практическая установка; б) операциональные возможности мышления (рассудка); в) требования языка; г) накопленный запас эмпирического знания; д) интерпретативный потенциал существующих научных теорий. Эмпирическое знание может быть определено как множество высказываний об абстрактных эмпирических объектах. Только опосредованно, часто через длинную цепь идентификаций и интерпретаций, оно является знанием об объективной действительности («вещах в себе»). Отсюда следует, что было бы большой гносеологической ошибкой видеть в эмпирическом знании непосредственное описание объективной действительности. Например, когда ученый смотрит на показания амперметра и записывает в своем отчете: «Сила тока равна 5 ампер», он вовсе не имеет в виду описание непосредственного наблюдения «черная стрелка прибора остановилась около цифры 5». Результатом его протокольной записи является именно определенная интерпретация непосредственного наблюдения, предполагающая, между прочим, знание некоторой теории, на основе которой был создан данный прибор.
| Структура змпирического знания
При всей близости содержания чувственного и эмпирического знания благодаря различию их онтологии и качественному различию форм их существования (в одном случае — множество чувственных образов, а в другом — множество эмпирических высказываний) , между ними не может иметь место отношение логической выводимости одного из другого. Это означает, что эмпирическое знание неверно понимать как логическое обобщение данных наблюдения и эксперимента. Между ними существует другой тип отношения: 141 логическое моделирование (репрезентация) чувственно данных в некотором языке. Эмпирическое знание всегда является определенной понятийно-дискурсной моделью чувственного знания.
Необходимо отметить, что само эмпирическое знание имеет довольно сложную структуру, состоящую из четырех уровней. Первичным, простейшим уровнем эмпирического знания являются единичные эмпирические высказывания (с квантором существования или без), так называемые «протокольныепредложения». Их содержанием является дискурсная фиксация результатов единичных наблюдений; при составлении таких протоколов фиксируется точное время и место наблюдения.
Как известно, наука — это в высшей степени целенаправленная и организованная когнитивная деятельность. Наблюдения и эксперименты осуществляются в ней отнюдь не случайно, бессистемно, а в подавляющем большинстве случаев вполне целенаправленно: для подтверждения или опровержения какой-то идеи, гипотезы. Поэтому говорить о «чистых», незаинтересованных, немотивированных, неангажированных какой-либо «теорией» наблюдениях и, соответственно, протоколах наблюдения в развитой науке не приходится. Для современной философии науки — это очевидное положение. Вторым, более высоким уровнем эмпирического знания являются факты. Научные факты представляют собой индуктивные обобщения протоколов, это — обязательно общие утверждения статистического или универсального характера. Они утверждают отсутствие или наличие некоторых событий, свойств, отношений в исследуемой предметной области и их интенсивность (количественную определенность). Их символическими представлениями являются графики, диаграммы, таблицы, классификации, математические модели.
Третьим, еще более высоким уровнем эмпирического знания являются эмпирические законы различных видов (функциональные, причинные, структурные, динамические, статистические и т. д.). Научные законы — это особый вид отношений между событиями, состояниями или свойствами, для которых характерно временное или пространственное постоянство (мерность). Так же как и факты, законы имеют характер общих (универсальных или статистических) высказываний с квантором общности: Vx(a(x)ob(x)). («Все тела при нагревании расширяются», «Все металлы — электропроводный, «Все планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам» и т. д. и т. п.) Научные эмпирические законы (как и факты) являются общими гипотезами, полученными путем различных процедур: индукции через перечисление, элиминативной индукции, индукции как обратной дедукции, подтверждающей индукции. Индуктивное восхождение от частного к общему, как правило, является в целом неоднозначной процедурой и способно дать в заключении только предположительное, вероятностное знание. Поэтому эмпирическое знание по своей природе является в принципе гипотетическим. В отношении естественных наук эту особенность четко зафиксировал в свое время Ф. Энгельс: «Формой развития естествознания, поскольку оно мыслит, является гипотеза».
Наконец, самым общим, четвертым уровнем существования эмпирического научного знания являются феноменологические теории. Они представляют собой логически организованное множество соответствующих эмпирических законов и фактов (феноменологическая термодинамика, небесная механика Кеплера и др.). Являясь высшей формой логической организации эмпирического знания, феноменологические теории, тем не менее, и по характеру своего происхождения, и по возможностям обоснования остаются гипотетическим, предположительным знанием. И это связано с тем, что индукция, т. е. обоснование общего знания с помощью частного (данных наблюдения и эксперимента) не имеет доказательной логической силы, а в лучшем случае — только подтверждающую.
Различия между уровнями внутри эмпирического знания являются скорее количественными, чем качественными, так как отличаются лишь степенью общности представления одного и того же содержания (знания о чувственно-наблюдаемом). Отличие же эмпирического знания от теоретического является уже качественным, то есть предполагающим их отнесенность к существенно разным по происхождению и свойствам объектам (онтологиям). Можно сказать, что различие между эмпирическим и теоретическим знанием является даже более глубоким, чем различие между чувственным и эмпирическим знанием.
| Структура научной теории
Теоретическое знание есть результат деятельности не рассудка, а такой конструктивной части сознания как разум. Как справедливо подчеркивает B.C. Швырев, деятельность разума направлена не во вне сознания, не на его контакт с внешним бытием, а внутрь сознания, на имманентное развертывание своего собственного содержания. Сущность деятельности разума может быть определена как свободное когнитивное творчество, самодостаточное в себе и для себя. Наряду с интеллектуальной интуицией основной логической операцией теоретического мышления является идеализация, целью и результатом которой является создание (конструирование) особого типа предметов — так называемых «идеальных объектов». Мир (множество) такого рода объектов и образует собственную онтологическую основу (базис) теоретического научного знания в отличие от эмпирического знания.
Научная теория — это логически организованное множество высказываний о некотором классе идеальных объектов, их свойствах и отношениях. Эта мысль была с свое время подробно и убедительно раскрыта в книге Б.С. Грязнова, Б.С. Дынина, Е.Н. Никитина «Теория и ее объект». Геометрическая точка, линия, плоскость и т. д. — в математике; инерция, абсолютное пространство и время, абсолютно упругая, несжимаемая жидкость, математический маятник, абсолютно черное тело и т. д. — в физике; страты общества, общественно-экономическая формация, цивилизация и др. — в социологии; логическое мышление, логическое доказательство и т. д. — в логике и т. д.
Как создаются идеальные объекты в науке и чем они отличаются от абстрактных эмпирических объектов? Обычно идеализация трактуется только как предельный переход от фиксируемых в опыте свойств эмпирических объектов к крайним логически возможным значениям их интенсивности (0 или 1) (геометрическая точка — нуль — размерность пространственного измерения эмпирических объектов по мере уменьшения их размера, линия — бесконечный непрерывный континуум последовательности (соседства) геометрических точек, абсолютное черное тело — объект, способный полностью (100%) поглощать падающую на него световую энергию и т. д.). Что характерно для таких предельных переходов при создании идеальных объектов? Три существенных момента. Первый: исходным пунктом движения мысли является эмпирический объект, его определенные свойства и отношения. Второй: само мысленное движение заключается в количественном усилении степени интенсивности «наблюдаемого» свойства до максимально возможного предельного значения. Третий, самый главный момент: в результате такого, казалось бы, чисто количественного изменения, мышление создает качественно новый (чисто мысленный) объект, который обладает свойствами, которые уже принципиально не могут быть наблюдаемы (безразмерность точек, абсолютная прямизна и однородность прямой линии, актуально бесконечные множества, капиталистическая или рабовладельческая общественно-экономическая формация в чистом виде, Сознание и Бытие философии и т. д. и т. п.). Известный финский математик Р. Неванлинна, отмечая это обстоятельство, подчеркивал, что идеальные объекты конструируются из эмпирических объектов пугем добавления к последним таких новых свойств, которые делают идеальные объекты принципиально ненаблюдаемыми и имманентными элементами сферы мышления.
Наряду с операцией предельного перехода, в науке существует другой способ конструирования идеальных, чисто мысленных объектов — введение их по определению. Этот способ конструирования идеальных объектов получил распространение в основном в математике, частично — в теоретической (математической) физике, да и то на довольно поздних этапах их развития (введение иррациональных и комплексных чисел при решении алгебраических уравнений, разного рода объектов в топологии, функциональном анализе, математической логике, теоретической лингвистике, физике элементарных частиц и т. д.). Особенно интенсивно данный способ введения идеальных объектов и, соответственно, развития теоретического знания стал применяться после принятия научным сообществом неевклидовых геометрий в качестве полноценных математических теорий. Освобожденная от необходимости обоснования эмпирического происхождения своих объектов математика совершила колоссальный рывок в своем развитии за последние сто пятьдесят лет. Когда современную математику определяют как науку «об абстрактных структурах» (Н. Бурбаки) или «о возможных мирах», то имеют в виду именно то, что ее предметом являются идеализированные объекты, вводимые математическим мышлением по определению.
Говоря о методах теоретического научного познания, необходимо, наряду с идеализацией, иметь в виду также мысленный эксперимент, математическую гипотезу, теоретическое моделирование, аксиоматический и генетическо-конструктивный метод логической организации теоретического знания и построения научных теорий, метод формализации и др.
Для любого теоретического конструкта, начиная от отдельной идеализации («чистой сущности») и кончая конкретной теорией (логически организованной системы «чистых сущностей»), имеется два способа обоснования их объективного характера. А. Эйнштейн назвал их «внешним» и «внутренним» оправданием научной теории. Внешнее оправдание продуктов разума состоит в требовании их практической полезности, в частности, возможности их эмпирического применения. Это, так сказать, прагматическая оценка их ценности и одновременно вместе с тем своеобразное ограничение абсолютной свободы разума. Данное требование особо акцентировано и разработано в философских концепциях эмпиризма и прагматизма. Другим способом оправдания идеальных объектов является их способность быть средством внутреннего совершенствования, логической гармонизации и роста теоретического мира, эффективного решения имеющихся теоретических проблем и постановки новых. Так, введение Л. Больцманом представления об идеальном газе как о хаотически движущейся совокупности независимых атомов, представляющих собой абсолютно упругие шарики, позволило не только достаточно легко объяснить с единых позиций все основные законы феноменологической термодинамики, но и предложить статистическую трактовку ее второго начала — закона непрерывного роста энтропии в замкнутых термодинамических системах. Введение создателем теории множеств Г. Кантором понятия «актуально бесконечных множеств» позволило построить весьма общую математическую теорию, с позиций которой удалось проинтерпретировать основные понятия всех главных разделов математики (арифметики, алгебры, анализа и др.).
Зачем вводятся в науку идеальные объекты? Насколько они необходимы для ее успешного функционирования и развития? Нельзя ли обойтись в науке только эмпирическим знанием, которое более всего и используется непосредственно на практике? В свое времени в весьма четкой форме эти вопросы поставил известный австрийский историк науки и философ Э. Мах. Он считал, что главной целью научных теорий является их способность экономно репрезентировать всю имеющуюся эмпирическую информацию об определенной предметной области. Способом реализации данной цели, согласно Маху, построение таких логических моделей эмпирии, когда из относительно небольшого числа допущений выводилось бы максимально большое число эмпирически проверяемых следствий. Введение идеальных объектов и является той платой, которую мышлению приходится заплатить за эффективное выполнение указанной выше цели. Как справедливо полагал Мах, это вызвано тем, что в самой объективной действительности никаких формально-логических взаимосвязей между ее законами, свойствами и отношениями не существует.
Логические отношения могут иметь место только в сфере сознания, мышления между понятиями и суждениями. Логические модели действительности с необходимостью требуют определенного ее упрощения, схематизации, идеализации, введения целого ряда понятий, которые имеют не объектно-содержательный, а чисто инструментальный характер. Их основное предназначение — способствовать созданию целостных, логических организованных теоретических систем. Главным же достоинством последних по Маху является то, что представленная в них в снятом виде эмпирическая информация защищена от потерь, удобно хранится, транслируется в культуре, является достаточно обозримой и хорошо усваивается в процессе обучения.
Сформулированному Махом инструментами стско-му взгляду на природу идеальных объектов и научных теорий противостоит в философии науки эссенциали-стская интерпретация. Согласно последней, идеальные объекты и научные теории также описывают мир, но сущностный, тогда как эмпирическое знание имеет дело с миром явлений. Как эссенциалистекая, так и ин-струменталистическая интерпретации теоретического знания имеют достаточное число сторонников и в философии науки, и среди крупных ученых. Поднятая в них проблема онтологического статуса теоретического знания столь же значима, сколь и далека от своего консенсуального решения.
1 Соотношение эмпирии и теории________________
Любое удовлетворительное решение данной проблемы должно заключаться в непротиворечивом совмещении двух утверждений: 1) признании качественного различия между эмпирическим и теоретическим знанием в науке и 2) признании взаимосвязи между ними, включая объяснение механизма этой взаимосвязи. Прежде чем перейти к решению данной проблемы, еще раз зафиксируем содержание понятий «эмпирическое» и «теоретическое». Эмпирическое знание суть множество высказываний (не обязательно логически связанных между собой) об эмпирических объектах. Теоретическое знание суть множество высказываний (как правило организованных в логически взаимосвязанную систему) об идеальных объектах. Если источником содержания эмпирического знания является информация об объективной реальности, получаемая через наблюдения и экспериментирование с ней, то основой содержания теоретического знания является информация об идеальных объектах, являющихся продуктами конструктивной деятельности мышления.
Необходимо подчеркнуть, что после своего создания теоретический мир в целом (как и любой его элемент) приобретает объективный статус: он становится для сотворившего его сознания предметной данностью, с которой необходимо считаться и сверять свои последующие шаги; он имеет внутренний потенциал своего развития, свои более простые, более естественные и более сложные, более искусственные траектории движения и эволюции. Основными факторами сознания, контролирующими изменение содержания эмпирического знания, являются наблюдение и эксперимент. Основными же факторами сознания, контролирующие ми изменение содержания теоретического знания, являются интеллектуальная интуиция и логика. Контроль сознания за содержанием и определенностью теоретического знания является значительно более сильным, чем за содержанием и определенностью эмпирического знания. И это связано с тем, что содержание теоретического знания является имманентным продуктом самого сознания, тогда как содержание эмпирического знания лишь частично зависит от сознания, а частично — от независимой от него (и являющейся всегда тайной для него) материальной реальности.
Таким образом, теоретическое и эмпирическое знание имеют совершенно различные онтологии: мир мысленных, идеальных конструктов («чистых сущностей») в первом случае и мир эмпирических предметов, принципиально наблюдаемых, во втором. Существовать в теоретическом мире — значит быть определенной, непротиворечивой, предметной единицей мира рационального мышления. Существовать в эмпирическом мире — значит иметь такое предметное содержание, которое принципиально наблюдаемо и многократно воспроизводимо. Из перечисленных выше качественных различий между содержанием эмпирического и теоретического знания следует, что между ними не существует логического моста, что одно непосредственно не выводимо из другого. Методологически неверным является утверждение, что научные теории выводятся из эмпирического опыта, являются логическими (индуктивными) обобщениями последнего. Научные теории не выводятся логически из эмпирического знания, а конструируются и надстраиваются над ним для выполнения определенных функций (понимание, объяснение, предсказание). Создаются же они благодаря творческой деятельности разума. Методологически неверным является также бытующее представление, что из научных теорий можно непосредственно вывести эмпирически проверяемые следствия. Из научных теорий могут быть логически выведены только теоретические же (как правило, частные и единичные) следствия, которые, правда, уже внелогическим путем могут быть идентифицированы с определенными эмпирическими высказываниями.
Схематически взаимосвязь между теоретическим (Т) и эмпирическим знанием (Э) может быть изображена следующим образом:
Ао |— Тео |— ао = ео, J
где Ао — аксиомы, принципы, наиболее общие теоретичес-
кие законы; |---------- знак логического следования; Тео —
частные теоретические законы; ао — единичные теоретические следствия; ео — эмпирические утверждения; = — обозначение внелогической процедуры идентификации (J) ао и ео.
О чем эта схема говорит? Прежде всего о том, что теоретическое знание является сложной структурой,
Глава 1. Уровни научного знании
состоящей из утверждений разной степени общности. Наиболее общий уровень — аксиомы, теоретические законы. Например, для классической механики это три закона Ньютона (инерции; взаимосвязи силы, массы и ускорения; равенства сил действия и противодействия). Механика Ньютона — это теоретическое знание, описывающее законы движения такого идеального объекта, как материальная точка, осуществляющегося при полном отсутствии трения, в математическом пространстве с евклидовой метрикой. Вторым, менее общим уровнем научной теории являются частные теоретические законы, описывающие структуру, свойства и поведение идеальных объектов, сконструированных из исходных идеальных объектов. Для классической механики это, например, законы движения идеального маятника. Как показал в своих работах B.C. Степин, частные теоретические законы, строго говоря, не выводятся чисто логически (автоматически) из общих. Они получаются в ходе осмысления результатов мысленного эксперимента над идеальными объектами, сконструированными из элементов исходной, «общей теоретической схемы». Третий, наименее общий уровень развитой научной теории состоит из частных, единичных теоретических высказываний, утверждающих нечто о конкретных во времени и пространстве состояниях, свойствах, отношениях некоторых идеальных объектов. Например, таким утверждением в кинематике Ньютона может быть следующее: «Если к материальной точке К1 применить силу F1, то через время Т1 она будет находиться на расстоянии L1 от места приложения к ней указанной силы». Единичные теоретические утверждения логически дедуктивно выводятся из частных и общих теоретических законов путем подстановки на место переменных, фигурирующих в законах, некоторых конкретных величин из области значений переменной.
Важно подчеркнуть, что с эмпирическим знанием могут сравниваться не общие и частные теоретические законы, а только их единичные следствия после их эмпирической интерпретации и идентификации (отождествления) с соответствующими эмпирическим высназываниями. Последние же, как отмечалось выше, идентифицируются в свою очередь с определенным набором чувственных данных.
Только таким, весьма сложным путем (через массу «посредников») опыт и теория вообще могут быть сравнены на предмет соответствия друг другу. Идентификация (=) же теоретических и эмпирических терминов и соответствующих им идеальных и эмпирических объектов осуществляется с помощью идентификационных предложений, в которых утверждается определенное тождество значений конкретных терминов эмпирического и теоретического языка. Такие предложения называются также «интерпретационными», «правилами соответствия» или «редукционными предложениями» (Р. Карнап). Некоторые примеры интерпретационных предложений: «материальные точки суть планеты Солнечной системы» (небесная механика), «евклидова прямая суть луч света» (оптика), «разбе-гание галактик суть эффект Доплера» (астрономия) и т. д. и т. п.
Какова природа интерпретационных предложений? Как показал Р. Карнап, несмотря на то, что общий вид этих высказываний имеет логическую форму «А есть В», они отнюдь не являются суждениями, а суть определения. А любые определения — это условные соглашения о значении терминов и к ним не применима характеристика истинности и ложности. Они могут быть лишь эффективными или неэффективными, удобными или неудобными, полезными или бесполезными. Одним словом, интерпретативные предложения имеют инструментальный характер, их задача — быть связующим звеном («мостом») между теорией и эмпирией. Хотя интерпретативные предложения конвенциональны, они отнюдь не произвольны, поскольку всегда являются элементами некоторой конкретной языковой системы, термины которой взаимосвязаны и ограничивают возможные значения друг друга.
Очевидно, что любая эмпирическая интерпретация некоторой теории всегда неполна по отношению к собственному содержанию последней, так как всегда имеется возможность предложить новую интерпретацию любой теории, расширив тем самым сферу ее применимости. Вся история математики, теоретического естествознания и социальных теорий дает многочисленные тому подтверждения. Любое, сколь угодно большое число интерпретаций теории не способно полностью исчерпать ее содержание. Это говорит о принципиальной несводимости теории к эмпирии, о самодостаточности теоретического мира и его относительной независимости от эмпирического мира.
Важно подчеркнуть особый статус интерпретатив-ных предложений, которые не являются ни чисто теоретическими, ни чисто эмпирическими высказываниями, а чем-то промежуточным между ними. Они включают в свой состав как эмпирические, так и теоретические термины. Интерпретативное знание являет собой пример когнитивного образования кентаврового типа, выступая относительно самостоятельным звеном в пространстве научного знания. Не имея собственной онтологии, интерпретативное знание является лишь инструментальным посредником между теорией и эмпирией. Его самостоятельность и особая роль в структуре научного знания была по-настоящему осознана лишь в XX веке. Этому способствовал, с одной стороны, рост абстрактности теоретического знания, сопровождавшийся неизбежной потерей его наглядности. С другой — расширение и пролиферация сферы эмпирической применимости научных теорий.
Учет самостоятельной роли интепретативного знания в структуре научного знания приводит к необходимости более тонкого понимания процедур подтверждения и опровержения научных теорий опытом. В общем виде схема взаимосвязи теории и опыта может быть символически записана следующим образом: Т1 + И |— Е1, где Т1 — проверяемая на опыте теория,
II — ее эмпирическая интерпретация, |----------------------- операция
логического следования, Е1 — эмпирические следствия из системы «Т1 4- II». Рассмотрим возможные варианты действия по этой схеме. Первый. Допустим, что в результате сопоставления Е1 с данными наблюдения и эксперимента установлена истинность высказывания Е1. Что отсюда следует? Только то, что система «Т1 4- II» в целом, возможно, истинна, ибо из истинности следствий логически не следует истинность посылок, из которых они были выведены (это элементарный закон дедуктивной логики). Более того, согласно определению материальной импликации, являющейся формальной моделью отношения выводимости, следует, что истинные высказывания могут быть получены и из ложных посылок. Примером может служить элементарный правильный силлогизм: «Все тигры — травоядные. Все травоядные — хищники. Следовательно, все тигры — хищники». Таким образом, строго логически истинность эмпирических следствий теории не только не служит доказательством истинности теорий, но даже — подтверждением ее истинности. Конечно, если заранее допустить (предположить) истинность теории, тогда независимое установление (например, с помощью эмпирического опыта) истинности выведенных из них следствий подтверждает (хотя и не доказывает) сделанное допущение об истинности теории. Важно также подчеркнуть, что установление истинности Е1 подтверждает не истинность Т1 самой себе, а только истинность всей системы «Т1 + II» в целом. Таким образом, не только доказательство, но даже подтверждение опытом истинности теории самой по себе (т. е. взятой отдельно от присоединенной к ней интерпретации) — невозможно. Рассмотрим второй вариант. Установлена ложность Е1. Что отсюда следует с логической необходимостью? Только ложность всей системы «Т1 + II» в целом, но отнюдь не ложность именно Т1. Ложной (неудачной, некорректной) может быть объявлена как раз ее конкретная эмпирическая интерпретация (II) и тем самым ограничена сфера предполагавшейся эмпирической применимости теории. Таким образом, опыт не доказывает однозначно и ложность теории. Общий вывод: теория проверяется на опыте всегда не сама по себе, а только вместе с присоединенной к ней эмпирической интерпретацией, а потому ни согласие этой системы с данными опыта, ни противоречие с ними не способно однозначно ни подтвердить, ни опровергнуть теорию саму по себе. Следствие: проблема истинности теории не может быть решена только пу-
Глава 1. Уровни нарргр знания
тем ее сопоставления с опытом. Ее решение требует дополнительных средств и, в частности, привлечения более общих — метатеоретических предпосылок и оснований научного познания.
| Метатворетический уровень научного знания
Кроме эмпирического и теоретического уровней в структуре научного знания необходимо артикулировать наличие третьего, более общего по сравнению с ними — метатеоретического уровня науки. Он состоит из двух основных подуровней: 1) общенаучного знания и 2) философских оснований науки. Какова природа каждого из этих подуровней метатеоретического научного знания и их функции? Как они связаны с рассмотренными выше теоретическим и эмпирическим уровнями научного знания?
Общенаучное знание состоит из следующих элементов: 1) частнонаучная и общенаучная картины мира, 2) частнонаучные и общенаучные гносеологические, методологические, логические и аксиологические принципы. Особо важное значение метатеоретический уровень знания играет в таком классе наук, как логико-математические. Показателем этой важности является то, что он оформился в этих науках даже в виде самостоятельных дисциплин: метаматематика и металоги-ка. Предметом последних является исследование математических и логических теорий для решения проблем их непротиворечивости, полноты, независимости аксиом, доказательности, конструктивности. В естественно-научных и в социально-гуманитарных дисциплинах метатеоретический уровень существует в виде соответствующих частнонаучных и общенаучных принципов. Необходимо подчеркнуть, что в современной науке не существует какого-то единого по содержанию, одинакового для всех научных дисциплин метатеоретического знания. Последнее всегда конкретизировано и в существенной степени «привязано» к особенностям научных теорий. Частнонаучная картина мира — это совокупность господствующих в какой-либо науке представлений о мире. Как правило, ее основу составляют онтологические принципы парадигмальной для данной науки теории. Например, основу физической картины мира классического естествознания образуют следующие онтологические принципы:
1) объективная реальность имеет дискретный характер; она состоит из отдельных тел, между которыми имеет место взаимодействие с помощью некоторых сил (притяжение, отталкивание и т. д.);
2) все изменения в реальности управляются законами, имеющими строго однозначный характер;
3) все процессы протекают в абсолютном пространстве и времени, свойства которых никак не зависят ни от содержания этих процессов, ни от выбора системы отсчета для их описания;
4) все воздействия одного-тела на другое передаются мгновенно;
5) необходимость первична, случайность вторична; случайность — лишь проявление необходимости в определенных взаимодействиях (точка пересечения независимых причинных рядов), во всех остальных ситуациях «случайность» понимается как мера незнания «истинного положения дел». Большинство из этих принципов непосредственно
входит в структуру механики Ньютона. Основу биологической картины мира классического естествознания составляла дарвиновская теория эволюции видов на основе механизма естественного отбора, включавшего в себя в качестве существенного свойства случайность.
Какова роль частнонаучной картины мира в структуре научного знания? Она задает и санкционирует как истинный определенный категориальной тип видения конкретной наукой ее эмпирических и теоретических (идеализированных) объектов, гармонизируя их между собой. Какова ее природа? Безусловно, она не появляется как результат обобщения теоретического и/или эмпирического познания. Частнонаучная картина мира является всегда конкретизацией определенной (более общей) философской онтологии. Последняя же суть продукт рефлексивно-конструктивной деятельности разума в сфере всеобщих различений и оппозиций.
Общенаучная картина мира это, как правило, одна из частнонаучных картин мира, которая является господствующей в науке той или иной эпохи. Она является дополнительным элементом метатеоретического уровня тех конкретных наук, которые не имеют ее в качестве собственной частнонаучной картины мира. Например, для всего классического естествознания физическая картина мира, основанная на онтологии механики Ньютона, рассматривалась как общенаучная. «Механицизм» по существу и означал признание и утверждение ее в качестве таковой для всех других наук (химии, биологии, геологии, астрономии, физиологии и даже социологии и политологии). В неклассическом естествознании на статус общенаучной картины мира по-прежнему претендовала физическая картина мира, а именно— та, которая лежала в основе теории относительности и квантовой механики.
Однако наличие конкурирующих фундаментальных парадигм в самой физике (классическая физика и неклассическая физика), основанных на принятии существенно различных онтологии, существенно подорвало доверие представителей других наук к физической картине мира как общенаучной. В результате все больше утверждалась мысль о принципиальной моза-ичности общенаучной картины мира, которая должна включать в себя принципы картин мира всех фундаментальных наук. Для неклассического естествознания общенаучная картина мира — это комплементарный симбиоз физической, биологической и теоретико-системной картин мира. Постнеклассическое естествознание пытается дополнить этот симбиоз идеями целесообразности и разумности всего существующего в объективном мире. В результате современная общенаучная картина мира все больше претендует на самостоятельный статус в структуре метатеоретического знания в каждой из наук наряду с частнонаучными картинами мира. С другой стороны, по степени своей общности современная общенаучная картина мира все ближе приближается к философской онтологии.
Те же тенденции плюрализации и универсализации имеют место в отношении не только онтологических элементов метатеоретического знания современной науки, но и других ее составляющих, таких как гносеологические и аксиологические принципы. Хорошо известными примерами таких принципов в структуре физического познания являются, в частности, принцип соответствия, принцип дополнительности, принцип принципиальной наблюдаемости, принцип приоритетности количественного (математического) описания перед качественным, принцип зависимости результатов наблюдения от условий познания и др. Сегодня большинство этих принципов претендует уже на статус общенаучных. На такой же статус претендуют и гносеологические принципы, родившиеся в лоне математического метатеоретического познания. Например, принцип невозможности полной формализации научных теорий, принцип конструктивности доказательства и др.
В слое метатеоретического научного знания важное место занимают также разнообразные методологические и логические императивы и правила. При этом они существенно различны не только для разных наук, но и для одной и той же науки на разных стадиях ее развития. Совершенно очевидно различие методологического инструментария математики и физики, физики и истории, истории и лингвистики. Однако не менее разительно методологическое несходство аристотелевской физики (качественно-умозрительной) и классической физики (экспериментально-математической) и т. д. и т. п. Чем вызвано это несходство в методологических требованиях и правилах в разных науках? Несомненно, с одной стороны, различием предметов исследования. Но с другой, различием в понимании целей и ценностей научного познания. Древнеегипетская и древнегреческая геометрия имели один и тот же предмет — пространственные свойства и отношения. Но для древних египтян методом получения знания об этих свойствах и отношениях являются многократные измерения этих свойств, а для древнегреческих геометров — аксиоматический метод выведения всего геометрического знания из простых и самоочевидных геометрических аксиом. И это различие в методах геометрического познания было обусловлено разным пониманием целей научного познания. Для древних египтян такой целью было получение практически полезного знания (оно могло быть и приблизительным), для древних греков —■ получение именно истинного и доказательного знания.
Вопрос о целях и ценностях научного познания — это уже проблема аксиологических предпосылок науки. Среди аксиологических принципов науки важно различать внутренние и внешние аксиологические основания. Внутренние аксиологические основания науки суть имманентные именно для нее, в отличие от других видов познавательной и практической деятельности, ценности и цели. К их числу относятся объективная истина, определенность, точность, доказательность, методологичность, системность и др. В отечественной философии науки они получили название «идеалы и нормы научного исследования». Внутренние аксиологические ценности направлены вовнутрь науки и выступают непосредственными стандартами, регуляторами правильности и законности научной деятельности, критериями оценки приемлемости и качества ее продуктов (наблюдений, экспериментов, фактов, законов, выводов, теорий ит. д.). Внешние аксиологические ценности науки суть цели, нормы и идеалы науки, которые направлены вовне науки и регулируют ее отношения с обществом, культурой и их различными структурами. Среди этих ценностей важнейшими выступают практическая полезность, эффективность, повышение интеллектуального и образовательного потенциала общества, содействие научно-техническому, экономическому и социальному прогрессу, рост адаптивных возможностей человечества во взаимодействии с окружающей средой и др.
Как хорошо показано в историко-научной и современной методологической литературе, набор и содержание внутренних и внешних ценностей науки существенно различен не только для разных наук в одно и то же время, но и для одной и той же науки в разные исторические периоды ее существования. Так, например, ценность логической доказательности научного знания, его аксиоматического построения имеет приоритетное значение в математике и логике, но не в истории и литературоведении или даже в физике. В истории как науке на первый план выходят хронологическая точность и полнота описания уникальных исторических событий, адекватное понимание и оценка источников. В физике же на первый план выходят эмпирическая воспроизводимость явлений, их точное количественное описание, экспериментальная проверяемость, практическая (техническая и технологическая) применимость. В технических науках последняя ценность является заведомо ведущей по сравнению со всеми другими. Однако содержание и состав внутренних и внешних ценностей не является чем-то постоянным, неизменным и для одной и той же науки в разное время и для развития науки в целом. Так, понимание того, что считать «доказательством», существенно различно в классической и конструктивной математике, в физике Аристотеля и физике Ньютона, в интроспективной психологии XIX века и современной когнитивной психологии и т. д.
Таким образом, аксиологическим и основаниями метатеоретического знания в науке ни в коем случае нельзя пренебрегать. Наука и ценности не разделены каким-то барьером. Ценности оказывают существенное влияние на понимание самого смысла и задач научного исследования, задавая его перспективу и оценивая степень приемлемости предлагаемых научных продуктов. Многие ожесточенные споры и дискуссии как в сфере науки, так и между «наукой» и «не-нау-кой», имеют основание именно в сфере аксиологии науки, хотя участники таких дискуссий обычно полагают, что расходятся в вопросах онтологии и гносеологии. В качестве ярких примеров таких дискуссий можно указать наспор между птолемеевцами и коперни-канцами в астрономии, Махом и Больцманом по поводу законности молекулярно-кинетической теории газов, формалистами и интуиционистами по вопросам надежности математических доказательств и т. д. и т. п. В существенном различии ценностных оснований науки можно легко убедиться, сравнив, например, аксиологию классической, неклассической и постнеклассической науки. Аксиология классической науки: универсальный метод, бескорыстное служение истине, научный прогресс. Аксиология неклассической науки: субъект-объектность знания, общезначимость, консенсуаль-ность, дополнительность, вероятная истинность. Аксиология постнеклассической науки: конструктивность научного знания, плюрализм методов и концепций, толерантность, экологическая и гуманитарная направленность науки, когнитивная ответственность.
Имеется ли различие в природе онтологических, гносеологических и аксиологических принципов как различных элементов в структуре метатеоретического научного знания? С нашей точки зрения, ответ на данный вопрос должен быть утвердительным. Его основания коренятся в структуре сознания. Тогда как онтологические и гносеологические основания науки суть конструктивно-мыслительные продукты познавательной подструктуры сознания, аксиологические — его ценностной подструктуры. Обе подструктуры сознания равноправны, внутренне взаимосвязаны и дополняют друг друга в рамках функционирования сознания как целого в каждом акте сознания. Наука, хотя и является предметной деятельностью сознания, есть, тем не менее, целостное выражение всей структуры сознания, а не только его познавательных функций. Ценности и ценностное знание — необходимый внутренний элемент не только социально-гуманитарных наук, как полагали неокантианцы, но и естественно-научного и логико-математического знания.
Одной из важных проблем в философии науки является вопрос о статусе философских оснований науки в структуре научного знания. Главный пункт проблемы: включать или не включать философские основания науки во внутреннюю структуру науки. В принципе никто не отрицает влияние философских представлений на развитие и особенно оценку научных достижений. История науки и, в частности, высказывания на этот счет великих ее творцов не оставляют в этом никаких сомнений. Однако позитивисты настаивают на том, что влияние философии на процесс научного познания является чисто внешним, и потому философские основания нельзя включать в структуру научного знания, иначе науке грозит рецидив натурфилософствования, подчинение ее различным «философским спекуляциям», от которых наука с таким трудом избавилась к началу XX века. Натурфилософы и сторонники влиятельной метафизики (в том числе марксистско-ленинской философии), напротив, утверждали, что философские основания науки должны быть включены в структуру самой науки, поскольку служат обоснованию ее теоретических конструкций, расширяют ее когнитивные ресурсы и познавательный горизонт. Третьи занимают промежуточную позицию, считая, что в моменты научных революций, в период становления новых фундаментальных теорий философские основания науки входят в структуру научного знания. Однако после того как научная теория достигла необходимой степени зрелости, философские основания науки удаляются из ее структуры. Они ссылаются на то, что в учебной литературе, отражающей стадию зрелых научных теорий, при изложении содержания последних мы очень редко находим упоминание о ее философских основаниях. Эта позиция развивалась, в частности, в работах Э.М. Чудинова под названием концепции СЛЕНТ (философия как строительные леса научной теории). Кто же прав? Все и никто, то есть все, но лишь частично, и никто полностью. Дело в том, что ни одна из представленных выше позиций не сумела дать правильного истолкования особой природы и особой структуры философских оснований науки. Необходимо подчеркнуть, что философские основания науки — это особый, промежуточный между философией и наукой род знания, который не является ни чисто философским, ни чисто научным. .
Философские основания науки суть гетерогенные по структуре высказывания, включающие в свой состав понятия и термины как философские, так и конкретно-научные. Они являют собой второй случай существования в науке кентаврового знания. Первым случаем такого рода были рассмотренные выше интерпретативные предложения, связывающие теоретический и эмпирический уровни научного знания. В этом отношении имеет место полная аналогия между философскими основаниями науки и интерпретативными предложениями по структуре (смешанной), статусу (определения), функциям (мост между качественно различными по содержанию уровнями знания), природе (идентификация значений терминов разных уровней знаний).
Приведем примеры философских оснований науки: «Пространство и время классической механики субстанциальны», «Числа — сущность вещей», «Числа существуют объективно», «Однозначные законы детерми-нистичны», «Вероятностные законы индетерминистич-ны», «Пространство и время теории относительности атрибутивно и относительно», «Аксиомы евклидовой геометрии интуитивно очевидны», «Распространение энергии квантами — свидетельство дискретной структуры мира» и т. д. и т. п. Далее в соответствии с основными разделами философии необходимо выделять различные типы философских оснований науки: онтологические, гносеологические, методологические, логические, аксиологические, социальные и др.
Как известно, в силу всеобщего характера философии ее утверждения не могут быть получены путем обобщения только научных знаний. Справедливо и то, что научные теории нельзя чисто логически вывести в качестве следствий какой-либо философии. Между философией и наукой имеется такой же логический разрыв, как и между теоретическим и эмпирическим уровнями научного знания. Однако эта логическая брешь может быть преодолена и постоянно преодолевается благодаря не логической, а конструктивной деятельности мышления по созданию соответствующих интерпретативных схем, которые являются по своей природе условными и конвенциональными положениями. Только после введения соответствующих философских оснований науки научные теории могут выступать подтверждением или опровержением определенных философских концепций, равно как та или иная философия может оказывать положительное или отрицательное влияние на науку. Спрашивать же, включать ли философские основания науки в структуру научного знания или нет, аналогично вопросу, включать ли эмпирическую интерпретацию теории в структуру эмпирического знания или теоретического. Очевидно, что мы ставим заведомо некорректный вопрос, на который не может быть дан однозначный ответ. Ясно одно, что без философских оснований науки нарушается целостность знания и целостность культуры, по отношению к которым философия и наука выступают лишь ее частными аспектами. И эта целостность культуры постоянно заявляет о себе не только в периоды создания новых научных теорий, но и после этого, в периоды их функционирования и принятия научным сообществом в качестве парадигмальных.
Итак, анализ структуры научного знания показывает ее трехуровневость (эмпирический, теоретический и метатеоретический уровень) и n-слойность каждого из уровней. При этом характерно, что каждый из уровней зажат как бы между двумя плоскостями (снизу и сверху). Эмпирический уровень знания — между чувственным знанием и теоретическим, теоретический — между эмпирическим и метатеоретическим, наконец, метатеоретический — между теоретическим и философским. Такая «зажатость», с одной стороны, существенно ограничивает творческую свободу сознания на каждом из уровней, но, вместе с тем, гармонизирует все уровни научного знания между собой, придавая ему не только внутреннюю целостность, но и возможность органического вписывания в более широкую когнитивную и социокультурную реальность.
Три основных уровня в структуре научного знания (эмпирический, теоретический и метатеоретический) обладают, с одной стороны, относительной самостоятельностью, а с другой — органической взаимосвязью в процессе функционирования научного знания как целого. Говоря о соотношении эмпирического и теоретического знания, еще раз подчеркнем, что между ними имеет место несводимость в обе стороны. Теоретическое знание не сводимо к эмпирическому благодаря конструктивному характеру мышления как основному детерминанту его содержания. С другой стороны, эмпирическое знание не сводимо к теоретическому благодаря наличию чувственного познания как основного детерминанта содержания эмпирического знания. Более того, даже после конкретной эмпирической интерпретации научной теории имеет место лишь ее частичная сводимость к эмпирическому знанию, ибо любая теория всегда открыта другим эмпирическим интерпретациям. Теоретическое знание всегда богаче любого конечного множества его возможных эмпирических интерпретаций. Постановка вопроса о том, что первично (а что вторично): эмпирическое или теоретическое — неправомерна. Она есть следствие заранее принятой редукционистской установки. Столь же неверной установкой является глобальный антиредуционизм, основанный на идее несоизмеримости теории и эмпирии и ведущий к безбрежному плюрализму. Плюрализм, однако, только тогда становится плодотворным, когда дополнен идеями системности и целостности. С этих позиций новое эмпирическое знание может быть «спровоцировано» (и это убедительно показывает история науки) как содержанием чувственного познания (данные наблюдения и эксперимента), так и содержанием теоретического знания. Эмпиризм абсолютизирует первый тип «провоцирования», теоретизм — второй.
Аналогичная ситуация имеет место и в понимании соотношения научных теорий и метатеоретического знания (в частности, между научно-теоретическим и философским знанием). Здесь также несостоятельны в своих крайних вариантах как редукционизм, так и антиредукционизм. Невозможность сведения философии к научно-теоретическому знанию, за что ратуют позитивисты, обусловлена конструктивным характером философского разума как основного детерминанта содержания философии. Невозможность же сведения научных теорий к «истинной» философии, на чем настаивают натурфилософы, обусловлена тем, что важнейшим детерминантом содержания научно-теоретического знания является такой «самостоятельный игрок» как эмпирический опыт. После определенной конкретно-научной интерпретации философии имеет место лишь частичная ее сводимость к науке, ибо философское знание всегда открыто к различным его
Раздел II. Стрртдра, методы и развитие нзрнрго знания
научным и вненаучным интерпретациям. Содержание философии всегда богаче любого конечного множества его возможных научно-теоретических интерпретаций. Новое же теоретическое конкретно-научное знание может быть в принципе «спровоцировано» содержанием как эмпирического знания, так и метатеоретического, в частности, философского.
Таким образом, в структуре научного знания можно выделить три качественно различных по содержанию и функциям уровня знания: эмпирический, теоретический и метатеоретический. Ни один из них не сводим к другому и не является логическим обобщением или следствием другого. Тем не менее, они составляют единое связное целое. Способом осуществления такой связи является процедура интерпретации терминов одного уровня знания в терминах других. Единство и взаимосвязь трех указанных уровней обеспечивает для любой научной дисциплины ее относительную самостоятельность, устойчивость и способность к развитию на своей собственной основе. Вместе с тем, метатеоретический уровень науки обеспечивает ее связь с когнитивными ресурсами наличной культуры.
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Человек может получать новое знание о действительности прежде всего непосредственно, т. е. без применения специальных познавательных средств, — путем восприятия и обыденного наблюдения. Однако в науке, как правило, используется опосредствованный способ постижения истины. Существуют три основных метода опосредствованного получения нового знания — операциональный, экспериментальный и логико-математический. Все остальные частные методы, как правило, представляют некоторую комбинацию этих трех. В данной главе мы рассмотрим первые два из этих методов.
На операциональном уровне используются такие процедуры, как систематическое наблюдение, сравнение, счет, измерение и некоторые другие. Принципиальная методологическая важность операциональной методики в развитии естественных наук была осознана лишь в первой четверти XX века в свете новаторских достижений ученых при создании теории относительности и квантовой механики. Прежде всего был ясно понят тот фундаментальный факт, что познавательные операции являются не только средством добывания знания о мире, но и важнейшим способом придания точного физического смысла научным понятиям. Отсюда возникла потребность заново, в свете новых фактов развития науки, проанализировать логико-ме-тодологический статус основных эмпирических про-ЧеАУР в научном исследовании. Такая работа впервые была осуществлена Н. Кэмпбеллом (1920) и Р. Бриджменом (1927), положив начало методологии операцио-нализма.
Поскольку многие ключевые понятия классической физики оказались непригодными для описания и объяснения новых экспериментальных фактов в области релятивистских скоростей и микропроцессов, появилось естественное желание проанализировать природу физических понятий вообще, структуру их «взаимоотношений» с экспериментом в частности. Имеются ли такие средства определения научных понятий, которые гарантируют их от «выбраковки» (как это было с понятием «эфира» в релятивистской механике) в случае обнаружения принципиально новых данных? Ответ на этот вопрос стали искать в различных способах формирования понятий и, в частности, таких, которые использовали создатели новых научных теорий. Например, в релятивистской механике значения временных переменных (в соответствующих уравнениях) для двух событий, происходящих в разных точках пространства, считываются по показаниям «синхронизированных» часов, расположенных вблизи соответствующих точек. Принципиально новым здесь оказывается понятие одновременности событий, которое определяется операционально, т. е. включает указания на последовательность операций, — действий наблюдателей — по синхронизации часов, расположенных в разных точках, и кроме того — для однозначного истолкования результатов этих операций, — указание на систему отсчета, в которой находятся приборы и наблюдатели.
Таким образом, очевидно, что эмпирическая процедура может выступать как средство выявления точного и однозначного физического смысла тех или иных ключевых понятий, для чего в их определение должен входить метод, позволяющий в каждом конкретном случае на основе (возможно мысленного) эксперимента решить, осмысленно (правильно ли) применение этого понятия в данной познавательной ситуации или нет. Иначе говоря, каждое такое понятие приобретает строгий смысл лишь в операциональном контексте, т. е. тогда, когда указана последовательность актуально (или потенциально) осуществимых операций (действий), фактическое выполнение которых (или мысленное их прослеживание) позволяет шаг за шагом выявить реальный смысл этого понятия и таким образом гарантировать его непустоту.
| 1 Гейзенберг В. Рефер. сборник. М., 1978. С. 48. |
Обратимся теперь к рассмотрению экспериментального метода. При экспериментальном изучении действительности исследователь «задает» вопрос интересующему его объекту и «получает» на него ответ. При этом вопрос должен быть задан на языке, «понятном» природе, а ответ должен быть получен на языке, понятном человеку. Поэтому речь идет об особым образом организованном диалоге между человеком и природой. Такую деятельность в прошлые века было принято называть «испытанием природы», а самих ученых «естествоиспытателями». Искусство испытания заключается в том, чтобы научиться задавать природе внятные для нее вопросы. Не всякий понятный нам, людям, вопрос, обращенный к объекту, может найти у него отклик, и не всякий ответ на наши вопросы может быть рационально расшифрован человеком. Часто, вслушиваясь в «голоса вещей», мы слышим лишь отзвук своего собственного вопрошания. И все-таки в результате многовековой научной практики ученые приобрели навыки беседовать с природой. Главным средством здесь послужил метод экспериментирования. Суть этого последнего В. Гейзенберг раскрывает в следующих словах: «В сегодняшней научной работе мы существенным образом следуем методологии, открытой и развитой Коперником, Галилеем и их последователями в XVI —XVII вв. Для нее прежде всего характерны две особенности: установка на конструирование экспериментальных ситуаций, изолирующих и идеализирующих опыт и поэтому порождающих новые явления; сопоставление этих явлений с математическими конструктами, которым приписывается статус естественных законов»1. Благодаря искусству экспериментирования человек — в своем отношении к природе — научился создавать такую опытно контролируемую и прозрачную для понимания ситуацию диалога, когда явления раскрывают себя в «чистом виде» вне затемняющих дело обстоятельств, а ответы природы носят однозначные «да» или «нет». Как бы ни были разнообразны формы конкретных естественно-научных экспериментов и отдельных экспериментальных процедур, в любом случае они заключают в себе некоторые общие черты: 1) в основе экспериментального способа получения нового знания лежит материальное взаимодействие, используемое в познавательных целях; 2) всякое специфическое воздействие при одних и тех же условиях его осуществления однозначно связано со специфической реакцией материальной системы (предмета исследования).
В истории опытных наук эксперимент как метод познания и эффективный способ получения фактуаль-ной информации возникает в эпоху Ренессанса и перехода к Новому времени. Эксперимент входит в практику науки как следствие определенных социокультурных предпосылок. Как отмечает B.C. Степин, идея эксперимента могла утвердиться в научном сознании только при наличии следующих мировоззренческих установок: во-первых, понимания субъекта познания как противостоящего природе и активно изменяющего ее объекты, во-вторых, представления о том, что опытное вмешательство в протекание природных процессов создает феномены, подчиненные законам природы, в-третьих, рассмотрения природы как закономерно упорядоченного поля объектов, где неповторимость каждой вещи как бы растворяется в действии законов, которые одинаково действуют во всех точках пространства и во все моменты времени1.
| 1 Степин B.C. Наука // Новая философская энциклопедия. М, 2001. Т. 3. С. 26. |
Операциональный и экспериментальный методы образуют средства получения эмпирического знания, включающего получение фактуального знания (фактов) и эмпирических обобщений. Факты науки — эмпирическое звено в построении теории, некая реальность, отображенная информационными средствами. Нечто существующее становится научным фактом лишь тогда, когда оно зафиксировано тем или иным принятым в данной науке способом (протокольная запись в виде высказываний, формул; фотография, магнитофонная запись и т. п.).
Любой факт науки имеет многомерную (в гносеологическом смысле) структуру. В этой структуре можно выделить четыре слоя: 1) объективную составляющую (реальные процессы, события, структуры, которые служат исходной основой для фиксации познавательного результата, называемого фактом); 2) информационную составляющую (информационные посредники, обеспечивающие передачу информации от источника к приемнику— средству фиксации факта); 3) практическую детерминацию факта (обусловленность факта существующими в данную эпоху качественными и количественными возможностями наблюдения, измерения и эксперимента); 4) когнитивную детерминацию факта (зависимость способов фиксации и интерпретации фактов от системы исходных абстракций теории, теоретических схем, психологических установок и т. п.).
| Научное наблюдение, в отличие от простого созерцания, предполагает замысел, цель и средства, с помощью которых субъект переходит от предмета деятельности (наблюдаемого явления) к ее продукту (отчету о наблюдаемом). В реальной научной практике наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, опирающийся не только на работу органов чувств, но и на выработанные наукой средства и методы истолкования чувственных данных. К научному наблюдению предъявляются жесткие требования: ■ четкая постановка цели наблюдения; ■ выбор методики и разработка плана; ■ систематичность; ■ контроль за корректностью и надежностью результатов наблюдения; |
1 Научное наблюдение
■ обработка, осмысление и истолкование полученного массива данных.
Наблюдение — важнейший способ получения научных фактов.
Из всех средств познания, как в науке, так и в практической жизни, наблюдение, по-видимому, является наиболее простым. Будучи исходным звеном в познавательной деятельности человека, оно вместе с тем оказывается необходимым моментом и во многих более высших ее формах. Конечно, существует важное различие между наблюдением как средством научного познания и наблюдением, как оно выступает в донаучном или обыденном познании. Однако для того, чтобы это различие выявить, мы начнем наш анализ с наиболее простых случаев.
Взаимодействие наблюдателя и наблюдаемого объекта, практическое преобразование человеком предметного мира является необходимым условием и исторической предпосылкой наблюдения. Прежде чем человек научился выделять в чувственном опыте отдельные вещи, фиксировать их взаимоотношение и т. д., он должен был вначале выделить, индивидуализировать вещи практически в процессе предметно-чувственного оперирования с ними. Наблюдение фиксирует не только формы, цвета и звуки предметов, но и их отношения, взаимозависимость, изменение, давая тем самым объективные сведения о природе. Если мы зафиксируем результаты проведенного наблюдения средствами некоторого принятого языка (это может быть обыденный язык, либо язык физики, либо какой-нибудь еще), то мы получим так называемые эмпирические высказывания, например:
1. Книга, купленная мною вчера, лежит на моем письменном столе.
2. Стрелка гальванометра остановилась против деления «10».
3. Два данных предмета уравновешены между собой на чашечных весах.
Каждое эмпирическое высказывание характеризуется следующими свойствами: во-первых, оно отражает некоторое, независимое от наблюдателя существующее событие и, следовательно, заключает в себе объективное содержание; во-вторых, оно способно выражать наблюдаемые события некоторым контролируемым способом. Вот почему, если принят один и тот же язык, то разные и независимые друг от друга наблюдатели выразят одно и то же наблюдаемое событие в идентичных ситуациях или в одной и той же системе отсчета однозначным образом.
Как же достигается объективность и однозначность эмпирических предложений? Прежде всего путем уточнения той наблюдаемой ситуации, относительно которой мы формулируем эти предложения. Такое уточнение заключается в указании места, времени, конкретных условий протекания наблюдаемого события. Но для этого мы должны, как правило, осуществлять некоторые материальные операции, применять инструменты и т. д.
Наиболее важные из них — это сравнение, измерение и эксперимент. Именно систематическим применением специально разработанных процедур и различаются наблюдения в научном познании и обыденной жизни. Физик М. Борн пишет: «Сейчас мы знаем бесчисленное множество случаев, когда одно из наших чувств заменяет или по крайней мере служит проверкой другого. По сути дела вся наука — это сложный лабиринт такого рода взаимосвязей, составляющих чисто геометрические структуры, понятные зрению или прикосновению и, таким образом, предпочитаемые нами как заслуживающие наибольшего доверия. Этот процесс представляет собой самую суть объективизации, которая преследует цель сделать наблюдения настолько не зависимыми от индивидуальности наблюдателя, насколько это возможно»1.
| 1 Борн М. Эйнштейновская теория относительности. М: Мир, 1964. С. 12-13. |
Однако прежде чем рассмотреть процесс совершенствования наблюдения как средства познания, необходимо отметить его самую фундаментальную гносеологическую функцию, заключающуюся в том, что с его помощью мы переводим наблюдаемую объективную ситуацию в область сознания, превращаем ее в нечто идеальное. Этот перенос внешнего во внутренний план является предпосылкой для различных когнитивных операций, для превращения исследуемого объекта в эмпирический предмет нашего знания.
| Сравнение ___________________ _____________
Хотя наблюдение и является исходным средством в процессе познания человеком действительности, однако часто необходимо знать, как организовать наблюдение, чтобы сделать его эффективным.
Представим себе следующую элементарную задачу. Даны две подобные фигуры, слегка различные по величине. Требуется определить большую из них. Во избежание ошибки мы накладываем фигуры одна на другую и с помощью наблюдения сравниваем их между собой. Указанная процедура обеспечивает получение ответа с требуемой точностью. Сравнение в этом случае выступает как особый способ организации наблюдения.
Когда мы сравниваем два каких-либо предмета А и В, то мы имеем две логические возможности: 1) А и В тождественны, 2) А и В различны.
Отношение тождества может выступать в виде равенства, подобия, изоморфизма и т. д. Отношение различия можно, в частности, детализировать, имея в виду такие две возможности: 1) А больше В, 2) А меньше В.
В реальном мире отношения и связи между предметами исключительно разнообразны. В самом деле, два предмета могут быть равными по весу, но различаться по объему, или иметь одинаковую длину, но быть несходными по физическим свойствам. Вот почему, когда мы говорим «А тождественно В» или «А и В различны», но не уточняем, в каком именно смысле это верно, то наши высказывания неопределенны и, следовательно, лишены познавательной ценности.
Отсюда ясно, что сравнивать предметы можно только по какому-либо точному выделенному в них признаку, свойству или отношению, т. е. в рамках заданного интервала абстракции. Лишь то, что однородно, можно сравнивать, отождествлять или различать. Сведение к определенному единству является необходимым условием процедуры сравнения. Сравнение имеет смысл лишь в границах некоторого качества, а последнее всегда актуализировано лишь в том или ином контексте.
Но достижение единства как условия сравнения вовсе не есть некоторый чисто субъективный прием. Перед нами ситуация, в принципе аналогичная той, которую, в частности, рассматривал К. Маркс на примере определения веса одного предмета с помощью веса другого предмета. Маркс рассуждал следующим образом: голова сахара как физическое тело имеет определенную тяжесть, вес, но ни одна голова сахара не дает возможности непосредственно наблюдать ее вес. Если мы возьмем кусок железа, то его телесная форма сама по себе столь же мало является формой проявления тяжести, как и телесная форма головы сахара. «Тем не менее, чтобы выразить голову сахара как тяжесть, мы приводим ее в весовое отношение к железу. В этом соотношении железо фигурирует как тело, которое не представляет ничего, кроме тяжести... Эту роль железо играет только в пределах того отношения, в которое к нему вступает сахар или какое-либо другое тело, когда отыскивается вес последнего. Если бы оба тела не обладали тяжестью, они не могли бы вступить в это отношение, и одно из них не могло бы стать выражением тяжести другого. Бросив их на чаши весов, мы убедимся, что как тяжесть оба они действительно тождественны и потому, взятые в определенной пропорции, имеют один и тот же вес»1
| 1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23, изд. 2-е. С. 66. |
Итак, процедура сравнения предполагает существование такого отношения, в котором сравниваемые предметы объективно выступают как качественно однородные, и никакие другие свойства данных предметов не играют для указанного отношения никакой роли. В приведенном примере такие свойства взвешиваемых предметов, как объем, цвет, твердость и т. д., никаким образом не влияли на возможность и точность взвешивания.
Все предметы выступают здесь как воплощенные тяжести. Это и есть пример конкретного тождества.
Следует подчеркнуть, что отношения, в которых предметы фигурируют как тождественные, однородные, сравнимые и т. д., существуют объективно, независимо от процедуры сравнения. Сравнивая, человек лишь использует подобные отношения, подбирая или воспроизводя их. Использование сравнения в качестве познавательной процедуры предполагает, что мы как-то уточнили ту объективную ситуацию, в рамках которой производится сравнение.
Это значит, что: 1) мы выделили то отношение, которое позволяет нам сравнивать интересующие нас свойства предметов; 2) мы знаем те условия, в которых производим операцию сравнения, в том смысле, что нам понятно значение этих условий для осуществления указанной операции. Назовем ситуацию, удовлетворяющую этим требованиям, операциональной ситуацией.
Процедура сравнения включает в себя, таким образом, с одной стороны, способ, которым может быть осуществлена операция сравнения, с другой — соответствующую операциональную ситуацию. Вот почему любое наше утверждение о тождестве или различии каких-либо предметов имеет определенный и точный смысл лишь тогда, когда мы можем указать соответствующую процедуру сравнения в рамках той или иной познавательной позиции. Сравнение, следовательно, не только повышает познавательную ценность наблюдения, позволяя решать более тонкие задачи, но и выполняет семантическую функцию, то есть помогает выявить смысл наших утверждений. Последнее обстоятельство особенно важно в тех случаях, когда нам приходится сравнивать свойства, которые невозможно наблюдать непосредственно.
1 Измерение____________________________________
Измерение — процедура, фиксирующая не только качественные характеристики объектов и явлений, но и количественные аспекты. Оно предполагает наличие в средствах деятельности некоторого масштаба (единицы измерения), алгоритма (правил) процесса измерения и измерительного устройства. Измерение есть процедура установления одной величины с помощью другой, принятой за эталон. Первая из указанных величин называется измеряемой величиной, вторая — единицей измерения. Отсюда под измерением можно понимать процедуру сравнения двух величин, в результате которой экспериментально устанавливается отношение между величиной измеряемой и принятой за единицу.
Следует подчеркнуть, что современное опытное естествознание, начало которому было положено трудами Леонардо да Винчи, Галилея и Ньютона, своим расцветом обязано применению именно измерений. Провозглашенный Галилеем принцип количественного подхода, согласно которому описание физических явлений должно опираться только на величины, имеющие количественную меру, станет методологическим фундаментом естествознания, его будущего прогресса.
Измерение исторически развилось из операции сравнения, но в отличие от последней является более мощным и универсальным познавательным средством.
Сравнение может быть как качественным, так и количественным.
При количественном сравнении вопрос о принадлежности некоторого качества сравниваемым предметам А и В уже решен. Речь может идти лишь о сравнении в пределах данного качества. В таком случае имеются три логические возможности получить определенный результат 1) А = В; 2) А < В; 3) А > В. Возникает следующий вопрос: можно ли как-то детализировать ответ во втором и третьем случаях? Представим себе следующую задачу. Имеется деревянный брусок и деревянный стержень стандартной длины. Требуется узнать, сколько надо сделать разрезов бруска для того, чтобы из полученных кусков можно было изготовлять стандартные стержни.
Простое сравнение позволяет найти лишь самый общий ответ: брусок больше стержня.
Этот тривиальный ответ не обеспечивает, однако, решение поставленной задачи. Нам требуются более детальные сведения о соотношении сравниваемых предметов, а именно: во сколько раз один предмет больше другого. Для получения ответа на вопрос необходимо операционально установить посредством сравнения, сколько раз стержень укладывается вдоль бруска. Пусть проведенное сравнение даст следующий результат: брусок равен 5 стержням, или в общем случае, брусок равен л стержням.
Каков смысл этого записанного в виде уравнения эмпирического высказывания? В этом уравнении мы свойство одного предмета (длину бруска) выразили через аналегичное свойство другого. Уравнение, как мы видим, отражает экспериментально установленный факт, объективно существующее отношение вещей.
Что представляет собой это отношение и какова та операциональная ситуация, в рамках которой указанное отношение рассматривается? Прежде всего мы замечаем, что стороны этого отношения играют различные роли: брусок выступает как определяемое, стержень — как определяющее. Стержень в рамках данного отношения фигурирует не как предмет во всем многообразии своих свойств, а как вещественное воплощение лишь одного вполне определенного свойства — быть длиной, протяженностью. Все остальные свойства этого предмета не играют здесь никакой роли (вес, толщина и т. д.). Вот почему длину бруска можно было бы с равным успехом выразить через длину других предметов — кусок рельса, отрезок веревки и т. д.
Абстракции, лежащие в основе операции измерения, можно свести к трем видам: 1) отвлечение от бесконечного количества свойств сравниваемых качеств и выделение только одного; 2) отвлечение от того факта, что сравниваемое свойство имеет разные степени у разных представителей сопоставляемых классов и сосредоточение внимания только на интенсивности измеряемого свойства; 3) в отвлечении от возможных изменений измеряемого свойства в процессе измерения.
Далее мы видим, что стержень выступает в этом отношении не просто как воплощенная длина, но как длина вполне определенная, как некоторая «порция» длины, как величина. Значение этого обстоятельства заключается в том, что от него непосредственно зависит результат сравнения. Если бы длина стержня оказалась в два раза меньше стандартной, то в уравнении вместо л пришлось бы поставить 2л. Уравнение изменится также и в том случае, если стержень заменить каким-либо другим предметом, неравным ему по длине. .
Итак, стержень фигурирует в данной познавательной ситуации как величина, которая, во-первых, характеризует некоторое вполне определенное качество (протяженность), во вторых, содержит в себе количественную меру, выражает определенное количество. Далее. Указанная величина выступает как средство, с помощью которого мы можем выражать соответствующие величины других предметов (длину бруска, в частности), в то время как сама она не может быть выражена через другие величины. В этом смысле данная величина является абсолютной, а все другие величины, которые могут быть с помощью ее выражены, являются относительными. Это обстоятельство и зафиксировано в нашем уравнении:
брусок = л стержням
Выясняя объективный смысл рассматриваемой нами ситуации, мы можем заметить, что наше уравнение выражает этот смысл грубо и неоднозначно. Неоднозначность его можно видеть, например, из следующего. С помощью нашего стандартного стержня мы можем, вообще говоря, выражать не только длину данного бруска, но и его вес. Если каждая часть бруска раскалывается на четыре стержня, то вес нашего бруска будет примерно равняться весу 4л стандартных стержней. Другими словами, из нашего уравнения не видно, какая именно качественно определенная величина выражается данным уравнением — длина, вес или что-либо еще. Воспользуемся тем, что в нашей ситуации мы можем, не изменяя результат, подставлять вместо стержня любой другой равный ему по длине предмет. Получаем следующее уравнение: брусок = пх,
где х есть пустое место, на которое можно подставлять любой предмет, равный по длине стержню. Наше новое уравнение отражает объективно существующий факт взаимозаменяемости всех предметов, подставляемых вместо х, свидетельствующий о том, что во всех этих предметах, рассматриваемых в данной экспериментальной ситуации, существует нечто общее, инвариантное. Это инвариантное и выражается понятием величины, имеющей качественную и количественную определенность. Поскольку наша величина является в некотором смысле абсолютной, то по отношению к другим выражаемым через нее величинам она выступает в функции эталона.
Для того, чтобы подчеркнуть, что эта величина является эталоном вполне определенного качества, эталоном длины и чтобы не спутать его с другими эталонами, мы должны придать этой величине однозначно соответствующее ей имя. Общепринятое название эталона длины — метр (м).
Если наша величина х составляет одну десятимиллионную долю четверти парижского меридиана, то наше уравнение примет вид:
брусок = л метрам.
Обозначая через х измеряемую величину, через а единицу измерения и через л — их отношение, получим следующее уравнение:
п = х/а или х = п а.
Полученное уравнение и есть основное уравнение измерения. Численное значение измеряемой величины выражено отвлеченным числом, напротив, результат измерения всегда является наименованным числом.
Результат измерения — численное значение величины. Если измерения величины дают одно и то же значение, то такая величина называется постоянной. Величина, которая принимает различные численные значения (в некоторой ситуации), называется переменной. Из определения измерения следует, что измерение есть процедура экспериментальная. Последняя предполагает определенную экспериментальную ситуацию и соответствующий способ, с помощью которого осуществляется операция измерения.
Рассмотрим оба этих момента в отдельности.
Представим себе, что мы решаем определенную задачу и что на каком-то шаге ее решения нам потребовалось знать вес некоторого тела. Очевидно, что в данном случае измерение является надежным способом для получения необходимой нам информации.
Прежде всего выберем единицу измерения веса. Пусть это будет вес кубического дециметра дистиллированной воды в вакууме при температуре 4 °С в месте, находящемся на уровне моря на широте 45°. Поскольку измерение есть процедура экспериментальная, то, помимо выбора единицы измерения, нам необходимо иметь воспроизведение этой единицы в некотором вещественном образце — мере (например, в некоторой гире).
Используя измерение в качестве познавательного средства, мы должны исследовать, насколько это средство является надежным в каждом конкретном случае, то есть выяснить, не нарушаем ли мы принцип объективности в познании, подготовляя данную экспериментальную ситуацию. Вот почему, хотя единица измерения в принципе может выбираться произвольно, тем не менее, ее вещественному представителю — мере мы должны предъявить весьма жесткие требования. Мера — средство получения информации, она должна обеспечить такое протекание познавательного процесса, который бы привел к объективным результатам. Если мы сделаем гирю, например, из необработанного особым образом дерева, то с течением времени вес гири будет меняться: дерево будет либо испарять влагу, либо адсорбировать ее из воздуха. В этом случае такое требование объективности, как однозначность результатов измерения, не будет обеспечено. Естественно поэтому делать гири из такого материала, физические свойства которого носят устойчивый в определенном отношении характер. Пусть, например, наши гири будут из латуни. Воспроизводя единицу измерения в виде латунных гирь, мы, конечно, не можем достигнуть абсолютной точности, и наши гири будут слегка отличаться друг от друга по весу. Однако для того, чтобы гири могли играть роль меры, погрешность не должна быть выше допустимой. Величина допустимой погрешности целиком зависит от характера той познавательной задачи, которую мы решаем и для решения которой нам потребовались данные измерения.
Вторым элементом экспериментальной ситуации, которую мы пытаемся уточнить некоторым образом, являются физические условия измерения. Бесспорно, что физические условия, в которых производится измерение, в той или иной степени влияют на результат измерения. Если нам известен результат измерения, но не известны соответствующие условия, то полученная информация, вообще говоря, не снимает той неопределенности, которая выражается исходным вопросом.
Рассмотрим теперь вопрос о способе измерения как неотъемлемой стороне всякой измерительной процедуры. Способ измерения включает в себя три главных момента: 1) выбор единицы измерения и получение набора соответствующих мер; 2) установление правила сравнения измеряемой величины с мерой и правило сложения мер; 3) описание процедуры сравнения. Вопрос о выборе единицы измерения был уже выше рассмотрен, рассмотрим теперь следующие из перечисленных моментов в рамках нашего примера.
| 1 Аддитивность — свойство величин (например, объем, плотность, вес], для которых характерно, что численная величина, соответствующая целому объекту, всегда равна сумме величин, соответствующих его частям, каким бы образом мы этот объект ни разбивали на части. |
Возьмем устройство, представляющее собой равноплечий рычаг — весы. Опираясь на законы рычага и закон всемирного тяготения, можно сформулировать следующее правило сравнения весов: если тела уравновешиваются на равноплечем рычаге, то веса тел равны. Учитывая свойство аддитивности1 масс, можно сформулировать и правило сложения мер: вес гирь, положенных на одну чашку весов, равен арифметической сумме весов отдельных гирь. Тогда процедура сравнения измеряемой величины с мерой выглядит весьма просто. Уравновесим измеряемое тело на весах при помощи имеющихся у нас латунных гирь. Число гирь л, потребовавшееся для этой операции, будет как раз равно численному значению измеряемой величины. Применяя основное уравнение измерения, получаем р = п кг, где р — вес измеряемого тела.
Полученный результат, однако, в строгом смысле справедлив лишь для вакуума. Известно, что при взвешивании в воздухе на тела и гири действует архимедова выталкивающая сила. Поскольку объем взвешиваемых тел и объем гирь, как правило, неодинаковы, то неодинаковы и выталкивающие силы. Это значит, что необходимо внести поправку на потерю веса тела в воздухе в конечный результат измерения. Полученное в результате измерения отвлеченное число имеет с гносеологической точки зрения две важные особенности. Обе эти особенности связаны с диалектикой абсолютного и относительного в познании.
Прежде всего число л есть не что иное как своеобразный «ответ» природы на экспериментально поставленный вопрос, то есть представляет собой новые объективные сведения о природе, некоторую информацию. Этот ответ мы получили на сконструированном нами и понятном для нас языке относительных величин, мы задавали вопрос природе таким образом, чтобы ее ответ был понятен для нас и мог быть выражен на принятом нами языке.
До сих пор мы все время рассматривали так называемое прямое измерение. Однако с развитием науки все большее практическое и теоретическое значение приобретает метод косвенного измерения. При прямом измерении результат получается путем непосредственного сравнения измеряемой величины с эталоном, а также с помощью измерительных приборов, позволяющих непосредственно получать значение измеряемой величины (например, амперметр). При косвенном измерении искомая величина определяется на основании прямых измерений других величин, связанных с первой математически выраженной зависимостью.
Возможность косвенного измерения как особой познавательной процедуры, ведущей к получению объективного знания, вытекает из того, что в объективном мире одни явления, свойства, качества связаны с другими. Взаимозависимость различных процессов, свойств, сторон может, в частности, выражаться в том, что изменение какой-либо одной исследуемой величины обусловливает изменение другой. В математике такая зависимость называется функциональной. Из практики известно, например, что длина пути S, пройденного пешеходом, зависит от времени (, в течение которого пешеход находился в движении. Уже простое наблюдение, таким образом, может привести нас к установлению определенной функциональной зависимости:
S = f(t).
Однако полученный вывод еще не позволяет делать какие-либо заключения о том, как именно изменение одной величины зависит от изменения другой, то есть мы не знаем правила, с помощью которого можно было бы каждому численному значению независимой величины f сопоставить соответствующее значение независимой величины 5. Понятно, что такое правило и не может быть получено с помощью наблюдения. Это вытекает уже из того, что наш вопрос мы формулируем на языке величин, а о величинах можно что-либо утверждать лишь с помощью измерения. Величайшим достижением научного познания явилось как раз то, что люди научились определять значение той или иной величины, не прибегая к прямому измерению ее, то есть задачу измерения одних величин сводить к задаче измерения других.
Для случая равномерного и прямолинейного движения тела мы можем провести прямое измерение как t, так и 5. Пусть, например, в результате измерения мы получили следующую таблицу:
| t | S |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| п | 2п |
Из таблицы видно, что численное значение S можно получить путем умножения соответствующего численного значения г на 2. Итак, мы нашли правило преобразования любого численного значения независимой величины в соответствующее значение зависимой: S = 2f. Мы видим, что численное значение S зависит не только от численного значения t, но и от числа 2, которое представляет собой численное значение некоторой третьей величины, характеризующей само движущееся тело. Эта величина есть не что иное, как средняя скорость тела. В таком случае мы можем записать наше уравнение в виде физического закона:
S = vt, или v = S/t.
Очевидно, что численное значение v, которое было нами найдено, справедливо только для нашего частного случая. Тем не менее, сам способ определения величины v является универсальным для данного вида движения.
Итак, от констатации связи между величинами мы перешли с помощью измерения к установлению закона. Измерение, как известно, является фундаментом всего физического знания. В свое время Бриджмен указал на опасность введения в теорию неизмеряемых величин и операционально неопределяемых понятий. Разрабатываемая естествоиспытателями операциональная техника как раз и позволяет выявлять эмпирические условия и границы применимости научных понятий.
§ Эксперимент
Исследователь прибегает к постановке эксперимента в тех случаях, когда необходимо изучить некоторое состояние предмета наблюдения, которое в естественных условиях далеко не всегда присуще объекту или доступно субъекту. Воздействуя на предмет в специально подобранных условиях, исследователь целенаправленно вызывает к жизни нужное ему состояние, а затем изучает его. В сравнении с наблюдением структура эксперимента как бы удваивается: один из его этапов представляет собой деятельность, цель которой — достижение нужного состояния предмета, другой связан с собственно наблюдением. При этом эксперимент — это такое вопрошание природы, когда ученый уже нечто знает о предполагаемом ответе. Благодаря чему эксперимент становится средством получения нового знания? Для ответа на этот вопрос необходимо понять логику и условия перехода от прежнего знания к открытию, к новому научному утверждению. Чтобы превратить эксперимент в познавательное средство, необходимы операции, позволяющие перевести логику вещей в логику понятий, материальную зависимость в логическую. Для этого нужно располагать следующим рядом: 1) принципами теории и логически выводимыми из них следствиями; 2) идеализированной картиной поведения объектов; 3) практическим отождествлением (в заданном интервале абстракции) идеализированной модели с некоторой материальной конструкцией. Существуют два типа экспериментальных задач: 1) исследовательский эксперимент, который связан с поиском неизвестных зависимостей между несколькими параметрами объекта и 2) проверочный эксперимент, который применяется в случаях, когда требуется подтвердить или опровергнуть те или иные следствия теории.
| 1 Спасский Б.И. История физики. Ч. 1. МГУ, 1963. С. 192. |
Рассмотрим следующий пример из истории физики. В 70-х годах XVIII века английский физик Кавендиш проделал интересный опыт с целью определения элементарного закона, характеризующего силы взаимодействия между электрическими зарядами. Для этого он «взял две металлические полусферы, закрепленные на изолирующей раме, которые могли соединяться и разъединяться. Внутри этих полусфер он поместил шар, покрытый фольгой, посаженный на стеклянную ось, так что между полусферами, когда они были соединены, и шаром не было контакта. После этого он соединил полусферы и шар тонкой проволокой и сообщил им электрический заряд. Разъединив затем полусферы, он вынул шар и исследовал, какой заряд остался на нем. Измерения показали, что заряд на шаре равен нулю»1.
Из этого опыта Кавендиш сделал следующий вывод: электрическое притяжение и отталкивание должны быть обратно пропорциональны квадрату расстояния. Для человека, не являющегося специалистом в области физики и математики, такой вывод будет полной неожиданностью. Очень трудно установить непосредственно какую-нибудь связь между техническими условиями эксперимента и утверждением о законе взаимодействия между электрическими зарядами. Что же позволило сформулировать это утверждение как следствие данного опыта? Кавендиш воспользовался следующим теоретическим представлением. Если полагать, что электрические силы обратно пропорциональны некоторой степени расстояния, то только в том случае весь заряд собирается на внешней сфере, когда эта степень равна 2. Без знания последней «теоремы» мы не смогли бы сделать экспериментальный вывод, принадлежащий Кавендишу.
Этот пример показывает, что получение экспериментального вывода (нового знания) и, следовательно, реализация познавательной функции эксперимента не является простой задачей, что вывод не вытекает непосредственно из опыта. Он свидетельствует о том, что только при определенных предпосылках и условиях исследователь может получить истинное утверждение, наблюдая организованное им материальное взаимодействие. Раскрытие характера этих предпосылок и условий в их взаимоотношении с материальным взаимодействием и есть та задача, решение которой может сделать для нас ясным ответ на вопрос: почему эксперимент есть средство получения нового знания?
Всякому эксперименту предшествует подготовительная стадия. В основе предварительной деятельности лежит замысел эксперимента, представляющий собой некоторое предположение о тех связях, которые должны быть вскрыты в процессе его и которые уже предварительно выражены с помощью научных понятий, абстракций. В эксперименте, как правило, используются приборы — искусственные или естественные материальные системы, принципы работы которых нам хорошо известны, ибо в противном случае их применение обесценивается, так как показания их не были бы для нас понятными. Таким образом, в рамках нашего эксперимента уже фигурирует в «материализованной» форме наше знание, некоторые теоретические представления. Без них немыслим эксперимент, по крайней мере, в рамках более или менее сложившейся науки. Это, разумеется, не исключает из рамок эксперимента процедуру наблюдения, которое дает нам тот материал, значение и смысл которого мы можем «расшифровать», опираясь на предшествующую деятельность, на уже имеющееся у нас знание. Особенно наглядно эта зависимость понимания эксперимента от уже имеющегося у нас знания выступает в современной физике. «Именно поэтому человек, незнакомый с атомной физикой, не может получить никакого опытного знания о микромире, если очутится в лаборатории ученого-физика. Он заметит щелканье счетчиков, вспышки на экранах, вычерченные кривые на бумаге и пр., но эти наблюдения будут для него совершенно пустым и ничего не значащим материалом. В силу этого несведущему в физике человеку никогда не будут доступны микрообъекты, их свойства, закономерности движения. Для него наблюдаемое не может служить материалом и источником познания сущности явлений»1.
Всякая попытка отделить эксперимент от теоретических знаний делает невозможным понимание его природы, познавательной сущности. Она перечеркивает по существу всю ту целесообразную деятельность, которая предшествует эксперименту и результатом которой он является. Вне ее эксперимент есть обычное материальное взаимодействие, взаимодействие, в принципе не отличающееся от тех, которые совершаются на наших глазах повсеместно, ежеминутно. Только тогда, когда последнее, будучи формой практической деятельности и, следовательно, деятельности целесообразной, превращается нами в познавательное средство, оно выступает как эксперимент.
' Кузьминов ГЛ. Чувственное и логическое в познании микромира. М: Мысль, 1965. С. 62.
| Гносеологическая функция приОоров__________________
Все вещи раскрывают свои свойства через взаимодействия. Очевидно, что первой формой взаимодействия, в результате которого человек получает информацию о реальности, есть взаимодействие объектов через информационного посредника с самими органами чувств. Эти последние, как подчеркивал В. А. Фок, в известных случаях могут рассматриваться как устройства, аналогичные приборам, т. е. как своего рода первичные приборы. Каждый такой прибор работает вполне автономно (хотя и в координации с другими). Сенсорный аппарат человека представляет собой поэтому многоканальную систему получения информации. Каждый канал, начинающийся с сетки отдельных периферических рецепторов, передает информацию, которая заканчивается ощущением строго определенной модальности (зрительной, слуховой и др.).
Поскольку органы чувств как механизм приспособления к экологической и социальной среде сложились в результате длительной эволюции человека, то сенсорная информация поступает в сознание на языке «чувственных данных», семантика которого понятна субъекту и в этом смысле не требует никакой особой интерпретации. Будучи исходной и потому не сводимой к какому-либо еще более глубокому уровню, эта первичная семантика может интерпретироваться на языке более высоких этажей, в частности, на уровне восприятия. Здесь семантика возникает на базе механизма свертывания и предметного истолкования «чувственно данного». Язык восприятий является более богатым и в этом смысле более адекватным действительности. Обычно человек уже в раннем детстве научается истолковывать «чувственно данные» в форме восприятий, используя такие отработанные в предметной деятельности операции, как отождествление, категоризация, классификация, узнавание и др. Следующий уровень интерпретации данных ощущения и восприятия — это описание и объяснение наблюдаемых явлений, осуществляемое на основе системы научных абстракций, в контексте эмпирического уровня функционирования знания.
В каких же случаях возникает необходимость во включении в гносеологическую ситуацию приборов как особого класса посредников? Введение приборов в процесс познания обусловлено целым рядом важных обстоятельств, связанных с необходимостью: 1) преодоления ограниченности органов чувств; 2) преобразования информации об исследуемом объекте в форму, доступную чувственному отражению; 3) создания экспериментальных условий для обнаружения объекта; 4) получения количественного выражения тех или иных характеристик объекта. Таким образом, перед нами особый тип гносеологической ситуации, который коротко можно назвать приборным.
Что же такое прибор? Прибором можно назвать познавательное средство, представляющее собой искусственное устройство или естественное материальное образование, которое человек в процессе познания приводит в специфическое взаимодействие с исследуемым объектом с целью получения о последнем полезной информации.
Очевидно, что тот или иной материальный объект выступает в функции прибора не сам по себе, а лишь тогда, когда он присоединен к органам чувств в качестве особой надстройки над ним и служит специфическим передатчиком информации. Каковы условия этого присоединения? Взаимодействие прибора и объекта должно приводить к такому состоянию регистрирующего устройства, которое может быть непосредственно зафиксировано органами чувств в виде макрообраза. Данное положение подчеркивают многие авторы (Н. Бор, М.А. Марков, В.А. Фок). Оно вытекает, в частности, из того факта, что сам человек «физически, как орудие исследования, представляет собой макроскопический прибор»1.
| 1 Марков М.А. О природе физического знания // Вопросы философии, 1947. № 2. С. 152. |
Все приборы можно условно разделить на два класса — качественные и количественные. Приборы первого класса вводятся в познавательную ситуацию в тех случаях, когда исследователя интересует информация о качественной стороне объекта, причем последняя не может быть получена непосредственно с помощью органов чувств ввиду ограниченности последних.
Важнейшая познавательная функция приборов первого класса состоит в максимальном усилении и расширении познавательных возможностей органов чувств. Однако в зависимости от того, как тот или иной прибор выполняет данную ,функцию, все они могут быть разделены на три типа: 1) усилители, 2) анализаторы, 3) преобразователи1. Рассмотрим каждый из этих типов в отдельности.
Приборы-усилители. Приборы данного типа применяются в тех случаях, когда идущие от объекта сигналы остаются в обычных условиях за порогом ощущений или когда особенности среды затрудняют их непосредственное отражение. Очевидно, что воздействие прибора на сигнал изменяет в последнем лишь его характеристики как физического носителя информации. Другими словами, прибор-усилитель (например, микроскоп) должен так изменить сигнал, чтобы он стал доступен соответствующему органу чувств, при этом сохраняется инвариантной передаваемая сигналами информация. Во всех случаях техническая задача приборов-усилителей состоит в том, чтобы доставлять сигналы любым возможным способом от исследуемого объекта к органам чувств, не меняя при этом качественную определенность выходного сигнала по сравнению с сигналом на входе.
| 1 Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Роль приборов в познании и их классификация // Философские науки, 1970. №6. |
С каким бы типом качественных приборов человек ни имея дело, в конечном счете он получает информацию в виде чувственного образа. Однако в зависимости от используемого типа прибора гносеологический статус названного образа может быть различным. Как известно, любой чувственный образ представляет собой результат наложения двух противоположных процессов и соответственно двух структур — структуры, объективированной в информационном посреднике, и структуры, связанной с характером соответствующей интерпретативной матрицы воспринимающей системы. Аналогично этому «приборные данные», или факты, несут в себе момент двойственности: с одной стороны, они определяются объектом самим по себе и в этом смысле выступают как нечто самодостаточное и первичное по отношению к какой бы то ни было теории, с другой стороны, факты предполагают теоретический контекст их прочтения, и в этом смысле обязательно выступают как «теоретически нагруженные», как нечто такое, что должно быть вписано в концептуальную рамку.
Применяя приборы-усилители в процессе познания, человек получает в каждом конкретном случае образ, который, будучи взятый с точки зрения конечного результата отражения, сохраняет гносеологический статус непосредственного чувственного образа исследуемого объекта. Из сказанного вытекает, что теоретическая картина явления, которую наблюдатель воссоздает с помощью приборов-усилителей, может быть на заключительной стадии описана без всякого упоминания о самом приборе. Другими словами, происходит элиминация прибора из конечного познавательного результата.
Приборы-анализаторы. Необходимость использования приборов-анализаторов связана с особенностями самого исследуемого объекта по отношению к поставленной задаче. В функцию прибора здесь не входит какое бы то ни было изменение сигналов, идущих от объекта; техническая задача приборов-анализаторов (например, спектроскоп, хроматографическая бумага и т. п.) состоит в том, чтобы путем непосредственного воздействия на исследуемый объект (в частности, путем механического, физического или химического его разложения) преобразовать его в такую форму, что появляется возможность получить с помощью органов чувств новую дополнительную информацию.
Рассмотрим в связи с этим один конкретный пример. Допустим, требуется определить химический состав вещества спектральным методом. Для этого прежде всего получают спектрограмму — визуально наблюдаемое распределение спектральных линий вещества
Глава 2. Методы змпиричвшге исшдоваш
на пластинке. Расшифровка спектрограммы осуществляется путем сравнения ее со стандартной спектрограммой, на которой против каждой линии указана соответствующая длина волны. Очевидно, что эталонный образец заключает в себе лишь ранее полученное знание и как таковой не может дать экспериментатору никакой новой информации. Сравниваемый образец, взятый сам по себе, также не может доставить интересующую исследователя информацию. Лишь соединение обоих образцов в рамках особой познавательной операции сравнения (и лишь в том случае, когда названная операция позволяет произвести идентификацию образцов) приводит к получению новой информации.
В чем суть идентификации с гносеологической точки зрения? Непосредственно поступающая при сопоставлении образцов сенсорная информация позволяет лишь установить тождество или различие тех или иных сравниваемых линий. То обстоятельство, что две какие-либо линии оказались в результате сравнения отождествлены, ведет, однако, к важным следствиям. Дело в том, что в отношении линий на стандартной спектрограмме наблюдатель располагает дополнительной информацией (ведь каждая линия здесь однозначно связана с соответствующей длиной волны, а длина волны — с соответствующим химическим элементом). В результате идентификации вся дополнительная информация необходимо переносится на опознаваемый объект. Значит, новая информация возникает в результате переноса (посредством умозаключения) накопленной ранее информации (так называемой априорной информации) на исследуемый объект.
По существу, идентификация позволяет осуществить выбор из всех возможных линий на эталоне какой-то одной линии и тем самым снять исходную неопределенность. А это значит, что мы можем подсчитать и количество полученной информации. Отсюда ясно, что эталон представляет собой набор интерпретированных элементов некоторого языка, который дан наблюдателю заранее. Таким образом, все возможные ответы, каждый из которых может дать производимый
эксперимент на поставленный вопрос, известны заранее и выражены на понятном наблюдателю языке.
Таким образом, хотя восприятие, полученное с помощью прибора-анализатора, возникает в результате непосредственного воздействия выходного сигнала на соответствующий орган чувств, его соотнесение с исходным объектом оказывается опосредованным.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что картина явления, которую воссоздает исследователь с помощью прибора-анализатора, предполагает в известной степени необходимость учитывать тот вклад, который вносит прибор в конечный результат познания (опосредование второго порядка).
Приборы-преобразователи. По существу, любой прибор можно рассматривать как преобразователь входных сигналов, идущих от исследуемого объекта, в выходные сигналы, несущие полезную информацию в форме, удобной для восприятия или технического использования. Уже простейший оптический усилитель — линза — в известном отношении преобразует падающий на нее пучок света. Но это преобразование не носит качественного характера.
Исходя из вышесказанного, целесообразно приборами-преобразователями в собственном смысле слова называть особый тип приборов, предназначенных для изучения класса явлений, объективные свойства которых таковы, что информация о них не может быть в принципе получена непосредственно с помощью органов чувств (равно как и с помощью приборов ранее рассмотренных типов) без качественного преобразования носителя информации (например, электромагнитное поле, инфракрасное излучение, ультразвук и т. п.). Примером одного из первых приборов-преобразователей служит телескоп, изобретенный Г. Галилеем в начале XVII века.
Для получения информации о таких явлениях, как электромагнитное поле, радиация и т. п., необходимо найти или создать искусственное материальное образование, которое обладало бы свойством характерным образом изменяться под влиянием изучаемого явления. При этом указанное изменение должно обладать еледующими свойствами: во-первых, быть непосредственно воспринимаемым органами чувств; во-вторых, по нему можно было бы судить о самом объекте исследования. Частным случаем приборов такого типа являются приборы-индикаторы, функция которых давать сведения о присутствии либо отсутствии искомого явления в исследуемой среде.
При конструировании приборов-преобразователей обычно используют достаточно известные и простые зависимости между физическими величинами, например, механическое воздействие электрического тока и магнитного потока, расширение тел при нагревании, упругая деформация материалов под действием силы.
Показания прибора, на основании которых экспериментатор судит об исследуемом свойстве или явлении, представляет собой конечное звено причинно-следственной связи «объект— прибор». При этом предполагается, что связь причины и следствия носит однозначный характер, т. е. изменения в приборе (вторичная структура) строго соотносятся с однозначно определенным классом явлений, вызывающих это изменение (первичная структура). Очевидно, что показания прибора (следствие) интересуют наблюдателя не сами по себе в качестве чувственного образа регистрирующего устройства, а лишь как сигналы, несущие информацию об исследуемом объекте (причине). Так, в электроскопе, служащем для обнаружения заряда на телах, можно визуально наблюдать по поведению листочков алюминия или станиоля присутствие или отсутствие электрических зарядов.
| 1 См.: Сул К. Пузырьковая камера. Измерения и обработка данных. М., 1970. |
Каковы условия использования любого природного объекта в качестве прибора-преобразователя? Взаимодействие прибора и исследуемого предмета может быть эффективно использовано в целях познания лишь при наличии предварительного знания о свойствах и принципе действия прибора так называемых титульных данных1. Фиксируя изменения, произошедшие в приборе в процессе эксперимента, с помощью наблюдения за регистрирующим устройством, ученый получает такой материал чувственных данных, значение и смысл которого он может расшифровать лишь опираясь на уже имеющуюся у него информацию о тех каузальных связях и закономерностях, которые положены в основу функционирования прибора. Получение информации с помощью прибора-преобразователя связано с «умозаключением» от следствия к причине. Другими словами, информация, которую получает наблюдатель в виде «показаний прибора», носит условный характер. Она предполагает принятие двух посылок:
1) достоверность тех физических гипотез, которые лежат в основе конструкции прибора;
2) техническая исправность прибора.
Вторая посылка, вообще говоря, предполагается во всех случаях применения прибора любого типа. Однако для приборов-преобразователей она имеет особое значение. Все дело в своеобразии гносеологического статуса чувственного образа, получаемого посредством прибора данного типа.
Неисправность приборов первых двух типов часто может быть замечена по характеру самих показаний прибора прежде всего благодаря избыточной информации о получаемых наблюдателем данных. Напротив, в приборах-преобразователях сигналы о тех или иных характеристиках исследуемого объекта хотя и носят чувственно воспринимаемый характер, но не воссоздают никакого чувственного образа самого,объекта познания и поэтому не доставляют какой-либо дополнительной информации, на основании которой можно было бы судить об истинности показаний прибора. Чувственные данные по отношению к объекту опосредованы принятыми посылками, что можно было бы назвать опосредование третьего порядка. Воспринимается не само изучаемое явление, а его изоморфное отображение в виде некоторой структуры. Например, наблюдаемый трек элементарной частицы в камере Вильсона есть не более чем «макрослед» микропроцесса. При анализе показаний прибора экспериментатор исходит из того, что существует известный изоморфизм
Глава 2. Методы змниричесшо иеслвдпвания
между структурой следа и самим микрособытием. О структуре следа можно судить по координатам следа, его длине, радиусе кривизны, изменению направления и другим характеристикам. Наличие изоморфизма и представляет собой средство перевода языка чувственных данных на язык теории.
В отличие от приборов-усилителей здесь уровень процесса восприятия и процесса интерпретации качественно различны. На уровне восприятия показания прибора выступают как сама отраженная реальность, на уровне же интерпретации эти показания есть лишь форма кодирования идущей от отображаемого объекта информации. Поэтому перед субъектом возникает познавательная задача — найти с помощью концептуальных средств объективное соответствие между исследуемым явлением и его отображением в виде приборных данных, поскольку такое соответствие не дано субъекту непосредственно. Установив способ перекодировки, субъект может от показаний прибора перейти к самому явлению.
В большинстве случаев при применении приборов-преобразователей мы сталкиваемся с ситуацией, когда нельзя описать сущность изучаемого явления, не упоминая о приборе. Очевидно, анализируя прибор именно этого типа, М.А. Марков писал: «Прибор входит в само определение явления. Например, в само понятие, в само определение электрического поля входит упоминание о пробном заряде; напряженность электрического поля есть сила, действующая на единицу пробного заряда...»5. Таким образом, прибор-преобразователь не может быть элиминирован ни на уровне восприятия (ибо как посредник он никогда не дан «изнутри» по отношению к наблюдателю), ни на уровне интерпретации (ибо упоминание о нем входит в само определение явления).
| ' Марков М.А. О природе физического знания // Вопросы философии, 1947, №2. С. 153. |
Приборы-регистраторы. В соответствии с принятой нами классификацией, приборы-регистраторы являются приборами третьего класса. Их основная функция — регистрация и хранение полезной информации в форме, допускающей последующее ее восприятие (в том числе с помощью приборов-усилителей), анализ, сравнение и измерение. Самый типичный пример — фоторегистрация на чувствительной эмульсии.
Регистратор (так же, как и измеритель) может быть прибором каждого из рассмотренных выше трех типов. Так, хронограмма является одновременно и анализатором и регистратором. В отличие от приборов первых двух классов регистраторы обязательно предполагают получение показаний прибора в виде документа (фотопленки, магнитофонная лента, перфокарта и т. п.).
В специальной литературе обычно упоминаются два основных способа регистрации исследуемых явлений в виде документов — аналоговый и цифровой. Примером первого способа может служить рычаг-регистратор, царапающий закопченную ленту цилиндра при вращении последнего и воспроизводящий в виде графической кривой эволюцию во времени изучаемого параметра. Для регистрации цифровых данных в последнее время широко используются запоминающие устройства на ферритовых сердечниках.
Кроме двух основных способов регистрации, существует еще один способ, который мы условно называем «аналитическим» (поскольку он связан в первую очередь с приборами-анализаторами). В качестве документов здесь выступают спектрограммы, хроматограммы и т. п.
Что нового несут с собой приборы-регистраторы с гносеологической точки зрения? Их отличительная черта состоит в том, что они позволяют многократно воспринимать одно и то же явление, зафиксированное на фотографии, кинопленке, осциллограмме и т. п. Это свойство становится особенно важным, когда возникает задача изучить какое-либо уникально и быстро протекающее событие (падение метеорита, распад элементарной частицы и т. п.). Возможность длительного хранения информации, полученной с помощью регистраторов, создает ряд других преимуществ в восприятии и переработке информации.
Аналоговый способ регистрации явления в виде графической кривой позволяет исследователю непрерывно следить за динамикой процесса и переводить воспринимаемую картину на теоретический язык. При аналитическом способе документ представляет собой набор статистических образов (спектрограмм), для расшифровки которых используется описанная выше операция сравнения. Что касается цифрового способа, то он с самого начала позволяет регистрировать явление на концептуальном языке количественных данных.
Приборы 4-го класса. Особый (четвертый) класс приборов составляет так называемые измерительные информационные системы (ИИС).
Традиционные качественные приборы предназначены, как правило, для одновременного измерения установившегося значения одной величины. Эти приборы поэтому оказывается непригодными, когда требуется быстрое получение информации. Все чаще ИИС используются также в случаях, когда объект, от которого экспериментатор желает получить информацию, находится в недоступной для человека среде — глубинах океана, на другой планете, в космосе и т. и. Так, был создан, например, ракетный спектрограф, предназначенный для фотографирования коротковолновой области спектра солнца.
| 1 См. Рабинович В.И., Цапенко М.П. Информационные характеристики средств измерения и контроля. М.: Энергия, 1968. |
Использование ИИС имеет целью получение метрической информации непосредственно от объекта исследования и, как правило, сочетает в себе операции измерения и контроля. Обе эти операции можно описать теоретико-информационными методами1. Так как получение результатов при измерении или контроле включает в себя элемент случайности, их правомерно рассматривать как случайные события, а сам эксперимент — как ситуацию, в которой они осуществляются. Как известно, в теории информации анализируются такие ситуации, в которых проявление того или иного возможного события не может быть однозначно предсказано. Дать более полное описание такой ситуации — значить охарактеризовать вероятность появления каждого из событий.
Получение информации об объекте с помощью любого прибора — всегда процедура материальная. Если между объектом и субъектом отсутствует связывающий их информационный поток (хотя бы в виде единичного сигнала), то такой объект оказывается замкнутой для наблюдения системой. Всякое опытное познание поэтому требует установления взаимодействия между наблюдателем и системой, что неизбежно ведет к известному возмущению этой последней. Указанное возмущение нельзя свести к нулю: для взаимодействия необходимо, чтобы в нем участвовал хотя бы один квант энергии.
Установив информационную связь с наблюдаемым объектом, субъект оказывается элементом некоего неделимого целого, в рамках которого ввиду квантовой природы взаимодействия теряется четкое разграничение между наблюдением и исследуемой системой. Поскольку соединяющее объект и субъект квантовое взаимодействие принадлежит взаимно и неделимо обоим элементам познавательной ситуации, то субъект лишается возможности узнать, какая часть результата наблюдения вызвана им самим и какая относится к собственно объекту.
Осознание принципиального характера этого обстоятельства имеет особое значение при построении интерпретации квантовой механики, изучающей явления микромира и формулирующей законы поведения микрообъектов.
| Абстрагирование — важнейший метод научного постижения реальности. Результатом применения этого метода является абстракция. Процесс научного освоения мира человеком необходимо предполагает выработку соответствующих концептуальных элементов знания — абстрактных объектов, понятий, категорий и т. п. |
щ Абстрагирование и абстракция в структуре научного знания
Хотя наука всегда пользовалась абстракциями, однако их особое место в концептуальной структуре научных теорий стало достаточно очевидным лишь в свете тенденций современной научной революции. Наука прошлого, в сущности, была «земной» наукой, т. е. эмпирическим обобщением обыденного опыта людей, окружающих человека макроскопических условий. В числе исходных принципов этой науки поэтому важную роль играл принцип наглядности. Используемые абстракции легко находили более или менее прямую интерпретацию или аналогию на языке чувственных восприятий. Выход научного познания за рамки макромира и земных условий (обычных скоростей, давлений, температур и т. п.) породил процесс элиминации наглядности из содержания научных теорий. С этого момента знание становится все более «абстрактным», все более удаленным по своему содержанию от мира непосредственно воспринимаемых вещей и явлений. Прогресс знания во многих областях науки характеризуется переходом к построению теоретических систем все более высокого уровня абстракции с использованием абстракций первого, второго, третьего и т. д. порядков. Таким образом, в силу самой логики развития современного знания ученый оказывается перед необходимостью задумываться над природой используемых им абстракций, равно как и других элементов теоретической системы. В чем же сущность абстракции как средства теоретического отражения реальности? Какое место занимает абстракция в структуре знания? Каков ее гносеологический статус? Прежде чем обратиться к рассмотрению указанных вопросов, целесообразно хотя бы кратко проанализировать истолкование этой проблемы в историко-философском плане.
Проблема абстракции в истории философии
Платонизм, номинализм и концептуализм. Абстракция есть способ мысленного членения реальности, механизм которого тесно связан с самой нашей возможностью рационального постижения наблюдаемого мира. Отсюда, то или иное понимание сущности абстрагирования в известной степени предопределяет соответствующее толкование природы познания вообще. И наоборот, та или иная общегносеологическая установка оказывает непосредственное влияние на разрабатываемую в русле этой установки теорию абстракций. Так, в основе методологии платонизма лежит тезис, согласно которому членение мира в нашем мышлении происходит в соответствии со структурой идеальных умопостигаемых сущностей, скрытых за кулисами той сцены, на которой разыгрываются наблюдаемые явления. Напротив, исходное допущение концептуализма состоит в том, что любое понятие есть продукт нашего ума, перерабатывающего в соответствии со своими целями материал чувственно данного в умственные конструкты.
| 1 Аристотель. О душе. Гос. соц. эк. изд., 1937. С. 102. 2 Аристотель. Метафизика. М., 1934. С. 220. |
Идея абстрагирования как особой формы познавательной активности ума принадлежит, по-видимому, Аристотелю. «То, что называется абстракцией, — писал Аристотель, — (ум) мыслит, как бы он мыслил кур-носость: или как курносость в виде неотделимого свойства, или как кривизну, если бы кто действительно ее помыслил, — помыслил бы без тела, которому присуща кривизна; так (ум), мысля математические предметы, берет в отвлечении, (хотя они и) неотделимы (от тела)»1. В другом месте Аристотель разъясняет: «...Если принять, что математические предметы существуют как некоторые отдельные реальности, то приходишь в столкновении и с истиной и с обычными взглядами (на то, как обстоит дело)»2. Из рассуждений философа можно заключить, что в его толковании механизма абстракции как бы неявно присутствуют, своеобразно сочетаясь, некоторые посылки платонизма и концептуализма в их «снятом» виде. Аристотель допускает существование, например, кривизны как объективной «универсалии», однако общее существует не вне чувственно воспринимаемых вещей (как это полагал Платон), а неотделимо от них.
Но, преобразовав таким путем тезис платонизма, Аристотель оказался перед новой трудностью: поскольку областью ментального познания является не единичное, а всеобщее, то каким образом это последнее оказывается отделенным в мышлении от единичного? Чтобы разрешить это затруднение, Аристотель вводит новое в методологическом плане допущение о существовании особой умственной операции — абстрагирования. Но если абстракция есть лишь чисто мысленное разделение того, что в самой действительности существует нераздельно, то и результат абстракции — общее, по крайней мере, каким мы его знаем, существует только в уме познающего. Именно в этом пункте Аристотель принимает гипотезу, родственную концептуалистской доктрине.
В отличие от Аристотеля сторонники платонизма исходят из того, что абстракция есть результат умственного постижения некоторых интеллигибельных реальностей, так называемых универсалий (как их стали называть в эпоху Средневековья), таковы, например, вид, род, класс, отношение. Таким образом, представители платонистекой методологии настаивают на том, что абстракциям соответствует некая реальность, которая носит идеальный характер. Последнюю, конечно, вовсе не обязательно представлять себе в виде особого мира идеальных сущностей Платона, предшествующих единичным вещам. Современные платонисты скорее склонны рассматривать эту умопостигаемую реальность как некий аспект той же реальности, другой аспект которой мы постигаем в чувствах. Однако умопостигаемая природа бытия в своей сущности не может быть понята вне универсальных категорий, которые вырабатываются самим разумом или изначально ему присущи. Смысл той или иной абстракции, утверждают платонисты, логично пытаться искать в сфере самого мышления через другие абстракции, опираясь на законы логики, принцип непротиворечивости, принцип связности и др.
В Средние века известное распространение получила еще одна версия в истолковании природы абстракций. Речь идет о методологии номинализма (Р. Бэкон, У. Оккамидр.), согласно которой предметный мир вне сознания — это исключительно чувственный мир, состоящий из отдельных отличных друг от друга вещей и явлений. Общего не существует не только как самосущих универсалий, но и как общего в вещах. Экстравагантность номиналистической гипотезы бросается в глаза уже при взгляде на мир с точки зрения здравого смысла. Сходство вещей — важный элемент нашего обыденного опыта. Можно ли отрицать сходство двух лягушек или двух цветков ромашки? То, что отдельные фрагменты опыта могут походить друг на друга, — это, вообще говоря, вовсе и не отрицается номиналистами. Для них важно то, что в силу уникальности всего существующего факт сходства является чем-то случайным и внешним для самих сравниваемых вещей.
Методология номинализма сохраняет свое влияние на науку и по сей день, в особенности это касается метатеоретических исследований в области оснований математики (У. Куайн, Н. Гудмен и др.). Отказываясь видеть за абстракциями какое бы то ни было онтологическое содержание, современные номиналисты отнюдь не избегают пользоваться ими в теории. Они настаивают только на том, чтобы абстракции вводились в теорию лишь как термины, смысл которых определяется контекстом.
| 1 См. ЛоккД. Антология мировой философии. М: Мысль, 1970. С. 421 -423. |
Промежуточную позицию между платонизмом и номинализмом занимает концептуализм. Один из его наиболее известных представителей Локк учил1, что все вещи по своему существованию единичны; общее и универсальное создано разумом для собственного употребления и касается только знаков — слов и идей. Слова бывают общими, когда употребляются в качестве знаков общих идей и потому применимы одинаково ко многим отдельным вещам. А идеи становятся общими оттого, что от них отделяют обстоятельства времени и места и все другие идеи, которые могут быть отнесены лишь к тому или другому отдельному предмету. Посред-
Глава 2. Мртрды змпнричвскргр исследования
ством такого абстрагирования идеи становятся способными представлять более одного индивида, а каждый индивид, «имея» в себе сообразность с такой отвлеченной идеей, оказывается принадлежащим к соответствующему виду. Таким образом, то общее, которое остается в результате абстрагирования, есть лишь то, что мы сами создали, ибо его общая природа есть не что иное, как данная ему разумом способность обозначать или представлять много отдельных предметов; значение его есть лишь прибавленное к нему человеческим разумом отношение.
По сравнению с номинализмом современная концептуалистская версия кажется более гибкой, ибо она определенно настаивает на творчески активной природе разума, на том, что реальность всегда предстает перед нами в облачении концептуальных схем и что решающим аспектом семантики понятийного аппарата научных теорий является не денотативный, а интенсиональный. Подтверждение этому обычно видят в некоторых особенностях современного научного знания, например, в факте существования альтернативных систем геометрии, взаимоисключающих толкований квантовой механики и т. п.
Абстракция и проблема адекватности. В философской литературе можно встретить и еще один весьма распространенный тезис, согласно которому «всякая абстракция есть приближение к реальности»; отсюда одна абстракция отличается от другой с точки зрения их адекватности лишь степенью приближения: одни абстракции удерживают больше характерных черт изучаемых объектов и тем самым оказываются ближе к действительности, другие связаны с отвлечением гораздо большего числа черт и в результате более удалены от предметного мира (хотя и выигрывают с точки зрения общности).
В современной литературе развивается несколько различных подходов к проблеме абстракции. Один из самых распространенных восходит к когнитивной психологии и основан на идее творческой активности мышления, порождающего абстракции как новые смыслы, сквозь призму которых человек видит и истолковывает предметный мир. Конструктивная сила ума заключается в способности изобретать все новые и новые гипотезы, конечная цель которых не столько отобразить мир, сколько адаптироваться к нему.
Абстракция и сруктура реальности. Каковы же объективные основы абстрагирования? Какая существует связь между теоретическими конструктами науки и структурами реальности? В связи с этим можно выделить следующие моменты.
Во-первых, любой объект существует лишь в определенных условиях, определенной среде, по отношению к которой он и обнаруживает те или иные свойства. В зависимости от среды одни свойства объекта проявляются в ней достаточно определенно, другие — неотчетливо, а третьи вообще никак себя не обнаруживают. В равной степени это справедливо и в отношении действующих на объект внешних факторов. Иначе говоря, в эмпирической ситуации (например, в эксперименте) происходит своего рода редукция многообразия потенциальных свойств объекта к конечному набору его актуальных свойств. В познании эта редукция служит объективной основой для исходной ступени процесса абстрагирования. Эмпирически фиксируя лишь актуальные свойства и экспериментально неустранимые факторы среды, исследователь получает право отвлечься от всех остальных свойств и факторов как посторонних в рассматриваемом решении.
Во-вторых, по отношению к среде свойства объекта делятся на два типа: одни свойства замкнуты на данную конкретную ситуацию (напр., зависят отданной системы отсчета), другие остаются неизменными при переходе от одной ситуации к другой. Наличие таких инвариантов служит объективной основой более высокой ступени абстрагирования. В познании в связи с этим возникает задача расслоить слитную на уровне эмпирии картину реальности: рациональным способом отделить то, что зависит от данных условий, от того, что является инвариантным. Поиск нового, еще не открытого инварианта есть одновременно и формирование нового смысла, нового понятия. Абстракция в этом случае выступает как способ порождения новой семантики посредством свертывания некоторого чувственно или концептуально данного объекту многообразия в новую целостность. Из опытов по психологии известно, что одних только чувственных данных недостаточно, чтобы у ребенка сформировалось восприятие некоторого объекта. Необходима еще его двигательная и предметно-чувственная активность. Новый образ возникает как результат вычленения того, что инвариантно во взаимоотношениях между системой движений, осуществляемых перципиентом, и изменениями всего его многообразия чувственных данных.
Нечто аналогичное имеет место и на теоретическом уровне. Абстракция абсолютного времени в классической механике имела подтверждение в довольно широкой сфере опыта и опиралась на факт инвариантности временных характеристик. Позднее, однако, было показано, что в релятивистской области время нельзя рассматривать «само по себе», безотносительно к системе отсчета. Принцип относительности выступил как запрет на возможность отвлечения от «условий локализации» при описании времени. Вообще можно сказать, что принцип относительности в физике в методологическом плане играет роль закона, регулирующего наши возможности строить абстракции при объяснении природы. Он может наложить запрет на одни абстракции (такие, например, как «абсолютное пространство»), и, напротив, придать законную силу формированию других (например, таким как «пространственно-временной континуум»).
В-третьих, объект, вступая в те или иные взаимодействия, ведет себя специфичным для него образом. Непосредственным предметом естественно-научного исследования является поэтому не объект сам по себе, а характер его поведения в том или ином «контексте взаимодействия», т. е. определенная регулярность в протекании явления.
Из сказанного следует, что процесс абстрагирования никогда не бывает беспредельным. На том или ином этапе познания исследователь обнаруживает некие «запреты природы», предельные ситуации, границы, когда потенциальное становится актуальным, постороннее — релевантным, инвариантное — относительным. Достижение этих границ, объективно предопределяющих интервал абстракции, означает, что познание должно перейти к новой абстракции с более широким интервалом. Так, переход механики к изучению процессов в релятивистской области показал, что с некоторого момента конкретное значение скорости, которую имеет движущаяся система отсчета, уже не может квалифицироваться как посторонний фактор. Учет же нового фактора потребовал совершенно иначе расслоить реальность на относительное и абсолютное (например, статус абсолютного сохранить не за пространством и временем, а за пространственно-временным континуумом).
| 1 Гейзенберг В. Квантовая механика и беседы с Эйнштейном. Природа, 1972, № 5. С. 85. |
Попытки расширить область применимости той или иной научной абстракции, — какой бы плодотворной она ни была — за пределы интервала лишают ее строгого смысла и делают проблематичной в рамках строгой теории. В. Гейзенберг вспоминает, что в период, предшествующий созданию квантовой механики, физики чувствовали под своими ногами зыбкую почву, ибо «понятия и представления, перенесенные в атомную область из старой физики, оказывались верными лишь на половину, и, пользуясь старыми средствами, нельзя было заранее указать точные границы их применимости»1. В классической физике, например, существовало понятие координаты и импульса частицы. На уровне той метрической точности, которая возможна в рамках макромира, указанные величины имели прозрачный физический смысл. Напротив, в микромире на некотором шаге повышения точности измерения данных величин экспериментатор сталкивается со следующей ситуацией: если фиксирована точность измерения одной величины (Ар), то обнаруживается принципиальный предел повышения точности измерения другой величины (Ах); аналогично, если фиксирована точность измерения Ах, то нет такого способа, который бы обеспечил измерение импульса с точностью, большей, чем в интервале значений Ар > h/Дх. В гносеологическом плане данный интервал значений является интервалом абстракции, определяющим рамки применимости классических понятий, за пределами которых эти понятия теряют однозначный смысл.
Следует отметить, что в естественных науках интервал абстракции в ряде случаев отображается посредством той или иной абстрактной математической структуры. Так, в классической физике состояние элементарных объектов (координаты и скорость материальной точки в механике, напряженность поля в теории поля) характеризуются точкой в некотором многомерном евклидовом пространстве; состояние элементарных объектов в квантовой механике задается уже вектором «пространства» функций — гильбертова пространства1.
Вопрос о том, каким образом в процессе познания отыскивается и фиксируется тот или иной интервал абстракции в рамках определенной теории, требует специальных историко-научных исследований. В некоторых случаях интервал применимости тех или иных понятий, равно как и теории в целом может быть строго установлен только после того, как мы от частной теории (например, классической механики) перешли к обобщающей теории (например, релятивистской механике) и с позиции этой более широкой теории получили возможность «взглянуть» на концептуальный аппарат исходной теории.
| 1 См. Акчурин И.А. Единство естественно-научного знания. М: Наука, 1974. С. 44-45. |
Важно отметить, что в строгом смысле слова фиксация интервала абстракции возможна лишь на теоретическом уровне, а не на экспериментальном. Эксперимент может выявлять лишь то или иное «эмпирическое сечение» интервала. Понятие «сечения» непосредственно связано с понятием интервальной ситуации. Последняя представляет собой такую совокупность эмпирически фиксируемых условий, в рамках которой исследуемое явление протекает в «чистом виде».
Интервальная ситуация, с одной стороны, представляет собой нечто эмпирически фиксируемое (например, какая-то конкретная лаборатория), с другой стороны, является реализацией определенного интервала абстракции, его эмпирическим сечением при заданной точности верификации. Существование интервальных ситуаций есть важнейшее условие рациональности, условие научной познаваемости объективных законов природы.
Интервал абстракции не может быть задан только субъектом, ибо если он целиком определяется субъектом, то что здесь может служить основанием? Основания бывают либо объективными, либо субъективными. Принимая в качестве основания субъективный фактор (ту или иную конвенцию, соображения удобства, желаемые цели и т. п.), мы лишили бы понятие интервала абстракции какого бы то ни было объективного содержания.
Но интервал абстракции не может быть задан и только природой, ибо последней не свойственно производить выбор того или иного интервала в смысле «наличного бытия» (скажем, выбор волнового или корпускулярного проявления микрообъекта в экспериментальных условиях в процессе исследования микромира). Только субъект своими активными практическими и познавательными действиями способен на такой выбор в соответствии со своими конкретными потребностями и целями. Таким образом, в действительности интервал абстракции представляет собой совпадение объективного и субъективного, реализуемое в историческом развитии человеческой практики.
| 1 См. Яновская С.А. Методологические проблемы науки. М., 1972. |
Пользуясь понятиями интервала абстракции, можно обратиться к гносеологическому рассмотрению процедуры «восполнения абстракции». Последняя связана с различными формами выявления объективного содержания и конструктивного смысла, применяемыми в рамках определенной теоретической системы абстракций. Термин «восполнение абстракции» принадлежит А.А. Маркову и С.А. Яновской1. Идеявосполнимости призвана выразить то обстоятельство, что применить ту или иную «абстрактную» теорию на практике возможно только тогда, когда мы умеем восполнить ее абстрактные термины конкретным содержанием на операциональном и экпериментальном уровнях. Из истории познания известно, что всегда могут существовать такие реальные ситуации, относительно которых восполнение какой-то конкретной абстракции невозможно. Так, в кабине находящегося на орбите космического корабля понятию веса тела нельзя придать физической содержательности. В рамках данной интервальной ситуации указанная абстракция не осмыслена.
Однако, если какая-то абстракция (или абстрактный объект) вообще не может быть восполнена конкретным содержанием, если не существует такой интервальной ситуации, в рамках которой она может быть предметно истолкована, то она вообще не имеет никакого научного смысла. Здесь мы принимаем методологический тезис С.А. Яновской, согласно которому «в науке допустимы такие абстрактные объекты, которые можно (хотя бы и в некоторых, практически важных случаях) «удалить»: наполнить их конкретным содержанием»1. Именно этот тезис отличает интервально-конструктивисткую теорию абстракций, с одной стороны, от платонизма (который допускает любые абстрактные объекты), с другой стороны, от номинализма (который не допускает никаких абстрактных объектов).
1 Индукция
| ' Яновская С.А. Номинализм. Философская энциклопедия. Т. 4. 1967. |
Наряду с абстрагированием, важнейшим методом научного познания на эмпирическом уровне познания является индукция. Индукция — это метод движения мысли от менее общего знания к более общему. В качестве посылок индуктивных выводов обычно выступают или множество высказываний, фиксирующих единичные наблюдения (протокольные предложения) или множество фактов (в форме универсальных или статистических высказываний). Заключением же индуктивных выводов часто являются универсальные высказывания об эмпирических законах (причинных или функциональных). Так, в XVIII веке Лавуазье на основе многочисленных наблюдений того, что ряд веществ, подобно воде и ртути, может находиться в твердом, жидком и газообразном состоянии, делает очень значимый для химической науки индуктивный вывод, что все вещества могут находиться в трех указанных выше состояниях. Указанный выше пример индуктивного вывода относится к такому их классу, который называется перечислительной индукцией. Перечислительная индукция — это умозаключение, в котором осуществляется переход от знания об отдельных предметах класса к знанию обо всех предметах этого класса или от знания о подклассе класса к знанию о классе в целом (в частности, это могут быть статистические выводы от образца ко всей популяции). Имеются две основных разновидности перечислительной индукции: полная и неполная. В случае полной индукции мы имеем дело, во-первых, с исследованием конечного и обозримого класса. Во-вторых, в посылках полной индукции содержится информация о наличии или отсутствии интересующего исследователя свойства у каждого элемента класса. Например, посылки утверждают, что каждая планета Солнечной системы движется вокруг Солнца по эллиптической орбите. Заключением полной индукции является общее утверждение — закон «Все планеты Солнечной системы движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам», которое относится ко всему классу планет. Очевидно, что заключение полной индукции с необходимостью следует из посылок. Однако, очевидно и другое. А именно, что наука очень редко имеет дело с исследованием конечных и обозримых классов. Как правило, формулируемые в науке законы относятся либо к конечным, но необозримым в силу огромного числа составляющих их элементов классов, либо к бесконечным классам. В таком случае ученый вынужден делать индуктивные заключения обо всем классе на основе множества утверждений о наличии какого-либо интересующего его свойства только у части элементов этого класса. Такая разновидность перечислительной индукции называется неполной индукцией. Очевидно, что заключения выводов по неполной индукции не следуют с логической необходимостью из посылок, а только, в лучшем случае, подтверждаются последними. Все такие заключения MOiyT быть опровергнуты в будущем в ходе фиксации отсутствия интересующего нас свойства у остальных, неисследованных ранее элементов данного класса. Таких примеров наука знает огромное множество (доказательство ложности индуктивных заключений о том, что «все рыбы дышат жабрами» или что «все лебеди — белые» и т. д. и т. п.).
Заключения по неполной индукции всегда являются незаконными с логической точки зрения и гипотезами в гносеологическом плане. При. неполной индукции ученый сталкивается с явной ассиметрией подтверждения и опровержения. Любой вновь обнаруженный подтверждающий (верифицирующий) факт не добавляет ничего эпистемологически нового, но единственный опровергающий (фальсифицирующий) факт ведет к отрицанию обобщения в целом.
Таким образом, в методологическом плане верифицируемость и фальсифицируемость оказываются несимметричными. Правда, в начальный период сбора фактов и накопления систематических наблюдений как положительные, так и отрицательные факты являются равновероятными и, следовательно, заключают в себе одинаково значимую информацию. Здесь еще нет ас-симетрии. Однако в ситуации, когда фальсифицирующие факты долго отсутствуют в проводимых наблюдениях, растет психологическая уверенность в их малой вероятности. Придя к выводу, что вероятность отрицательных фактов близка к нулю, мы оказываемся в ситуации, когда каждый новый верифицирующий факт уже не несет никакой новой информации. Напротив, обнаружение факта, опровергающего индуктивное заключение, — в виду его полной неожиданности — содержит в себе, в формальном смысле, бесконечное количество информации.
Кроме перечислительной индукции в науке используются такие ее виды, как индукция через элиминацию, индукция как обратная дедукция и подтверждающая индукция. Идея индукции через элиминацию впервые была высказана в работах Ф. Бэкона, который противопоставил ее перечислительной индукции как более надежный вид научного метода. Согласно Бэкону, главная цель науки — нахождение причин явлений, а не их обобщение. А потому научный метод должен служить открытию причинно-следственных зависимостей и доказательству утверждений об истинных причинах явлений. Смысл индукции через элиминацию заключается в том, что ученый сначала выдвигает на основе наблюдений за интересующим его явлением несколько гипотез о его причинах. В качестве таковых могут выступать только предшествующие ему явления. Затем в ходе дальнейших экспериментов, наблюдений и рассуждений он должен опровергнуть все неверные предположения о причине интересующего его явления. Оставшаяся неопровергнутой гипотеза и должна считаться истинной. Высказав идею индукции через элиминацию, Бэкон, однако, не предложил конкретных логических схем этого вида индуктивного рассуждения.
Эту работу осуществил в середине XIX века английский логик Дж.Ст. Милль. Разработанные им различные логические схемы элиминативной индукции впоследствии получили название методов установления причинных связей Милля (методы сходства, различия, объединенный метод сходства и различия, метод сопутствующих изменений и метод остатков). Все методы Милля опираются на следующее определение существования причинно-следственной связи между событиями: если наблюдаемое явление А имеет место, а наблюдаемое явление В за ним не следует, то А — не причина В; если В имеет место, а А ему не предшествует, то А ■— не причина В. Правило метода сходства: «Если два или более случая подлежащего исследованию явления имеют общим лишь одно обстоятельство, то это обстоятельство, — в котором только согласуются все эти случаи — есть причина данного явления»1.
Правило метода различия гласит: «Если случай, в котором исследуемое явление наступает, и случай, в котором оно не наступает, сходны во всех обстоятельствах, кроме одного, встречающемся лишь в первом случае, то это обстоятельство — в котором одном только и разнятся эти два случая, есть... причина... или необходимая часть причины явления»2
Метод остатков: «Если из явления вычесть ту его часть, которая, как известно из прежних индукций, есть следствие некоторых определенных предыдущих, то остаток данного явления должен быть следствием остальных предыдущих»3.
Таким же образом Милль формулирует два других метода: метод сопутствующих изменений и объединенный метод сходства и различия. Он считал, что сформулированные им индуктивные каноны являются:
а) методами открытия и доказательства причин-
ных законов;
б) единственно возможными научными методами
доказательства таких законов.
«Если когда-либо открытия делались путем наблюдения и опыта без помощи всякой дедукции, то наши четыре метода — методы открытия. Но даже если бы они не были методами открытия, все же было бы верно, что это — единственные методы доказательства; а раз это так, то к ним можно свести также и результаты дедукции. Великие обобщения, впервые появляющиеся в виде гипотез, должны быть в конце концов доказаны и действительно доказываются... при помощи этих четырех методов».*
| ' Милль Дж.Ст. Система логики силлогистической и индуктивной. М.,1914. С. 354. 2 Там же. С. 355. 3 Там же. |
Насколько обоснованы подобные претензии сторонников эмпирико-индуктивистской концепции? Анализ показывает, что все пункты индуктивистской программы являются несостоятельными. В отношении методов Милля еще Э. Апельт показал, что их логическая форма суть не что иное как форма разделительного умозаключения дедуктивной логики, а именно косвенное доказательство формы modus tollendo ponens разделительного умозаключения. Посылки такого умозаключения имеют форму. 1) AVBVC; 2) не — А, не — С. Заключение: следовательно В, где V— знак строгой дизъюнкции (либо-либо). Необходимыми требованиями состоятельности подобного доказательства являются, как известно, следующие:
1) полнота произведенной дизъюнкции относительно возможной причины явления;
2) строго взаимоисключающий характер членов дизъюнкции;
3) доказательство несомненной ложности всех альтернатив, кроме одной.
| 1 Чупров А.И. Очерки по теории статистики. М., 1959. С. 111. |
Насколько это выполнимо в реальном эмпирическом исследовании? Как справедливо отмечал в этой связи известный русский статистик А.И. Чуп-ров: «Результаты наших наблюдений и экспериментов, как бы тщательно не проводили их, никогда не представляются в виде связи А + В -f С со следствием А' + В' + С", а неизменно облекаются в форму связи причин А+В + С + Х со следствиями А- + В- + С (или причин А + В + С со следствиями А' + В' + С" + У). Если считаться с этим обстоятельством, то методы индукции Милля перестают быть приложимыми. Если же с ними не считаться, а слепо полагаться на правила индуктивных методов, то мы рискуем не придти ни к каким выводам или, что того хуже, придти к выводам неверным: констатировать наличность причинной связи между явлениями, друг от друга не зависящими, и отсутствие связи там, где она действительно есть»1. Вердикт: как и в случае перечислительной индукции (неполной), индукция через элиминацию ведет на практике в лучшем случае к предположительному, вероятностному знанию (о причине исследуемого явления или о его следствиях), а не к доказательному утверждению.
Как и неполная перечислительная индукция, элимина-тивная индукция может выступать в лучшем случае только методом открытия и обоснования эмпирических научных гипотез. При этом индукция очевидно не является единственным методом выдвижения научных гипотез. И с гносеологической точки зрения она в этом отношении не обладает какими-либо преимуществами по сравнению с другими методами выдвижения и открытия гипотез, например, с интуицией.
Следующей формой индукции является понимание и определение ее как обратной дедукции. Такое истолкование индуктивного метода в науке было предложено Ст. Джевонсом и В. Уэвеллом, заложившими основы гипотетико-дедуктивной модели научного познания. Согласно этим ученым, индуктивный путь мысли от наблюдений и фактов к выдвижению объясняющих их гипотез, научных законов всегда включает в себя индуктивный скачок, основанный на вне-логической, интуитивной компоненте исследования. Однако, в науке интуиция должна в конечном счете проверяться и контролироваться логикой, которая может быть только дедуктивной и никакой другой по своей сути. И Дже-вонс и Уэвелл, четко сознавая неоднозначный характер движения мысли от частного к общему, от фактов к законам, считали логически правомерным выдвижение различных гипотез, отправляясь от одних и тех же данных (посылок). Однако, они полагали, что после того, как гипотезы выдвинуты, можно отделить индуктивно правильные гипотезы от индуктивно не-правиль-ных. С их точки зрения, те и только те гипотезы являются индуктивно правильными, из которых дедуктивно следуют те основания (посылки), которые лежали в основе их выдвижения. Таким образом, критерием правильной индукции выступает дедукция: только то индуктивное восхождение мысли от частного к общему является логически правильным, которое в обратном направлении является строго логическим (дедуктивным).
Особенностью истолкования индукции как обратной дедукции по сравнению с ее перечислительным и элиминативным пониманием (определением) является прежде всего то, что оно резко расширила объем понятия «индукция» и «индуктивный вывод», не налагая каких-либо ограничений на логическую форму посылок и заключения индукции. Во-вторых, при понимании индукции как обратной дедукции появилась возможность не ограничивать применение индукции только эмпирическим уровнем познания, а понимать ее как общенаучную процедуру, которая может быть использована на любых уровнях научного познания и в любых науках. Главным же недостатком понимания индукции как обратной дедукции является то, что она разрешает бесконечное число «правильных» индуктивных восхождений от одних и тех же фактов к их «обобщениям» (законам). Это резко обостряет вопрос о существовании или выработке научных критериев предпочтения одной «правильной» индуктивной гипотезы другой. Хотя, заявлял Ст. Джевонс, все «теории — суть в сущности сложные гипотезы, и их так и нужно называть»1, однако, должен быть предложен внутринауч-ный критерий, позволяющий осуществлять рациональный выбор наиболее предпочтительной из индуктивно правильно полученных научных гипотез. Таким критерием Джевонс предложил считать количество фактов и наблюдений, дедуктивно выводимых из различных гипотез, то есть их объяснительную силу. Та индуктивная гипотеза является более предпочтительной, из которой логически следует бульшее количество известных науке определенного периода данных. Фактически Ст. Джевонс первым среди философов четко поставил вопрос о вероятностно-статистической значимости эмпирических гипотез, о необходимости выработки рациональных критериев отличия более вероятных гипотез от менее вероятных.
| 1 Ст. Джевонс. Основы науки. Трактат о логике и научном методе. СПб., 1881. С. 304. |
Он считает понятия «индукция» и «вероятность» органически связанными. С одной стороны, «всякое индуктивное заключение не более чем вероятно... так что логическое достоинство всякого индуктивного результата определяется сознательно или бессознатель-
Глава 2. Методы змннричвскргр иссдвднвания
но принципами обратного метода вероятности»1. С другой — сама вероятность трактуется Джевонсом как «всецело принадлежащая уму», как степень нашего знания того, что имеет место в объективной действительности. В этой связи он подчеркивал особое место теории вероятностей среди других наук. «Эта теория представляется мне самым величественным созданием ума, и я решительно не могу понять, каким образом люди, как Огюст Конт и Д.С. Милль, могли так умалять ее значение и задавать праздный вопрос о ее действительности»2. Таким образом, в гипотетико-дедуктивной модели научного познания Ст. Джевонса индукции четко отводится роль только метода подтверждения научных законов и теорий, а само подтверждение интерпретируется как вероятностная оценка (функция) по самой своей природе. Конечно, его пожелание о том, что «формулируя всякий закон, мы должны прибавлять к нему цифру числа примеров, в которых по наблюдению он оказывался верным»3, выглядит явно наивным с точки зрения практики научного познания, ибо в реальной науке так никто не поступает. Однако, сформулированная им проблема «индукция и вероятность» надолго станет одной из центральных в методологии науки.
| ■ Ст. Джевонс. Основы науки. Трактат о логике и научном методе. СПб., 1881. С. XX. 2 Там же. С. 193. 3 Там же. |
Уже к середине XIX века для большинства научно-ориентированных философов и ученых с развитой методологической рефлексией стало очевидно, что эмпирический опыт, наблюдения и эксперименты, сколь бы многочисленными они ни были, принципиально (с логической точки зрения) не способны доказать истинность научных законов и теорий, которые имеют характер универсальных, всеобщих утверждений. В свое время очень четкую формулировку такого понимания процесса научного познания дал Ф. Энгельс: «Формой развития естествознания, поскольку оно мыслит, является гипотеза». В таком же стиле высказывались многие крупные ученые. Так, создатель теории электричества М. Фарадей писал: «Свет мало знает о том, сколько мыслей и теорий, прошедших в уме научного исследователя, было подавлено в молчании и тайне его собственной критикой или проверкой противников; мало знает, что в примерах даже величайшего успеха не осуществлялось и десятой доли догадок, надежд, желаний и предварительных заключений»1. А один из основоположников статистической физики и создатель молекулярно — кинетической теории газов Л. Больцман прямо подчеркивал, что гипотеза есть не только «предварительное заключение», но и окончательная форма существования научного знания. «...Наши теории никоим образом не построены из логически неопровержимых истин; напротив, они состоят из более или менее произвольных картин, рисующих связь явлений, именно — из так называемых гипотез... Это относится как к старым теориям, многие из которых в настоящее время являются спорными, так и к самым новейшим, жестоко ошибающимся, если они мнят себя свободными от всяких гипотез»2.
| : Цит. по: Джевонс Ст. Основы науки. Трактат о логике и научном методе. СПб. 1881. С. 33, 2 Больцман Л. Статьи и речи. М., 1970. С. 165. 3 Эйнштейн А. Сборник научных трудов. Т. 4. М., 1967. С. 14— 15. |
Из приведенных выше высказываний великих творцов науки XIX века однозначно вытекала их оценка роли индукции как метода научного познания: индукция не является и не может быть методом открытия и доказательства научных законов и теорий. В лучшем случае она выполняет только функцию их вероятного подтверждения опытными данными, фиксируемыми в единичных или частных эмпирических высказываниях. Для большинства ученых XX века эта методологическая идея становится аксиомой. Их позиция четко сформулирована А. Эйнштейном: «Здесь не существует метода, который можно было бы выучить и систематически применять для достижения цели. Исследователь должен скорее выведать у природы четко формулируемые общие принципы, отражающие определенные общие черты огромного множества экспериментально установленных фактов»3.
В XX веке в философии науки были предприняты существенные усилия по исследованию индукции как метода подтверждения научных законов и теорий. Центральной проблемой здесь явилась прежде всего логическая и методологическая экспликация понятия «подтверждение». Существуют две основных экспликации (интерпретации) данной категории. Первая интерпретирует «подтверждение» в духе традиционного понимания индукции как способа аргументации (вывода) от частного к общему. При этом не имеет значения конкретный вид этой аргументации (перечислительная индукция, элиминативная индукция или индукция как обратная дедукция). С этой точки зрения «подтверждением» является любой способ аргументации отАкй, когда обратный способ аргументации от В к А является дедукцией, понимаемой как логически необходимый вывод от более общего к менее общему (частному) знанию. Именно такое понимание «подтверждения» соответствует, на наш взгляд, его употреблению в реальной науке, например, когда говорят, что некоторый закон или теория «подтверждены» или «хорошо подтверждены» фактами или, что теория Л «лучше подтверждена» определенными фактами, чем теория В.
Другое понимание категории «подтверждение» было развито в неоиндуктивизме логического позитивизма (Дж. Кемени, Р. Карнап и др.). Согласно этому истолкованию (определению) «подтверждения», это такой тип логического отношения между двумя высказываниями А и В (независимо от их логической формы и содержания), когда:
а) между ними нет логического противоречия;
б) В логически не следует из Л, а А может следовать
из В, а может и не следовать.
Такое понимание «подтверждения» основано, с одной стороны, на дихотомии понятий «подтверждение» и «логический вывод», а с другой — на отождествлении понятий «логический вывод» и «дедукция». С этой точки зрения, если между любыми двумя высказываниями определенной языковой системы (например, некоторой научной теории) нет противоречия, то
Раздел II. Структура, методы и развитие ваучиогв звавив
они находятся в отношении взаимного «подтверждения», каково бы ни было их содержание.
Такое противопоставление «подтверждения» и «дедукции» и одновременно отождествление понятий «подтверждение» и «индукция» составило концептуальную основу неоиндуктивизма — логического позитивизма, пришедшего на смену классическому индук-тивизму Бэкона — Милля. Примечательно, однако, то, что и в первом варианте истолкования индукции как подтверждения и во втором варианте само «подтверждение» мыслится как двухместная логическая функция. Весь вопрос заключается в том, может ли иметь эта функция количественную меру. Другими словами: можно ли разработать количественный способ оценки «степени подтверждения» одного высказывания (заключения, гипотезы) другим (посылками, в частности, данными опыта) ? Можно без преувеличения сказать, что главные варианты решения этой проблемы в философии науки XX в. были связаны именно с попытками истолкования «подтверждения» как «вероятностной функции», «вероятностной меры».
Исшосш-частошя интерпретация подтверждения
Одна из первых попыток построить индуктивную логику как логику подтверждения, основанную на вероятностной интерпретации меры подтверждения гипотез, принадлежит Г. Рейхенбаху. Все человеческое знание, считал он, по своей природе имеет принципиально вероятностный характер. Черно-белая шкала оценки истинности знания классической эпистемологии как либо истинного, либо ложного является, по его мнению, слишком сильной и методологически неоправданной идеализацией, так как подавляющее большинство научных утверждений имеет некоторое промежуточное значение между истиной (1) и ложью (0) из бесконечного числа возможных значений истинности в интервале (0,1).
Понимание Г. Рейхенбахом индукции как степени подтверждения эмпирической гипотезы данными наблюдения основано на принятии следующих допущений:
Гдава 2. Мвтвды эмпирического исслвдования___________________________
1) перечислительной концепции индукции;
2) статистической (частотной) интерпретации вероятности как степени подтверждения гипотезы данными наблюдения.
Как известно, при частотной интерпретации вероятности (р) она понимается как относительная частота появления одних событий (ш) в классе других событий (п). При предельно-частотном определении вероятности ее значение записывается следующим
г т р = urn —
образом: 11 . При определении вероятности ги-
потезы в качестве л Рейхенбах предлагал рассматривать число известных фактов определенной области явлений, а качестве ш те из них, которые выводятся из данной гипотезы. Например, если имеются 100 фактов из области оптических явлений, то вероятность истинности гипотезы, из которой логически следует 80 из этих фактов, имеет вероятность равную 4/5. При всей банальной очевидности подобных примеров, частотная интерпретация Рейхенбахом вероятности индуктивного подтверждения вызывает принципиальные возражения. Во-первых, она не дает ответа на вопрос, почему мы должны отдавать предпочтение гипотезе, которая имеет наибольшую частоту истинности своих следствий, поскольку любое фиксированное значение такой частоты есть сугубо временное явление. С этой точки зрения совершенно невозможно объяснить смену старых теорий новыми, поскольку последние вначале всегда проигрывают старым в отношении своей актуальной объяснительной силы. Во-вторых, объяснительная сила гипотезы, понимаемая как относительная частота ее истинных следствий, ничего не может говорить об истинности самих гипотез, так как по истинности следствий по законам логики нельзя заключать об истинности оснований. С этой точки зрения гипотеза, имеющая большую объяснительную силу чем ее соперница, может быть как раз ложной. Так, геоцентрическая система Птолемея долгое время имела гораздо большую объяснительную силу, чем гелиоцентрическая система Коперника. И, наконец, в-третьих, с точки зрения статистически-истиностной модели подтверждения Г. Рейхенбаха, ученые должны были бы стремиться не объяснять мир наблюдаемых явлений, а просто описывать их, ибо истинностная частота подтверждения любой описательной конструкции по определению равна 100% (или 1). Однако, такая постановка вопроса явно противоречит всему духу и реальной практике научного познания, где выдвижение объясняющих и предсказывающих гипотез и теорий занимает важнейшее место, составляя суть научного постижения действительности. Мы не затрагиваем при этом таких тонких методологических вопросов, как-то:
1) насколько вообще правомерно отождествлять от-
носительную частоту с вероятностью;
2) правомерно ли отождествлять индукцию, понима-
емую как подтверждение, именно со статистичес-
кой, а не, скажем, с логической или субъективной
вероятностью, также вполне законных по отноше-
нию к аксиоматическому определению вероятнос-
ти как специфической математической функции.
Перечисленные выше трудности вероятностно-
частотной интерпретации индукции как подтвержде-
ния оказались настолько серьезными, что большинство
философов науки оценило предложенную Г. Рейхенба-
хом модель индукции как бесперспективную. Вера
Г. Рейхенбаха в то, что, несмотря на возможные ошиб-
ки, частотная интерпретация индукции все же чаще
будет приводить к успеху, для многих не является до-
статочно убедительной. Так, С. Баркер заявляет, что ме-
тодологическое индуктивное правило Г. Рейхенбаха, со-
гласно которому «Если начальная часть л элементов
последовательности Xj дана и результируется в часто-
те fN и если ничего не известно о вероятности второго
уровня появления определенного предела р, полагай,
что частота f1 (i>n) будет достигать предела р внутри
fN ±_б, когда последовательность увеличивается» не
дает нам какой-либо гарантии, что после конкретного
числа наблюдений мы имеем право предположить, что
наша оценка действительной относительной частоты
Гдзва 2. Методы эмпирического исследования
будет в пределах некоторой конкретной степени точности ...Я не могу ждать вечно, и я'хочу знать, является ли разумным принять эту частную оценку здесь и сейчас, сделанную на основе данных, имеющих место в настоящее время»1. А в отношении стратегии поведения, связанной с надеждой на успех «в конечном счете», когда-то еще английский философ лорд С. Брэдди язвительно заметил: «В конце концов мы все умрем».
Индуктивное подтверждение как степень логической выводимости. Наряду с истинностно-частотной концепцией индуктивного подтверждения в философии и методологии науки XX века была предложена и разработана концепция индукции как чисто логического, по крайней мере, аналитического отношения между высказываниями, а именно как характеризующего степень выводимости одного высказывания h (гипотезы) из другого е (подтверждающих его данных). При этом и высказывание h и высказывание е могут быть сколь угодно логически сложными (т. е. состоять из множества простых высказываний, соединенных логическими связками). При этом степень подтверждения между h и е мыслилась как логическая функция (с), аналогичная дедукции, а именно как неполная или ослабленная дедукция. Один из основоположников такого понимания индукции Р. Карнап полагал, что логическая функция с может быть промоделирована как вероятностная функция (отношение) и назвал такую вероятность в отличие от частотной ее интерпретации логической вероятностью. Он писал: «В моей концепции логическая вероятность представляет логическое отношение, в чем-то сходное с логической импликацией. Действительно я думаю, что вероятность может рассматриваться как частичная логическая импликация. Если свидетельство (е) является таким сильным, что гипотеза (h) логически следует из него — логически имплицируется им, — тогда мы имеем один крайний случай, при котором вероятность
! BarkerS. Induction and Hypotheses. A study on the logic of conformation. N.Y. 1957. P. 148.
Раздел II. Стрртурз, методы и развитие научного знания
равна 1... Подобным же образом, если отрицание гипотезы логически имплицируется свидетельством, тогда вероятность гипотезы есть 0. Между ними имеется континиум случаев, о которых дедуктивная логика не говорит нам ничего, кроме отрицательного утверждения, что ни гипотеза, ни ее отрицание не могут быть выведены из свидетельства. В этом континиуме должна занять свое место индуктивная логика. Но индуктивная логика, подобно дедуктивной, имеет отношение исключительно к рассматриваемым утверждениям, а не к фактам природы. С помощью логического анализа установленной гипотезы h и свидетельства е мы заключаем, что h не логически имплицируется, а, так сказать, частично имплицируется е в такой-то степени. В этом пункте, по моему мнению, мы имеем основание приписывать численные значения вероятности»1.
Что удалось реализовать из заявленной Р. Карна-пом программы вероятностной индуктивной логики? В общем немного. Да, Карнап построил такую логику для очень простых языков, содержащих только одноместные предикаты (термины, означающие свойства предметов, но не отношения между ними). Ясно, что такая логика недостаточна для применения к реальной науке, подавляющее место в языке которой составляют предикаты отношений. Попытки разработать индуктивную логику для более сложных языков столкнулись с трудностями принципиального логического и методологического характера и оказались непреодолимыми.
В результате Карнап был вынужден отказаться от дальнейшей работы над своей программой. К числу принципиальных трудностей методологического характера относятся следующие.
Первая. Предложенный Карнапом метод количественного определения значения функции подтверждения существенно зависит от конкретный языковой системы L и числа ее исходных предикатов. Степень подтверждения гипотезы h на основе данных е будет в общем различной для языковых систем L\ и Li, если они содержат различное качество предикатов. Это оз-
! Карнап Р. Философские основания физики. М., 1971. С. 76
Глава 2. Методы эмпирического иссдвдования
начает: а) необходимость каждый раз точно фиксировать языковую систему, полное число ее исходных терминов, что вряд ли возможно по отношению к реально фунционирующим научным языкам; б) необходимость признания того, что истины индуктивной логики не являются, подобно утверждениям дедуктивной логики, истинами во всех возможных мирах, никак не зависящими от содержания последних, но тогда являются ли они логическими истинами вообще; в) непонятны рациональные основания, по которым можно предпочесть одну языковую систему (Li), в которой встречаются термины, входящие в h и е, другой языковой системе (L2), в которой эти термины тоже имеют место.
Вторая принципиальная методологическая трудность индуктивной логики карнаповского типа состоит в том, что непонятно, где мы могли бы использовать на практике точные значения степени подтверждения h на основе е, даже если бы они не зависели от языковых систем и могли бы быть точно вычислены. Дело в том, что степень индуктивного подтверждения h на основе е есть просто указание на силу логической связи Лией абсолютно ничего не говорит о степени истинности h, если е истинно. Гипотеза h может иметь сколь угодно большую степень подтверждения по отношению к е (например, 0,99) и быть при этом ложным высказыванием. И, наоборот, гипотеза h может иметь сколь угодно малое подтверждение по отношению к е (например, 0,001) и при этом быть истинной. Одним словом, мы никак не можем использовать на практике значения степеней силы логической связи между высказываниями, кроме крайних случаев 0 и 1, но в этих случаях между ними имеют место не индуктивные, а дедуктивные отношения. Таким образом, количественное определение степени индуктивного подтверждения, даже если бы оно было возможно, никак не могло бы послужить инструментом рационального выбора наиболее предпочтительной гипотезы. Проблема индукции таким образом остается нерешенной. В этой связи нельзя не согласиться с остроумным замечанием американского физика и философа Ф. Франка: «Наука
похожа на детективный рассказ. Все факты подтверждают определенную гипотезу, но правильной оказывается в конце концов совершенно другая гипотеза»1. Вывод: видимо, в реальной науке предпочтение одной гипотезы другой не решается только путем оценки их объяснительной силы, но есть результат более сложной, многофакторной оценки роли и места этих гипотез в структуре и динамике научного знания.
В Шальсификация
Многочисленные неудачи в логическом моделировании процесса индукции привели некоторых видных философов науки XX в. к довольно низкой оценке познавательного статуса индукции в процессе научного познания и вообще к пересмотру функций наблюдения и эксперимента в развитии научного знания. Одним из таких философов был К. Поппер, предложивший новую модель взаимоотношения теории и опыта. Согласно Попперу, основная функция эмпирического опыта в науке состоит не в том, чтобы доказывать или подтверждать истинные гипотезы и теории (ни то, ни другое невозможно для универсальных гипотез по чисто логическим соображениям), а в том, чтобы опровергать ложные научные гипотезы. Если из эмпирической гипотезы вытекают следствия, которые оказываются ложными в ходе их сопоставления с данными наблюдения и эксперимента, то согласно правилу дедуктивной логики modus tollendo ponens мы с логической необходимостью должны заключить о ложности самих гипотез. Согласно Попперу, доказательство ложности научных гипотез с помощью эмпирического опыта, названное им фальсификацией, образует важнейший метод научного познания. В этой связи Поппер заявляет, что именно потенциальная фальсифи-цируемость знания является необходимым признаком его научности. Фальсифицированные гипотезы и теории должны учеными решительно отбрасываться без
ФранкФ. Философия науки. М, 1960. С 76.
всякой попытки их модификации (улучшения), а среди неопровергнутых наличным опытом гипотез предпочтение должно отдаваться, по Попперу, не наиболее вероятным, а, напротив, наиболее невероятным. К последним относятся наиболее содержательные в эмпирическом плане, наиболее информативные гипотезы, потому что, больше утверждая о мире, такие гипотезы имели большую вероятность быть опровергнутыми при их сопоставлении с реальным положением дел. Прогресс научного познания, по Попперу, как раз и заключается в том (или должен заключаться), что более информативные гипотезы вытесняют менее информативные. Каждая победившая гипотеза будет находиться в этой роли только некоторое время и ей на смену обязательно придет более инфорхмативная концепция (изобретательной мощи человеческого разума нет предела). Истина же, по Попперу, — это не реальное свойство научных систем знания, а только тот идеал (ценность), к которому они стремятся. В отношении индукции и ее возможностей Поппер высказался так: «Я не думаю, что имеется такая вещь, как «индуктивная логика» в карнаповском или в любом каком-либо ином смысле»1. Индукция, по его мнению «является в основном попыткой расширить наше знание, вывести из известного неизвестное... Как бы мы не думали об индукции, она, конечно, же не является аналитической»2
| '• Popper К. Theories, experience and probabilistic intuitions // The problem of Inductiv Logic. Amst., 1968. P. 289. 2 Popper K. Probability magic or Knowledge out of Jgnorance // Dialektica, 1957, 11. P. 369. |
А вот как оценил суть концепции Р. Карнапа И. Ла-катос: «Можно стремиться к смелым теориям, но нельзя стремиться к хорошо подтвержденным теориям. Наше дело изобретать смелые теории, подтверждение же или опровержение их — дело природы. А как же быть с высказываниями ученых, которые часто говорят именно о подтверждении теории опытом. Поппер предлагает весьма оригинальную трактовку таких высказываний, считая, что термин «подтверждение» учеными понимается негативистски, а именно как «неопровержение». «Быть подтвержденным» означает в науке «не быть фальсифицированным наличным экспериментом в свете некоторой совокупности принятого предпосы-лочного знания». Поппер даже ввел специальное обозначение для такого понимания подтверждения — corroboration вместо индуктивистского его обозначения — confirmation.
Конечно, Поппер безусловно прав, подчеркнув важную и самостоятельную роль фальсификации как метода научного познания, как средства отбраковки ложных эмпирических гипотез и оказания предпочтения наиболее содержательным из нефальсифицированных гипотез. Однако, он не прав в своей излишней ригористичности и в отношении возможности модификации опровергнутых гипотез, и в отношении оказания предпочтения всегда «фактам» в случае их противоречия с конкретными гипотезами, и в истолковании динамики научного познания как «перманентной революции», и в отрицании многофакторности и социальной детерминированности процесса принятия научных решений о наиболее предпочтительной гипотезе. Все это не соответствует реальной истории научного познания, ее эмпирическому бытию, к достижению соответствия к которому он сам настойчиво призывал при оценке любых научных построений.
В Экстраполяция_______________________________
Экстраполяция — экстенсивное приращение знания путем распространения следствий какой-либо гипотезы или теории с одной сферы описываемых явлений на другие сферы. Например, закон теплового излучения Планка, согласно которому энергия излучения может передаваться только отдельными «порциями» — квантами, был экстраполирован А. Эйнштейном н другую область явлений; в частности, с помощью этого закона оказалось возможным исчерпывающим образом объяснить природу фотоэффекта и других сходных с ним явлений.
Пределы применимости любой естественно-научной теории всегда должны выходить за рамки того опыта, на фундаменте которого она основывалась первоначально. Необходимость экстраполяции теории на новые области явлений коренится в самом ее назначении как инструмента познания. Вспомним, что покоряющая эффективность механики Ньютона с момента ее создания заключалась в ее способности к единообразному описанию таких казавшихся совершенно разнородными явлений, как, например, падение камня с высоты на землю и д: лжение Земли вокруг Солнца.
Экстраполяция — мощное эвристическое средство исследования природы; оно позволяет расширять познавательный потенциал научных понятий и теорий, увеличивать их информационную емкость, а также усиливает предсказательные возможности теории в обнаружении новых фактов. Сама способность к экстраполяции той или иной гипотезы есть мощное косвенное подтверждение ее истинности.
Глава 3
МЕТОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
В Идеализация
Важнейшим методом теоретического познания в науке является идеализация. Впервые этот метод был рассмотрен известным австрийским историком науки Э. Махом. Он писал: «Существует важный прием, заключающийся в том, что одно или несколько условий, влияющих количество на результат, мысленно постепенно уменьшают количественно, пока оно не исчезнет, так что результат оказывается зависимым от одних только остальных условий. Этот процесс физически часто не осуществим; и его можно поэтому назвать процессом идеальным... Все общие физические понятия и законы — понятие луча, диоптрические законы, закон Мариотта и т. д. — получены через идеализацию... Такими идеализациями являются в рассуждениях Кар-но абсолютно непроводящее тело, полное равенство температур соприкасающихся тел, необратимые процессы, у Кирхгофа — абсолютно черное тело и т. д.»1.
Какова природа идеализации? Как она возникает, и что она отражает по своему содержанию?
| 1 Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М„ 1909. С. 197-198. |
Рассмотрим следующую группу предметов: арбуз, воздушный шар, футбольный мяч, глобус и шарикоподшипник. По какому признаку мы можем объединить их в один класс вещей? У всех у них разная масса, цвет, химический состав, функциональное назначение. Единственное, что их может объединить, так это то, что они сходны по «форме». Очевидно, что все они «шарообразны». Нашу интуитивную убежденность в сходстве этих вещей по форме, которую мы черпаем из показаний наших органов чувств, мы можем перевести на язык рационального рассуждения. Мы скажем: указанный класс вещей имеет форму шара.
Исследованием геометрических форм и их соотношений занимается специальная наука геометрия. Как же геометрия выделяет объекты своего исследования и каково соотношение этих теоретических объектов с их эмпирическими прообразами? Вопрос этот занимает философскую мысль со времен Платона и Аристотеля.
Чем отличается объект геометрии — точка, прямая, плоскость, круг, шар, конус и т. д. от соответствующего ему эмпирического коррелята? Во-первых, геометрический объект, например, шар, отличается от мяча, глобуса и т. п. тем, что он не предполагает наличие у себя физических, химических и прочих свойств, за исключением геометрических. На практике объекты с такими странными особенностями, как известно, не встречаются. В силу этого факта и принято говорить, что объект математической теории есть объект теоретический, а не эмпирический, что он есть конструкт, а не реальная вещь.
Во-вторых, теоретический объект отличается от своего эмпирического прообраза тем, что даже те свойства вещи, которые мы сохраняем в теоретическом объекте после процесса модификации образа (в данном случае геометрические свойства), не могут мыслиться такими, какими мы их встречаем в опыте. В самом деле, измерив радиус и окружность арбуза, мы замечаем, что отношение между полученными величинами в большей или меньшей степени отличается от того отношения, которое вытекает из геометрических рассуждений. Мы можем, однако, сделать деревянный или металлический шар, пространственные свойства которого будут значительно ближе к соответствующим-свойствам «идеального» шара. Не приведет ли прогресс техники и процедур измерения к тому, что человек сможет физически воспроизвести тот или иной геометрический конструкт? Природа вещей такова, что такая возможность в принципе нереализуема. Нельзя вырастить арбуз, который по своей форме был бы столь же «правильным», как подшипник, этому препятствуют законы живого. Нельзя создать такой подшипник, который бы абсолютно точно соответствовал геометрическому шару, этому препятствует молекулярная природа вещества. Отсюда следует, что хотя на практике мы можем создавать вещи, которые по своим геометрическим свойствам все больше и больше приближаются к идеальным структурам математики, все же надо помнить, что на любом этапе такого приближения между реальным объектом и теоретическим конструктом лежит бесконечность.
Из сказанного вытекает, что точность и совершенство математических конструкций является чем-то эмпирически недостижимым. Поэтому, для того, чтобы создать конструкт, мы должны произвести еще одну модификацию нашего мысленного образа вещи. Мы не только должны трансформировать объект, мысленно выделив одни свойства и отбросив другие, мы должны к тому же выделенные свойства подвергнуть такому преобразованию, что теоретический объект приобретет свойства, которые в эмпирическом опыте не встречаются. Рассмотренная трансформация образа и называется идеализацией. В отличие от обычного абстрагирования, идеализация делает упор не на операции отвлечения, а на механизме пополнения.
Идеализация начинается с процесса практического или мысленного экспериментирования с самой вещью, осуществляемого в соответствии с «природой вещей». Так, человек на практике обнаруживает, что, например, геометрические соотношения в вещи шарообразной формы (скажем, отношение радиуса к площади поверхности) не изменяются от того, если мы изменим цвет, температуру (в некотором диапазоне), а также ряд других характеристик вещи. Геометрические свойства шара не будут меняться от того, будет ли он сделан из меди, глины, дерева, резины и т. д. Вот эта реально обнаруживаемая инвариантность геометрических свойств различных вещей при переходе от предмета с данным качественным составом к предметам другого качественного состава и является объективной основой процесса идеализации.
Рассмотрим теперь такой важный шаг процесса идеализации, как «предельный переход». Действительно ли в процессе первичной теоретизации в геометрии таких конструктов, как точка, прямая, плоскость, или в физике таких конструктов, как абсолютно непроводящее тело, идеальный газ, абсолютно черное тело и т. п. мы пользуемся приемом, называемым «переходом»? Если рассматривать процесс формирования теоретических конструктов чисто абстрактно, то такой переход как будто действительно имеет место. Но если подойти к делу с точки зрения реального функционирования научного знания, то можно обнаружить несколько иную картину. Выше обращалось внимание на то, что различные предметы шарообразной формы в разной степени приближаются к «идеальному шару»: одни из них лишь грубо и приближенно можно принять за геометрическую фигуру, другие же соответствуют ей с гораздо большей точностью. Пользуясь возможностями современной техники, мы можем значительно увеличить желаемую точность. Воспроизведенная в материале геометрическая фигура может настолько точно соответствовать своему идеальному образу, что даже весьма тщательные измерения, проводимые на данной фигуре, не позволяют обнаружить погрешности материальной конструкции. Здесь наблюдается, таким образом, полное совпадение (в пределах ошибки измерения) данных эксперимента и теоретических предсказаний.
Какой же эмпирический смысл (т. е. смысл, отображающий эмпирически обнаруживаемые познавательные ситуации) вкладывается в тезис, когда утверждается, что никакая материальная конструкция никогда не может приблизиться к идеально точному математическому объекту? На практике это может означать, что какого бы полного согласия на опыте между математической абстракцией и конкретной фигурой мы ни имели, всякий раз может случиться, что повышение точности наших средств измерения приведет к обнаружению расхождения между свойствами реальной модели и ее идеального образца. Однако, повысив качество обработки материала, мы можем ликвидировать это расхождение. Это тем не менее не меняет ситуации в принципе, а лишь подвигает на один шаг проблему дальше, ведь повысив точность измерения, мы вновь обнаружим указанное расхождение. Принципиально важным является то, что существует абсолютный предел (обусловленный законами природы) приближения любой материальной модели к ее идеальному образцу. Ведь даже траектория светового луча не может представлять собой идеальную прямую, ибо свет есть поток квантов, а движение кванта, как учит квантовая механика, не может быть соотнесено с какой-то определенной, классически понимаемой траекторией.
Вот тут-то и происходит, согласно традиционной концепции, скачок мысли, скачок к абсолютно точному конструкту. Любая точка, которую мы достигаем на практике, ничто по сравнению с точностью мысленной конструкции, ибо их разделяет бесконечность. Для чего нужна такая не встречающаяся на практике точность математических объектов? «Всякое соотношение между математическими символами, —писал П.Л. Че-бышев, — отображает соответствующее соотношение между реальными вещами; математическое рассуждение равнозначно эксперименту безукоризненной точности, повторенному неограниченное число раз, и должно приводить к логически и материально безошибочным выводам»1.
Бесконечная точность нужна математике для того, чтобы не зависеть в процессе рассуждений от возможных погрешностей опыта. Эта точность, однако, покупается дорогой ценой: она является точностью формальной, точностью «по определению», лишенной всякого эмпирического содержания. Какую бы высокую точность мы ни предъявляли к эмпирии (к инженер-
1 Цит. по статье Берштейна С.Н. Чебышев, его влияние на развитие математики. Уч. зап. МГУ, 1947, вып. 91, т. 1, кн. первая. С. 37.
ным расчетам, допускам и т. п.), математика гарантирует нам, что ее точность заведомо выше. Но что это значит? Всего-навсего лишь то, что, манипулируя математическими соотношениями, в которые входят эмпирически заданные величины, мы можем быть уверены в том, что достигнутая на опыте точность будет полностью сохранена. При всей своей бесконечной точности математика ни на йоту не может повысить точность эмпирически поставленной задачи, но она гарантирует полное сохранение исходной эмпиричес-" кой точности в процессе математических манипуляций с заданными величинами.
Таким образом, никакого предельного перехода от конечного к бесконечному в прямом смысле этого слова нет. Перед нами просто два ряда объектов — реальных и формальных. Свойства одних заданы эмпирически «природой вещей», свойства других заданы нами, т. е. чисто формально, их точность абсолютна, но она не имеет никакого реального метрического смысла. Их конечная цель — служить средством описания эмпирических объектов. Наука (особенно современная) демонстрирует нам многочисленные примеры, когда вначале создается теоретическая конструкция, а уж затем удается подыскать соответствующий ей класс реальных объектов или процессов.
Тезис, согласно которому денотатами понятий-иде-ализаций (таких, как точка в геометрии или идеальный газ в физике) является «пустой класс», представляется, однако, спорным. Он затушевывает как раз то, что представляет наибольший интерес с гносеологической точки зрения, а именно, какую гносеологическую функцию выполняет идеализация в конкретных познавательных ситуациях. В связи с этим можно вспомнить спор хмежду Пуанкаре и Эйнштейном о природе математических идеализации. Точка зрения первого заключалась в том, что понятия об идеальных математических объектах «извлечены нами из недр нашего духа»1 и что им ничто непосредственно не соответствует в физическом мире. Но Эйнштейн дает характерный
' Пуанкаре А. Наука и гипотеза. М., 1904. С. 83.
ответ: «Что касается возражения, что в природе нет абсолютно твердых тел и что приписываемые им свойства не соответствуют физической реальности, то оно никоим образом не является столь серьезным, каким оно может показаться на первый взгляд. В самом деле, нетрудно задать состояние измерительного тела достаточно точно, чтобы его поведение по отношению к другим измерительным телам было настолько определенным, что им можно было бы пользоваться как «твердым» телом»1.
В Формализация2______________________________
Научная теория представляет собой определенную систему взаимосвязанных понятий и высказываний об объектах, изучаемых в данной теории. На определенном уровне развития познания сами научные теории становятся объектами исследования. В одних случаях необходимо представить в явном виде их логическую структуру, в других — проанализировать механизм развертывания теории из некоторых положений, принимаемых за исходные, в-третьих — выяснить, какую роль в теории играет то или иное положение или допущение и т. д. В зависимости от цели изучения теории, можно ограничиться простым описанием или научным анализом ее структуры в форме опять-таки содержательного описания. Но иногда оказывается необходимым подвергнуть ее строгому логическому анализу. Чтобы его осуществить, теорию необходимо формализовать.
| ' Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. Т. 2. С. 86 — 87. 2 Подробнее см.: Кураев В.И., Лазарев Ф.В. Точность, истина и рост знания. М.: Наука, 1988. |
Формализация начинается с вскрытия дедуктивных взаимосвязей между высказываниями теории. В выявлении дедуктивных взаимосвязей наиболее эффективен аксиоматический метод. Под аксиомами в настоящее время понимают положения, которые принимаются в теории без доказательства. В аксиомах перечисляются все те свойства исходных понятий, которые существенны для вывода теорем данной теории. Поэтому аксиомы часто называют неявными определениями исходных понятий теории. Далее, при формализации должно быть выявлено и учтено все, что так или иначе используется при выводе из исходных положений (аксиом) теории других ее утверждений. Поэтому необходимо в явной форме сформулировать — или при помощи соответствующих логических аксиом, или при помощи логических правил вывода — все те логические средства, которые используются в процессе развертывания теории, и присоединить их к принятой системе исходных ее утверждений.
В результате аксиоматизации теории и точного установления необходимых для ее развертывания логических средств научная теория может быть представлена в таком виде, что любое ее доказуемое утверждение представляет собой либо одно из исходных ее утверждений (аксиому), либо результат применения к ним четко фиксированного множества логических правил вывода. Если же наряду с аксиоматизацией и точным установлением логических средств понятия и выражения данной теории заменяются некоторыми символическими обозначениями, научная теория превращается в формальную систему. Обычные содержательно-интуитивные рассуждения заменены в ней выводом (из некоторых выражений, принятых за исходные) по явно установленным и четко фиксированным правилам. Для их осуществления нет необходимости принимать во внимание, значение или смысл выражений теории. Такая теория называется формализованной: она может рассматриваться как система материальных объектов определенного рода (символов), с которыми можно обращаться, как с конкретными физическими объектами.
Различают два типа формализованных теорий: полностью формализованные, в полном объеме реализующие перечисленные требования (построенные в аксиоматически-дедуктивной форме с явным указанием используемых логических средств), и частично формализованные, когда язык и логические средства, используемые при развитии данной науки, явным образом не фиксируются. Именно частичная формализация типична для всех тех отраслей знания, формализация которых стала делом развития науки в первой половине XX века (лингвистика, некоторые физические теории, различные разделы биологии и т. д.). Да и в самой математике математические теории выступают в основном как частично формализованные. Только в современной формальной логике, в методологических, метанаучных исследованиях полная формализация имеет существенно важное значение.
Несмотря на то что при частичной формализации ученые основываются на интуитивно понимаемой логике, такие теории могут рассматриваться как разновидность формализованных, поскольку, во-первых (если в этом появится необходимость), можно явно задать систему используемых логических средств и присоединить ее к аксиоматике частично формализованной теории, во-вторых, в этом случае содержание специфичных для данной теории понятий (например, математических) должно быть выражено с помощью системы аксиом столь полным образом, чтобы не было необходимости при развертывании теории обращаться к каким бы то ни было свойствам объектов, о которых идет речь в теории, помимо тех, что зафиксированы в исходных утверждениях. Примером может служить аксиоматизация геометрии Евклида Д. Гильбертом.
Таким образом, формализация представляет собой совокупность познавательных операций, обеспечивающих отвлечение от значения понятий теории с целью исследования ее логических особенностей. Она позволяет превратить содержательно построенную теорию в систему материальных объектов определенного рода (символов), а развертывание теории свести к манипулированию этими объектами в соответствии с некоторой совокупностью правил, принимающих во внимание только и исключительно вид и порядок символов, и тем самым абстрагироваться оттого познавательного содержания, которое выражается научной теорией, подвергшейся формализации.
В этом смысле можно сказать, что формализация теории сводит развитие теории к форме и правилу. Такая формализация не только предполагает аксиоматизацию теории, но и требует еще точного установления логических средств, необходимых в процессе ее развертывания. Поэтому формализация теории стала возможной лишь после того, как теория вывода и аксиоматический метод получили необходимое развитие.
Обычно выделяют три качественно различных этапа или стадии развития представлений о существе аксиоматического метода. Первый — этап содержательных аксиоматик, длившийся с появления «Начал» Евклида и до работ Н.И. Лобачевского по неевклидовым геометриям. Второй — этап становления абстрактных (или, подругой терминологии, формальных) аксиоматик, начавшийся с появления неевклидовых геометрий и кончившийся с работами Д. Гильберта по основаниям математики (1900— 1914 гг.). Третий — этап формализованных аксиоматик, начавшийся с появлением первых работ Гильберта по основаниям математики и продолжающийся до сих пор. С наибольшей полнотой как достоинства, так и недостатки первоначальной стадии развития аксиоматического метода выражены в знаменитых «Началах» Евклида (III в. до н. э.).
Изложение геометрии Евклид начинает с перечисления некоторых исходных положений, а все остальные стремится так или иначе вывести из них. Далее, среди множества всех геометрических понятий, употребляемых им, он выделяет такие, которые считает за исходные, а все остальные стремится определить через них. Класс исходных положений (аксиом и постулатов) и класс исходных геометрических понятий Евклид рассматривает в качестве интуитивно ясных, самоочевидных — таков тот важнейший критерий, по которому происходит разбиение всего множества геометрических понятий и положений на исходные и производные. Все другие утверждения теории Евклид выводит логическим путем из аксиом и постулатов.
В качестве отличительных черт той системы аксиом, на основе которой Евклид развертывает геометрию, можно назвать следующие: во-первых, под аксиомами понимаются интуитивно истинные высказывания, у которых предполагается некоторое вполне определенное содержание, характеризующее свойства окружающего пространства; во-вторых, не была указана явным образом логика (т. е. правил вывода), опираясь на которую Евклид строит геометрию. В ней интуиция и дедукция шли рядом: недостаток дедукции восполняется наглядным примером — чертежом или построением циркулем и линейкой. Более того, необходимость использования циркуля и линейки просто постулировалась.
Конкретный, содержательный характер аксиоматики Евклида обусловил и весьма существенные недостатки, присущие первой стадии развития аксиоматического метода. Раз предполагалось, что аксиомы геометрии описывают интуитивно очевидные свойства пространства и логика не была строго очерчена, то оставались широкие возможности при дедукции из аксиом других геометрических утверждений вводить дополнительные (помимо принятой системы аксиом) интуитивно очевидные допущения как геометрического, так и логического характера. Тем самым, по существу, оказывалось невозможным провести строго логическое развертывание геометрии.
Тем не менее построение геометрии Евклидом служило образцом логической точности и строгости не только для математики, но и для всего научного знания на протяжении многих веков. Однако постепенно, начиная примерно с XVIII в., наблюдается постепенная эволюция стандартов строгости и точности построения теории, что необходимо порождало критическое отношение к собственно евклидовой традиции.
В формировании новых представлений о существе аксиоматического метода особенно большое значение имело создание неевклидовых геометрий. Открытие неевклидовых геометрий привело к существенному изменению взглядов не только на геометрию Евклида, но и на вопрос о природе и критериях математической строгости и точности вообще. Введя в систему аксиом новый постулат о параллельных прямых, противоре-
Глава 3. Методы тварвтичвсквгв позпапия
чивший интуитивному представлению о свойствах окружающего пространства, стало невозможно получать выводы, опираясь на очевидные, наглядные допущения. Новый взгляд на место и роль интуитивно очевидных соображений в построении и развертывании геометрии заставлял более строго отнестись к характеристике допустимых логических средств вывода с целью исключения интуитивных допущений как геометрического, так и логического характера.
Здесь важно подчеркнуть и то обстоятельство, что исследования неевклидовой геометрии поставили в центр внимания понятие структуры; от проверки и доказательства истинности отдельных (часто связанных между собой лишь благодаря обращению к интуиции) предложений перешли к рассмотрению внутренней связанности (совместимости) системы предложений в целом, к трактовке истинности (и точности) как свойства системы, независимо от того, располагаем ли мы средствами проверки каждого предложения системы или нет.
Математические теории, построенные в соответствии с теми представлениями о математической и логической строгости, которые сформировались на протяжении первых двух третей XIX в., были значительно ближе к идеалу строго аксиоматического построения теории. Однако и в них этот идеал — исключительно логического выведения всех положений теории из небольшого числа исходных утверждений — не был реализован полностью. Во-первых, при развертывании теории из принятой системы аксиом продолжали опираться на интуитивно понимаемую логику, без явного указания всех тех логических средств, с использованием которых связан вывод из аксиом доказуемых положений. Во-вторых, создание неевклидовых геометрий, резко расходящихся с геометрической интуицией, остро поставило вопрос об основаниях приемлемости подобного рода теоретических построений. Эта задача решалась путем нахождения способа относительного доказательства непротиворечивости неевклидовых геометрий. Суть этого метода состоит в том, что для доказательства непротиворечивости неевклидовой геометрии подыскивается такая интерпретация ее аксиом, которая приводит к некоторой другой теории, в силу тех или иных оснований уже признанной непротиворечивой. До тех пор, пока система аксиом не находила такой интерпретации, вопрос о ее непротиворечивости, естественно, оставался открытым. К тому же на рубеже XIX —XX вв. выяснилось, что теория множеств, из которой в конечном счете черпались интерпретации всех других математических систем, далеко не безупречна в логическом отношении. В ней были открыты различные противоречия (парадоксы), грозившие разрушить величественное здание математики.
Все это указывало на необходимость разработки некоторого другого способа доказательства непротиворечивости аксиоматически построенных теорий. С его разработкой в трудах Г. Фреге и Д. Гильберта окончательно сформировался современный взгляд на аксиоматический метод.
Обращаясь к проблеме непротиворечивости аксиоматически построенных теорий, Д. Гильберт пытался решить задачу следующим образом: показать относительно некоторой заданной системы аксиом (той или иной рассматриваемой математической теории), что применение определенного, строго фиксированного множества правил вывода никогда не сможет привести к появлению внутри данной теории противоречия. Доказательство непротиворечивости,той или иной системы аксиом, таким образом, связывалось уже не с наличием некоторой другой непротиворечивой теории, могущей служить интерпретацией данной системы аксиом, а 1) с возможностью описать все способы вывода, используемые при логическом развертывании данной теории, и 2) с обоснованием логической безупречности самих используемых средств вывода. Для осуществления этой программы надо было формализовать сам процесс логического рассуждения.
Возможность формализации процесса рассуждения была подготовлена всем предшествующим развитием формальной логики. Особо важное значение в деле подготовки возможности формализации некоторых сторон процесса логического рассуждения имело обнаружение того факта, что дедуктивные рассуждения можно описывать через их форму, отвлекаясь от конкретного содержания понятий, входящих в состав посылок.
Первоначальный этап развития теории формального вывода связан с именем Аристотеля. Он впервые ввел в логику переменные вместо конкретных терминов, и это позволило отделить логические формы рассуждения от их конкретного содержания. С середины XIX в. был сделан решительный шаг к замене содержательного рассуждения логическим исчислением, а тем самым — к формальному представлению процесса рассуждения. В работах Г. Фреге логика строится в виде аксиоматической теории, что позволяет достичь значительно большей строгости логических рассуждений. В исчислениях современной формальной логики метод формального рассмотрения процесса рассуждения получает свое дальнейшее развитие.
Таким образом, возможность формализации отдельных отраслей научного знания подготовлена длительным историческим развитием науки. Потребовалось более чем две тысячи лет для того, чтобы оказалось возможным представить некоторые научные теории в виде формальных систем, в которых (если в этом возникла потребность) дедукция может совершаться без какой-либо ссылки на смысл выражений или значение понятий формализуемой теории. Сама же потребность в формализации возникает перед той или иной наукой на достаточно высоком уровне ее развития, когда задача логической систематизации и организации наличного знания приобретает первостепенное значение, а возможность реализации этой потребности предполагает огромную предварительную работу мышления, совершаемую на предшествующих формализации этапах развития научной теории. Именно эта огромная содержательная работа мышления, предваряющая формализацию, делает возможной и плодотворной замену содержательного движения от одних утверждений теории к другим операциям с символами.
Формальные системы, получающиеся в результате формализации теорий, характеризуются наличием
Раздел II. Структура, методы и развитие научнпго звании
алфавита, правил образования и правил преобразования. В алфавите перечисляются исходные символы системы. Требования, налагаемые на эти исходные символы, таковы: они, во-первых, должны быть конструктивно жесткими, чтобы мы всегда умели эти символы как отождествлять, так и различать; во-вторых, список исходных символов должен быть задан так, чтобы всегда можно было решить, является ли данный символ исходным.
Далее, как в содержательной теории ее производные понятия определяются через исходные, так и в формальной системе ее производные объекты конструируются из исходных символов. Эти производные объекты в формальной системе носят название формул и задаются при помощи правил образования. Как и к исходным символам, к правилам образования предъявляется определенное требование: они должны быть заданы так, чтобы всегда можно было решить, служит ли данная последовательность символов формулой.
| 1 Конечная цепь формул такая, что каждая из этих формул есть либо аксиома, либо выражение, непосредственно выводимое из предшествующих формул по правилам вывода, это называется доказательством в формальной системе. Последняя формула доказательства есть теорема. К понятию доказательства также предъявляется требование, чтобы мы могли относительно любой конечной последовательности формул решить, является ли она доказательством. К понятию теоремы такого требования не предъявляется, хотя и существуют формальные системы, в которых оно выполняется. |
Правилами преобразования задаются аксиомы формальной системы и правила вывода. Аксиомы и правила вывода составляют теоретическую часть формальной системы. Список аксиом, как и список исходных символов, может быть как конечным, так и бесконечным, но в том и другом случае задание аксиом должно быть таково, чтобы мы всегда могли решить, является ли данная формула аксиомой. Правила вывода задаются для того, чтобы, опираясь на аксиомы, получать новые утверждения в формальной системе. Такие доказуемые утверждения носят название теорем1.
Все, что было перечислено выше, относится к исходному базису формальной системы. Для его задания необходим какой-то язык, в терминах которого можно было бы задать алфавит и сформулировать правила образования и преобразования формул формальной системы. Во всех тех случаях, когда один язык употребляется для того, чтобы с его помощью говорить о другом, первый язык называется метаязыком, а второй — языком-объектом. В качестве метаязыка обычно употребляется соответственным образом выбранная часть естественного, например русского, языка. Если в качестве метаязыка выступает какая-либо научная теория (обычно называемая интуитивной или содержательной), то конкретная формальная система, получающаяся в результате ее формализации, называется предметной теорией, а метаязык, с помощью которого и в котором изучаются свойства языка-объекта (а соответственно и выраженной с помощью этого языка теории), называется метатеорией. В метатеории используются обычные содержательно-интуитивные рассуждения, они опираются на значение и смысли выражаются в естественном языке.
В метатеоретическом исследовании выделяются два основных аспекта изучения свойств и возможностей предметных теорий (формальных систем) — синтаксический и семантический. Та часть метатеории, которая изучает предметную теорию в отвлечении от того, что обозначают ее выражения, называется синтаксисом. При синтаксическом исследовании имеют дело с преобразованиями формул по строго установленным правилам, без учета того, что они обозначают, каково их отношение к конкретному содержанию теорий, какой смысл имеют правила, по которым осуществляется переход от одних формул к другим. Используемые при этом методы называются формальными, поскольку они опираются исключительно на вид и порядок символов, из которых образовано то или иное выражение. Именно эти методы представляют наивысший на сегодняшний день стандарт логико-математической точности.
Вместе с тем построение формальных систем, в которых вместо содержательных выводов имеют дело с преобразованиями формул по строго установленным правилам и отвлекаются от того, что обозначают символы и их комбинации, — только одна сторона метода формализации. Формальные системы обычно строятся для представления научной теории, построенной содержательно-интуитивно, в виде таким образом упорядоченной системы утверждений об области объектов, изучаемой с ее помощью, чтобы класс истинных ее предложений отобразить в класс выводимых в формальной системе формул. Насколько достижима эта цель возможно ответить лишь после того, как формальная система получит интерпретацию. Грубо говоря, интерпретация заключается в приписывании выражениям формальной системы некоторого значения, в результате чего они превращаются в нечто такое, что может быть либо истинным, либо ложным.
Операции и методы, с помощью которых задается интерпретация формальной системы, называются семантическими. Если при синтаксическом исследовании имеют дело с преобразованиями формул по строго установленным правилам, без учета того, что обозначают формулы, то в семантике, напротив, характеризуются отношения между элементами из предметной области той содержательной теории, для формализации которой предназначается данная формальная система с ее формулами (и их соотношениями). Поэтому семантические понятия, операции и методы в отличие от синтаксических, строго формальных методов и средств исследования называют содержательными.
В результате последовательной формализации теории то, что раньше воспринималось как некое единое нерасчлененное целое, теперь благодаря методу формализации обнаружило сложную и вместе с тем ясную архитектонику. Это четкое расчленение формального и содержательного компонентов знания, это «раздвоение единого» явились одним из фундаментальных шагов в понимании природы научного знания.
щ Математическое моделирование
Математическая модель представляет собой абстрактную систему, состоящую из набора математических объектов. В самом общем виде под математическими объектами современная философия математики подразумевает множества и отношения между множествами и их элементами. Различия между отдельными объектами главным образом определяются тем, какими дополнительными свойствами (т. е. какой структурой) обладают рассматриваемые множества и соответствующие отношения1.
В простейшем случае в качестве модели выступает отдельный математический объект, т. е. такая формальная структура, с помощью которой можно от эмпирически полученных значений одних параметров исследуемого материального объекта переходить к значению других без обращения к эксперименту. Например, измерив окружность шарообразного предмета, по формуле объема шара вычисляют объем данного предмета.
Очевидно, ценность математической модели для конкретных наук и технических приложений состоит в том, что благодаря восполнению ее конкретно-физическим или каким-либо другим предметным содержанием она может быть применена к реальности в качестве средства получения информации. С другой стороны, только благодаря тому, что нам удается подбирать такие объекты (процессы, явления), которые обладают способностью служить восполнением модели, мы можем посредством данной модели получить о них полезную информацию.
| 1 См.: Месарович МД. Общая теория систем и ее математические основы // Исследования но общей теории систем. М., 1969. С. 166. 2 Холл А.Д., Фейджин Р.Е. Определение понятия системы // Там же. С. 257. |
Как отмечают Холл и Фейджин1, для того чтобы объект можно было достаточно успешно изучать с помощью математических методов, он должен обладать рядом специальных свойств. Во-первых, должны быть хорошо известны имеющиеся в нем отношения, во-вторых, должны быть количественно определены существенные для объекта свойства (причем их число не должно быть слишком большим), и в-третьих, в зависимости от цели исследования должны быть известны при заданном множестве отношений формы поведения объекта (которые определяются законами, например, физическими, биологическими, социальными).
По существу, любая математическая структура (или абстрактная система) приобретает статус модели только тогда, когда удается констатировать факт определенной аналогии структурного, субстратного или функционального характера между нею и исследуемым объектом (или системой). Другими словами, должна существовать известная согласованность, получаемая в результате подбора и «взаимной подгонки» модели и соответствующего «фрагмента реальности». Указанная согласованность существует лишь в рамках определенного интервала абстракции. В большинстве случаев аналогия между абстрактной и реальной системой связана с отношением изоморфизма между ними, определенным в рамках фиксированного интервала абстракции.
Для того, чтобы исследовать реальную систему, мы замещаем ее (с точностью до изоморфизма) абстрактной системой с теми же отношениями; таким образом задача становится чисто математической. Например, чертеж может служить моделью для отображения геометрических свойств моста, а совокупность формул, положенных в основу расчета размеров моста, его прочности, возникающих в нем напряжений и т. д., может служить моделью для отображения физических свойств моста.
Что же представляют собой в гносеологическом смысле математические модели, т. е. математические структуры (по выражению Н. Бурбаки), по отношению к реальности независимо от их конкретной интерпретации?
Версия номинализма, согласно которой математика есть просто язык, сам по себе не имеющий никако-
Глава 3. Методы творетвсшо незнания
го онтологического содержания, кажется, дает слишком легкое решение вопроса. Если математические уравнения, которые мы накладываем на определенную экспериментально фиксируемую область с целью упорядочения фактуальной информации и перевода ее на точный количественный язык, — если эти уравнения есть лишь чисто ментальная конструкция ума, то чем объяснить их поразительную «предопределенность», приспособленность к фактическим ситуациям? Если об абстрактных объектах ничего не известно, кроме соотношений, которые существуют между ними в рамках формальной системы и, следовательно, их природа не дает указаний на какую бы то ни было связь с внеязы-ковой реальностью, если их единственная спецификация состоит в том, что они согласуются со структурой системы, определяемой исходными аксиомами, то все же остается вопрос: «Что побуждает нас принять за основу определенную избранную нами систему аксиом? Непротиворечивость для этого необходима, но не достаточна»1.
То, что математика есть некий особый язык, используемый человеком в процессе познания, это очевидно. Поэтому уже один только перевод какой-либо качественной задачи на четкий, однозначный и богатый по своим возможностям язык математики позволяет увидеть задачу в новом свете, прояснить ее содержание.
Однако математика дает и нечто большее. Характерным для математического способа познания является использование «дедуктивного звена», т. е. манипулирование с объектами по определенным правилам и получение таким путем новых результатов. И наконец, любая нетривиальная система математических объектов заключает в себе явно или неявно некоторую исходную семантику, некоторый способ «видения мира». Именно этим в первую очередь определяется ценность математического моделирования реальности.
| 1 Клини С.К. Введение в метаматематику. М, 1957. С. 58. |
Два типа математических моделей: модели описания и модели объяснения. Обращение к истории науки позволяет выделить два типа теоретических схем, основанных на двух видах математических моделей, применяемых в конкретных науках и технических приложениях, — моделях описания и моделях объяснения. В истории науки примером модели первого вида может служить схема эксцентрических кругов и эпициклов Птолемея. Математический формализм ньютоновской теории тяготения является соответствующим примером модели второго вида.
Модель описания не предполагает каких бы то ни было содержательных утверждений о сущности изучаемого круга явлений. Известно, что птолемеевская модель обеспечивала в течение почти двух тысяч лет возможность поразительно точного вычисления будущих наблюдений астрономических объектов. Ошибочность птолемеевской системы заключалась вовсе не в самой математической модели, а в том, что с используемой моделью связывались физические гипотезы, и к тому же такие, которые лишены научного содержания (в частности, тезис о «совершенном» характере движения небесных тел).
Для моделей описания характерно то, что здесь соответствие между формальной и физической структурой не обусловлено какой-либо закономерностью и носит характер единичного факта. Отсюда глубина восполнения модели описания для каждого объекта или системы различна и не может быть предсказана теоретически. Задача определения глубины восполнения решается поэтому всегда эмпирически.
| 1 С излагаемой точкой зрения согласуется, как кажется, позиция Чапаниса. См.: Chapanis A. Man, Machines and Models. Amer. Psyhologist, 16, 113 (1961). |
Применимо ли понятие истины и лжи для моделей описания? В строгом смысле, по-видимому, нет. К ним применим скорее критерий полезности, чем истинности1. Модели описания бывают «хорошими» и «плохими». «Плохая» модель — это либо слишком элементарная модель (в этом случае она тривиальна), либо слишком сложная (и тогда она малоэффективна ввиду своей громоздкости). «Хорошая» модель — это модель, сочетающая в себе достаточную простоту и достаточную эффективность.
Модели объяснения представляют собой качественно иной вид познавательных моделей. Речь идет о тех случаях, когда структура объекта (или система) находит себе соответствие в математическом образе в силу внутренней необходимости. Здесь модель есть уже нечто большее, чем простая эмпирическая подгонка, ибо она обладает способностью объяснения. Если математический формализм адекватно выражает физическое содержание теории и выступает моделью объяснения, то он становится не только орудием вычисления и решения задач в уже известной области опыта, но и средством генерирования новых физических представлений, средством обобщения и предсказания. Например, из уравнений Ньютона можно вывести закон сохранения импульса, из уравнений Максвелла — идею о физическом родстве электромагнитных и оптических явлений, из уравнений Дирака — существование позитрона и т. д. Этот эпистемологический феномен Ю.Б. Румер и М.С. Рыбкин1 называют «принципом гносеологического продолжения».
Рассмотрим характерные гносеологические свойства моделей объяснения.
| ' См. Роль математических методов в физике // Вопросы философии, 1967, № 5. 2 О классификации научных обобщений по семантико-гносео-логическому признаку см. Лазарев Ф.В., Новоселов М.М. Обобщение. БСЭ. Т. 8. М, 1974. |
1. Способность к кумулятивному обобщению. Хотя любая модель в своем становлении в качестве объясняющей теории имеет вначале весьма ограниченную эмпирическую базу, ее гносеологическая ценность обнаруживается в том, что она способна к экстенсивному расширению, к экстраполяции на новые области фактов. Механизм обобщения при этом не предполагает изменения исходной семантики теории или порождения новой семантики2.
2. Способность к предсказанию. В отличие от моделей описания (которые способны лишь к количественному предсказанию), объясняющие модели способны к предсказанию принципиально новых качественных эффектов, сторон, элементов. Благодаря тому, что модель представляет собой целостную концептуальную систему, она заключает в себе всю полноту своих элементов, сторон, отношений. Поскольку, с другой стороны, наш опыт всегда неполон, незакончен, то модель оказывается «богаче», чем имеющийся в нашем распоряжении эмпирический материал. Иначе говоря, концептуальная система в своей внутренней структуре может содержать такие элементы, стороны, связи, которые еще не обнаружил опыт. Модель, таким образом, позволяет предвосхитить новые факты. Известно, например, что в конце прошлого века Г. С. Федоров на основе исследования полной симметрии кристаллов предсказал существование новых кристаллических форм. Более того, кристаллическая модель оказалась орудием установления множества всех возможных в природе кристаллов. Поскольку было установлено, что множество всех мыслимых кристаллов должно подчиняться определенным математическим соотношением, то кристаллография оказалась способной к точному прогнозированию того, какого рода кристаллы могут быть созданы в том или ином случае. Эшби подчеркивает: «Когда мы определяем кристалл как нечто, обладающее определенными свойствами симметрии, то, по сути дела, утверждаем, что кристалл должен иметь некоторые другие свойства симметрии, что последнее необходимо вытекает из первых, иначе говоря, что они суть те же свойства, но рассматриваемые с другой точки зрения. Таким образом, математическая кристаллография образует своего рода основу или структуру, более емкую и богатую, чем эмпирический материал...». 3. Способность к адаптации. Это свойство модели проявляется в том, Пуанкаре назвал «гибкостью» теории. Истинная теория должна заключать в себе возможность видоизменяться и совершенствоваться под влиянием новых экспериментальных фактов. Если форма модели настолько жестка, что не поддается никаким модификациям, то это есть признак ее малой жизнеспособности. Модели описания, как правило, являются жесткими. Напротив, модель, претендующая на объяснение, путем отдельных видоизменений может сохранять свою силу, несмотря на возражения и контрпримеры. «Возражения, — констатирует Пуанкаре, — скорее идут на пользу теории, чем во вред ей, потому что позволяют раскрыть всю внутреннюю истину, заложенную в теории». 4. Способность к трансформационному обобщению. Модель объяснения, как правило может быть подвергнута обобщению с изменением исходной семантики обобщаемой теории. Формализм более общей теории может иметь законченное выражение независимо от менее общей, но он должен содержать формализм старой теории в качестве предельного случая. Так, в волновой оптике электромагнитные волны описываются векторами электрического и магнитного полей, удовлетворяющими определенной системе линейных дифференциальных уравнений /уравнений Максвелла/. Предельный переход от волновой оптики к геометрической соответствует тем случаям, когда мы имеем малую длину волн, что математически выражается большой величиной изменения фазы на малых расстояниях.
Анализ показывает, что глубина восполнения модели описания может быть установлена только эмпирически для каждого отдельного случая. Что касается модели объяснения, то при ее трансформационном обобщении глубина восполнения исходной модели может быть строго установлена теоретически. Этот факт имеет фундаментальное гносеологическое значение.
| 1 Гейзенберг В. Роль феноменологических теорий в системе теоретической физики. УФН, т. 91, вып. 4, 1967. |
В одной из основных статей В. Гейзенберг1 обращает внимание на то, что в истории естествознания встречаются два типа теорий. К первому типу относит-
Рзздвд II. Структура, методы и развитие парного знания
ся так называемые «феноменологические» теории. Для них характерна такая формулировка закономерностей в области наблюдаемых физических явлений, в которой не делается попытка свести описываемые связи к лежащим в их основе общим законам природы, через которые они могли бы быть понятыми. (Например, в химии — правила валентности, в оптике — формулы дисперсионной теории Друде). Ко второму типу относятся теории, которые обеспечивают «истинное познание явлений» (например, ньютонова физика, квантовая механика и др.).
Гносеологическая особенность феноменологических теорий состоит в том, «что хотя они делают возможным описание наблюдаемых явлений, и, в частности, нередко позволяют очень точно предвычислить новые эксперименты или последующие наблюдения, все же они не дают истинного познания явлений»1. Существуют два рода феноменологических теорий: 1) теории первого рода используют главным образом формальные связи, например, теория Птолемея использовала чисто формальные возможности представлять периодические явления через ряды Фурье; 2) теории второго рода дают качественные формулировки того часто еще неизвестного, что обозначают через сознательно неопределенное выражение — «физическая сущность», например, феноменологическая термодинамика XIX века, опиравшаяся на понятие «энтропии».
Феноменологические теории это и есть модели описания. Модели же объяснения — это то, что Гейзенберг называет теориями, дающими истинное познание явлений. В отличие от позитивизма и прагматизма Гейзенберг подчеркивает принципиальное гносеологическое различие этих двух типов теорий.
| 1 Гейзенберг В. Роль феноменологических теорий в системе теоретической физики. УФН, т. 91, вып. 4, 1967. С. 732. |
В расширении возможностей применения формальных методов исследования существенно важную роль играют компьютеры, позволяющие автоматизировать дедуктивные построения, увеличить производительность интеллектуального труда.
Эвристические возможности, открываемые реконструкцией языка научной теории в полностью или частично формализованный язык, обусловлены тем обстоятельством, что формализованные теории — это качественно своеобразный тип концептуальных построений; они представляют собой исчисления, которые благодаря самой структуре и характеру исчислений открывают возможности для получения новых, порой совсем неожиданных следствий путем «чистых вычислений». К тому же формальное представление теории не ограничивается формулировкой исчисления, а предполагает изучение свойств этого исчисления и в итоге получение нетривиальных результатов1-.
| ' См.: Ершов ЮЛ. Некоторые вопросы применения формализованных языков для исследования философских проблем // Методологические проблемы математики. Новосибирск, 1979. С 83-88. |
Формализованное знание есть результат сложнейшего творческого процесса. Отталкиваясь от определенного уровня развития содержательно построенной научной теории, формализация преобразует ее, выявляет некоторые такие ее особенности, которые не были зафиксированы на содержательно-интуитивном уровне. Именно потому, что формализованная теория не является простым «переводом» содержательно построенной научной теории на искусственный формализованный язык, а предполагает, как правило, довольно длительную и сложную работу мышления, «обратное движение» от формализованной теории к содержательной нередко дает «прибавку», прирост знания по сравнению с исходной теорией, подвергшейся формализации. Такое движение заставляет искать содержательные аналоги тем или иным компонентам формализованной теории, первоначально вводимым по чисто формальным соображениям (простоты, симметричности и т. д.), и привлекает тем самым внимание исследователей к таким особенностям теории (и предмета, с ее помощью исследуемого), которые в содержательно построенной теории не были представлены в явном виде. Известно немало
Раздел И. Стрртра, методы и развитие парного знания
примеров возникновения целых научных теорий, исходным импульсом к формированию которых дали чисто формальные соображения и преобразования; наиболее известные примеры такого рода — неевклидова геометрия и теория групп.
Ю.Л. Ершов приводит следующие примеры, подтверждающие, что с помощью формализации теории могут быть получены нетривиальные следствия, о которых даже не подозревали, пока ограничивались содержательно-интуитивной формулировкой теории в естественном языке. Так, формулировка аксиомы выбора первоначально не вызывала каких-либо сомнений. И только ее использование (в совокупности с другими аксиомами) в формальной системе, претендующей на аксиоматизацию и формализацию теории множеств, выявило, что она ведет к ряду парадоксальных следствий, что и поставило под сомнение возможность ее использования; аналогичные примеры известны и за пределами математики. Даже первые попытки аксиоматизации теории поля, выделения тех или иных утверждений о качестве ее аксиом приводили к получению очень большого числа следствий, пригодных для объяснения экспериментальных данных. Из области собственно философских исследований можно назвать интерполяционную теорему Крей-га — она получена чисто формально, но нашла далеко идущие применения в области исследований оснований научного знания1.
| ' См.: Там же. С. 86-87. |
Таким образом, реконструкция научной теории с помощью формализованных языков часто обладает значительными теоретико-познавательными достоинствами. Уже сейчас формальные методы исследования — необходимый компонент нашего мыслительного аппарата, способствующий движению науки к новым результатам. Имеются все основания ожидать в ближайшем будущем новых значительных достижений, связанных с применением метода формализации. Вместе с тем, подчеркивая перспективы, открывающиеся
Глава 3. Методы творвтичешгв незнания
перед формальными методами, нужно учитывать, что все наиболее значительные достижения, сколько-нибудь существенно связанные с формализацией, относятся к дедуктивным наукам: вне сферы математики и логики познавательные достоинства формализации не столь очевидны. Более того, существует точка зрения, согласно которой формальные методы исследования вообще не имеют познавательной ценности вне сферы математики и логики. Сужение сферы применимости формальных методов языками логики и математики, на наш взгляд, неправомерно; оно вступает в противоречие и с сегодняшней практикой научного познания. Даже тот незначительный опыт формализации языков эмпирических теорий (физических, биологических, лингвистических и т. д.), который имеется на сегодняшний день, позволяет надеяться, что использование формальных методов, лежащих в основе формализации научного знания, будет небесполезным и в данном случае, хотя достигнутые в этом направлении результаты пока не могут быть сопоставлены по своему значению и ценности с соответствующими результатами, полученными в области математики и логики.
Под влиянием успешного использования методов формализации в математике, логике, лингвистике и некоторых других науках несостоятельность противопоставления формальных и неформальных компонентов в процессах движения науки к новым результатам становится все более очевидной. Современное научное знание, особенно в своих наиболее абстрактных и высокотеоретических «этажах», развивается благодаря взаимодействию формальных и неформальных методов и средств. Несмотря на то что те механизмы и процедуры, которые ведут к открытию нового в науке, не могут быть формально точно и исчерпывающе описаны, тем не менее в процессах формирования нового знания в науке формальные компоненты выполняют определенные функции, поскольку процесс получения нового знания связан не только с актом самого открытия, выдвижением новой гипотезы, предположения, но
и с обоснованием выдвигаемых предположений и гипотез. Определенные стороны процедур последнего рода могут быть описаны с помощью аппарата современной формальной логики и математики, а затем и формализованы.
Конечно, возможности формальных методов в этом отношении достаточно скромны. Опыт развития современной формальной логики и исследований по основаниям математики свидетельствует об их существенной ограниченности. В этих исследованиях показана невозможность построения такой формальной системы, которая охватывала бы, например, всю арифметику и в то же время была бы непротиворечивой. К. Гедель доказал, что возможности замены содержательного математического рассуждения формальным выводом ограничены и то, что понимается под процессом математического доказательства, не совпадает с применением строго фиксированных и легко верифицируемых правил вывода. Ограниченность дедуктивных и выразительных возможностей можно в известной степени преодолеть путем создания более богатых и сложных систем. В этом смысле можно утверждать, что формализация позволяет шаг за шагом приближаться ко все более полному выражению содержания через его форму. Тем не менее во всех тех случаях, когда мы имеем дело с достаточно развитыми научными теориями, этот процесс не может быть завершен.
Таким образом, развитие современного научного знания есть процесс взаимодействия содержательных и формальных средств и методов исследования при ведущей роли первых. Анализ формирования и динамики теоретического познания, его сложной, многоступенчатой структуры убедительно подтверждает методологическую ценность такой концепции, существенным элементом которой является анализ взаимодействия содержания и формы и вытекающая отсюда взаимосвязь точного и неточного, формального и интуитивного в формировании и развитии науки.
Глава 3. Методы твррвтичвсквгв познания
| Рефлексия как основной метод метатеоретического познания в науке
Научно-исследовательская деятельность, рассматриваемая в широком культурно-историческом контексте, включает в себя два уровня — предметный, когда активность ученого направлена на познание конкретной совокупности явлений, и рефлексивный, когда познание обращается на самое себя, В первом случае результаты деятельности выражаются в виде массива экспериментальных данных, графиков, формул, цепочки суждений, теорий и т. п., во втором — подвергаются анализу сами эти результаты. Здесь конечная цель — выявить, насколько достоверны, надежны полученные результаты, насколько они обоснованы, точны, истинны. Сосуществование и взаимодействие указанных уровней — важнейшая предпосылка, конституирующая научную рациональность. Диалектика рефлекти-руемого и нерефлектируемого знания с необходимостью обнаруживается и в самом акте рефлексии, ибо «каждая процедура рефлективного анализа предполагает некую нерефлектируемую в данном контексте рамку «неявного» обосновывающего знания»1.
В зависимости от того, на каком этапе находится развитие той или иной отрасли знания и какие исследовательские задачи выдвигаются на первый план, в ней доминирует и соответствующий тип рефлексии. Первый тип — это рефлексия над результатами познания, второй тип — анализ познавательных средств и процедур, третий тип — выявление предельных культурно-исторических оснований, философских установок, норм и идеалов исследования.
Хотя интерес к рефлексии в истории познания возник сравнительно давно, ее методологическая значимость в полной мере стала осознаваться лишь в XX веке. К этому были свои причины. Прежде всего речь идет о тех изменениях, которые произошли в совре-
' Лекторский В.А. Диалектика рефлективного и нерефлективного в познании. // Проблемы рефлексии в научном познании. Куйбышев, 1983. С. 5-6.
менной математике, физике, биологии и ряде других наук. Так, начиная с критики Брауном классической математики и логики, стремительно растет интерес к основаниям математики. Решающую роль в стимулировании внутриматематической рефлексии сыграл факт обнаружения парадоксов в теории множеств. Как ответ на эти события возникает несколько программ обоснования математического знания — интуиционизм, формализм и др. Нельзя не отметить в связи с этим фундаментальные результаты, полученные в тридцатые годы К. Геделем, А. Тарским и др., связанные с диалектикой формального и содержательного, рефлективного и нерефлективного в дедуктивных системах.
Следствием интенсивных исследований по логике и математике явилось более глубокое понимание природы точного знания вообще, его логической структуры. В частности, было установлено четкое различие объектного и метаобъектного уровней теории, формальной системы и интерпретации и т. п. Процесс уточнения логической структуры теории, введение более жестких канонов строгости, тонкий анализ диалектики формального и содержательного в структуре научного знания — все это привело к постановке и обсуждению целого комплекса методологических проблем, связанных с понятием точности и истины, математической и логической строгости. Так, с точки зрения понимания природы рефлексии существенно важно, например, то, что вопрос о формальной истинности, непротиворечивости и полноте достаточно богатой теории не может быть решен без обращения к метатео-ретическому уровню.
Методологическая существенность рефлексии не в меньшей мере проявилась и в развитии физического знания. Переход от классического естествознания к современному привел к изменению самого представления о том, что значит познать природу, в результате подверглись глубокой трансформации сами наши требования к пониманию и объяснению познаваемой естественными науками реальности. С начала XX века существенно меняются гносеологические идеалы ньютоновской физики, формируются новые методологичес-
Глава 3. Методы твррвтвчвЕквгв познания
кие принципы, выражающие адекватные сегодняшнему уровню познания нормы обоснованности и организации теоретического знания.
Рефлексия как предмет гносеологического анализа. В традиционных гносеологических концепциях человек как субъект познания рассматривался, как правило, односторонне, он мыслится лишь как носитель нескольких своих способностей, например, дискурсивного мышления. Такой подход — и исторически, и логически — в определенных границах был вполне правомерен. Но рано или поздно возникает необходимость исследования познающего субъекта в более широком контексте, обратиться к рассмотрению других, не менее существенных измерений человека. В эпистемологии XX века понятие субъекта познания подвергается глубокому переосмыслению. Речь идет в первую очередь о таких измерениях субъекта, как кон текст куль -туры (предполагающий учет всего многообразия его сущностных сил, духовно познавательных способностей и культурно-исторических характеристик), топологический контекст (предполагающий учет конкретных условий познания, различных типов познавательных позиций субъекта, а также конкретной природы и специфики объекта познания). Наконец, возникает необходимость исследовать человека с точки зрения его способности к проявлению самых разнообразных форм рефлективной деятельности.
Включение в предметное поле анализа новых контекстов понимания субъекта познания влечет за собой принятие ряда важных допущений. Во-первых, обращаясь к понятию субъекта, мы говорим не просто о разуме или о чувствах, но о духе, подразумевая под последним все многообразие человеческих познавательных способностей, конкретные способы духовного и духовно-практического освоения мира человеком. Познающий субъект — это целостный, конкретно-исторический человек. Именно такое понимание познания, которое предполагает все богатство человеческой субъективности (дедукцию и эксперимент, интуицию и обоснование, критику и проектирование, объяснение и понимание и т- Д.) становится сегодня особенно насущным.
Во-вторых, новый подход вводит в теоретико-познавательный контекст такие формы рефлективного познания, как ирония, сомнение, критика и др. Современный опыт развития методологического сознания убеждает нас в том, что одна из главных задач теории рефлексии сегодня — исследовать исторически встречавшиеся и функционирующие в реальной практике познания формы рефлективного мышления, их значимость, ценность, роль в познании, их гносеологический статус. Здесь можно вспомнить метод иронии Сократа, принцип сомнения Декарта, диалогизм Галилея, метод про-блематизации и критики Канта и т. п. Какие вообще существуют разработанные в истории культуры способы использования форм рефлексии как инструментов духовного освоения природной и социальной реальности? Как они функционируют в реальной истории познания — в науке, философии, искусстве?
Исследование проблемы рефлексии позволяет расширить рамки самой категории субъекта, ввести новое предметное поле анализа, существенно обогатить арсенал и проблематику гносеологических изысканий. Так, известно, что традиционная гносеология, исследуя процессы мышления, способы движения научной мысли, оставляла за скобками анализа методологические установки, культурно-исторические основания тех или иных познавательных действий, операций, процедур и методов. Сегодня, однако, стало ясно, что глубоко понять законы движения человеческой мысли, ее механизмы и формы нельзя, если мы отвлекаемся от лежащих в ее основаниях предпосылок.
Существенное изменение в понимании природы субъекта связано также с сознанием того, что при исследовании процессов познания теоретик в определенных случаях не может абстрагироваться от самой сути субъективного. Разумеется, в качестве предмета анализа субъект может рассматриваться и в его объективных характеристиках (строение органов чувств, информационные основы отражения, правила дедукции и т. п.). Однако в рамках философской теории рефлексии субъект в качестве предмета анализа должен быть взят именно как субъект, а не объект. Перед нами особая познавательная ситуация со своим набором концептуальных средств и способов исследования. Если в первом случае решающее значение имеет такая операция, как объяснение, то во втором на первый план выходит иной познавательный механизм — понимание. «В каких случаях исследователь не может отречься от своей субъективности? В тех, когда его познание направлено не на объект, а на субъект или на любое проявление субъективности — в событии, в поступке, в художественном произведении, в культуре»1.
В познании человека как единой реальности обнаруживается, таким образом, некий универсальный по своему историко-культурному значению гносеологический парадокс. Последний можно сформулировать следующим образом: познать нечто — значит отнестись к нему как к объекту; но если предметом познания становится субъект, то превратить его в объект — значит лишить его всех качеств субъективности, в частности, его способности быть субъектом другого субъекта (равно как и самого себя) должно сохранять субъективные качества последнего — его самосознательность, его свободу, его уникальность и в то же время уметь их адекватно постичь и рационально выразить2.
Рефлексия и подводит к этому парадоксу, и одновременно указывает некоторые пути к его разрешению. Начать хотя бы с того, что само понимание как особый механизм, бесспорно, включает в себя рефлективную составляющую, способность человека воспринимать себя в соотнесенности с другой субъективностью, а также умение взглянуть на себя «со стороны», критически оценить свои мотивы, действия и т. п. М.М. Бахтин отмечал; что «безоценочное понимание невозможно. Нельзя разделить понимание и оценку; они одновременны и составляют единый целостный акт»3.
| 1 Каган М.С. Дополнительность и интервальность. // Диалектика и современный стиль мышления. Севастополь: ФО СССР, 1983. С. 41. 2 См.: там же. С. 42. 3 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 346. |
Структура рефлективного знания. Любой пласт методологического знания по отношению к предметкому уровню научного знания носит рефлективный характер, ибо в методологическом исследовании речь идет не о предметной эмпирии, а о различного рода ментальных реальностях, о «языке науки», о знании предпосылочного типа. В этом смысле к метанаучной рефлексии можно отнести всякую деятельность (независимо от того, кто ею занимается — специалист частной области или философ), связанную с анализом знания (систематизация имеющихся результатов, критическая переоценка существующих понятий и теорий, анализ структуры и оснований теорий, парадигм и т. п.).
Однако в рамках самого методологического знания понятие рефлексии применимо лишь по отношению к определенного рода познавательным ситуациям. Когда специалист конкретной области науки задумывается над точностью, адекватностью концептуальных средств, с помощью которых он фиксирует результаты своих исследований, когда он встает в критическую позицию по отношению к полученным им данным, когда он переключает свое внимание с предметной области на структуру своей теории — во всех этих случаях разумно говорить о методологической саморефлексии ученого. Но если данная проблематика становится предметом анализа методолога, его исследовательская работа уже не может быть названа рефлективной в строгом смысле слова, ибо в этом случае конкретно-научное знание образует предметный, а не рефлективный уровень деятельности. Это видно уже из того, что переход рефлективного уровня в предметный влечет за собой соответствующее изменение целей и средств исследования. Не дело методолога-философа перепроверять данные наблюдений или сомневаться в логичной корректности некоторого научного текста. Общеметодологический анализ связан с решением вопросов, касающихся предельно общих оснований научного знания: имеет ли семантика теоретических терминов контекстуальную природу или она определяется системой объективных референций? Какая онтология лежит в основе суждений об индивидах и суждений о свойствах? Кроется ли за теоретическими структурами «умопостигаемая реальность» или они представляют собой лишь «конструкции ума», служащие для сокращений при описании чувственных данных? и т. п.
Существует ли однако собственно рефлективный уровень в структуре философского (в частности, методологического) знания? Безусловно, существует. Философ может заняться критическим анализом своих собственных познавательных целей и средств. Такая саморефлексия является существенным элементом всякой новой формы философствования, возникавшей в ту или иную эпоху. Очевидно, что исторически существовавшие формы философской саморефлексии могут, в свою очередь, сами стать объектом философского рассмотрения. Возникшее таким путем предметное поле исследования включает в себя вполне конкретный класс вопросов (существовавшие в истории человеческой мысли типы философской рефлексии, основания и скрытые механизмы рефлективной деятельности, формы рациональности, регулирующие рефлективные акты и т. п.). Все вопросы такого рода могут составить особый раздел гносеологии, связанный с изучением рефлексии в обыденном, научном, философском и художественном познании.
В научном познании можно выделить несколько тесно связанных между собой стадий. Первая стадия — обнаружение противоречий, неувязок, сомнительных элементов в старом знании и осознание на этой основе проблемной ситуации, вторая стадия — поиск и выдвижение принципиально новых идей, третья стадия — обоснование, проверка новых результатов. Вторая и третья стадии соответствуют тому, что Райхенбах в свое время назвал «контекстом открытия» и «контекстом подтверждения». Что касается первой стадии, то ее можно было бы соотнести с «контекстом рефлексии». Подобно тому как переход от «контекста подтверждения» к «контексту открытия» представлял собой поворот в методологическом сознании к существенно иной проблематике и новым концептуальным средствам, также и переключение внимания методолога с проблем структуры и роста знания к исследованию рефлективных процедур позволяет говорить о серьезном проблемном сдвиге в современной теории познания и методологии науки.
В истории науки можно заметить одну характерную особенность динамики научного познания: период фундаментальных творческих открытий сменяется периодом критико-рефлексивной активности. Так, в истории физики XVII век отмечен выдвижением принципиально новых физических идей, что особенно заметно в творчестве Галилея и Ньютона. Прогресс в области классической механики в XVIII веке был в основном связан с углубленной аналитической работой, с уточнением и рядом существенных переформулировок механики от Ньютона к Эйлеру и далее к Лагран-жу и Гамильтону. Аналогичная картина, согласно Ф. Клейну, наблюдается и в развитии математики. «В периоды неудержимого роста творческой продуктивности требование строгости часто отступало на задний план... В следующие же затем периоды критики — периоды просеивания и очистки достигнутых приобретений — стремление к строгости начинало опять играть доминирующую роль»1.
| 1 Клейн Ф. Лекции о развитии математики в XIX столетии. М., 1937. С. 83. |
Развитие науки иногда сравнивают со строительством замка, верхние этажи которого воздвигаются раньше, чем закладывается фундамент. Этим сравнением хотят, очевидно, подчеркнуть следующий факт: чем более зрелой ступени достигает в своем развитии та или иная область знания, тем углубленнее становится ее интерес к своим собственным основам, к тем первичным абстракциям и исходным допущениям, на которых покоится все здание теории. И то, что в течение долгого времени принималось как нечто простое и очевидное, оказывалось в результате методологической рефлексии сложным и проблематичным. Но, может быть, самое любопытное в том, что анализ исходных фундаментальных понятий и принципов, сопровождаемый попыткой придать им строгий, объективный смысл, приводил в истории науки, как правило, не только к уточнению и углублению прежних теорий, а к их радикальной трансформации, качественному скачку в познании. Впрочем, в этом нет ничего загадочного: необходимость рефлексии над основаниями знания возникает тогда, когда обнаруживаются симптомы неблагополучия в теории — контрпримеры, парадоксы, неразрешимые задачи и т, п. В самом деле, если ученый в рамках математической дисциплины доказал определенную теорему, то каждому математику интуитивно ясно, что соответствующее предложение действительно есть теорема. Но если некоторое, сформулированное на языке данной теории предложение долгие годы не удается доказать, то может возникнуть вопрос о его праве вообще называться «теоремой». Однозначный ответ не может быть получен до тех пор, пока отсутствует строгое определение понятия «теорема» и на определенном этапе развития математической культуры возникает такой момент, когда нужно точно знать, что такое «теорема» вообще, что значит «доказать теорему». Именно необходимость уточнений такого рода стимулировали в свое время исследования в области оснований математики и математической логики.
Разумеется, любой серьезный сдвиг в научном познании подготавливается многими обстоятельствами (экономическим, социальным и культурным прогрессом, накоплением принципиально новых научных фактов, значительным повышением точности способов измерения и т. п.). Но само преобразование старой теории или создание новой начинается чаще всего с неудовлетворенности прежними понятиями и принципами. Как известно, переосмысление и уточнение таких понятий, как «инерция», «скорость», «ускорение», позволили Галилею заложить основы классической механики. Подобно этому А. Эйнштейн, создавая частную теорию относительности, переосмыслил принцип относительности, подверг тщательному анализу такие классические абстракции, как «абсолютное время», «абсолютное пространство» и придал строгий факту-альный смысл понятию «одновременности» событий.
Весьма симптоматично звучат слова, которыми открываются знаменитые «Геометрические исследования» Н.И. Лобачевского: «В геометрии я нашел некоторые несовершенства, которые я считаю причиной того, что эта наука... до настоящего времени не вышла ни на один шаг за пределы того состояния, в каком она к нам перешла от Евклида. К этим несовершенствам я отношу неясность в первых понятиях о геометрических величинах, способы, которыми мы себе представляем измерение этих величин, и, наконец, важный пробел в теории параллельных линий»1.
Любая строгая теория основывается на некоторой совокупности явно неопределяемых в рамках самой теории понятий и допущений, образующих ее концептуальный базис. Обращение науки к своим основам есть поэтому прежде всего пересмотр концептуального базиса, который, однако, вовсе не является последней основой науки, ибо он сам, в свою очередь, погружен в более широкую понятийную сферу. Эта сфера представляет собой метатеоретический уровень научного знания, включающий в себя эпистемологические постулаты и фундаментальные абстракции, выражающие основные требования к научному познанию в рамках той или иной науки или научного направления. Так, вся система понятий классической физики, как неоднократно подчеркивал Нильс Бор, основана на допущении, что можно отделить поведение материальных объектов от вопроса об их наблюдении. Осознание указанного допущения, превращение его с помощью рефлексии в ясно формулируемую абстракцию привели к уточнению границ ее применимости на уровне микромира, а также к выявлению не замеченных ранее предпосылок для однозначного приложения классического способа описания, к такому пересмотру основ физики, который затронул само понятие физического объяснения1.
| Лобачевский Н.И. Геометрические исследования по теории параллельных линий. М. —Л., 1945. С. 37. 2 См.: Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961. С. 18-20. |
Вопросы такого рода выходят далеко за пределы частнонаучного уровня знания. Речь идет не только об изменении концептуального базиса теории, «тела» науки, но и о преобразовании ее «духа», ее «образа», ее методологии. Это движение от предметного пласта
специально-научного знания к различным пластам знания методологического знаменует собой обращение ученого к таким надтеоретическим образованиям, как научная картина мира, стиль мышления, парадигма, нормы и идеалы научного исследования. Внутритеоре-тическая рефлексия над основаниями знания неизбежно сменяется рефлексией метатеоретической. Внимание исследователя приковывается к вопросам такого рода, как достоверность получаемых наукой фактов, точность определения вводимых понятий, строгость проводимых рассуждений и доказательств, их соответствие принятым канонам.
| 1 Бажанов В.А. Проблема полноты квантовой теории: поиск новых подходов. Казань, 1983. С. 6. |
Поскольку наука исторически может формироваться и развиваться лишь в том или ином социокультурном контексте, то отсюда следует, что методологические слои знания существуют не сами но себе, а всегда так или иначе встроены в более широкую общекультурную «матрицу», слагающуюся из господствующих в данную эпоху мировоззренческих установок, ценностных предпочтений, идей и категорий. Обращение теоретика к основаниям предпосылочного типа образует третий виток рефлексии, имеющей ясно выраженный философский характер. При этом диалектика научного познания раскрывается не только в трансформациях одной формы рефлексии в другую, охватывающую все более широкое предметное поле анализа, но и в диалектическом обогащении самого типа рефлексии. «Так, если внутритеоретический тип рефлективности фактически совпадает с процедурой внутренней теоретизации, то на метатеоретической ступени происходит своеобразное «удвоение» знания, расщепление его на объективное и метатеоретическое, а на уровне философской рефлексии познавательная деятельность отчуждает себя до той степени, когда путем самоотнесения осмысливается ракурс «слияния», взаимопроникновения субъективного в объективное, другими словами — мера объективности истины»1. Фило-софско-методологическая рефлексия позволяет прояснить и осознать те предельные онтогносеологические и культурно-исторические предпосылки и допущения, которые неявно принимает исследователь в своей научной практике. Выявляя и осмысляя «предельные основания», исходные принципы анализа научного познания и связывая их с философской проблематикой взаимоотношения мышления и бытия, субъекта и объекта, истины и заблуждения, гносеологический подход к научному познанию задает теоретическую перспективу логико-методологическому анализу науки, ориентирует его на дальнейшее углубление в предмет, препятствует абсолютизации различного рода частных логико-методологических моделей и подходов1.
Следует отметить, что последний период развития методологической мысли характеризуется усиливающимся интересом именно к проблемам указанного типа. Этот сдвиг в ориентациях методологических исследований является сегодня весьма показательным и плодотворным по своим результатам. Он отражает глубинную и устойчивую тенденцию в развитии философской и общеметодологической культуры: от понимания субъекта познания в духе «гносеологической робинзонады» философская мысль движется ко все более конкретному постижению его во всей полноте социокультурных характеристик. Мощный импульс этому движению мысли был дан, как известно, еще в знаменитых «Тезисах о Фейербахе» К. Маркса.
| 1 См.: Швырев B.C. Теория познания и методологический анализ науки // Гносеология в системе философского мировоззрения. М. 1983. С. 129-130. |
Необходимость выдвижения на передний план гносеологической проблематики в исследованиях по методологии науки определяется в настоящее время как внутренней логикой развития философских изысканий, так и уроками негативного опыта, вытекающего из эволюции логического позитивизма (и аналитических школ) к современным постпозитивистским течениям. Едва ли не важнейший урок, который следует из этого опыта, состоит в том, что выяснилась прямая зависимость тех или иных методологических построений от
исходных общефилософских и гносеологических установок. Полемика между такими видными представителями постпозитивистских течений, как К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатош, С, Тулмин, П. Фейерабенд и др., показала, что проблемы оснований научного знания не могут сегодня рассматриваться сколько-нибудь серьезно без обращения к традиционным философским вопросам (структура реальности, природа универсалий, отношение между понятием и вещью, критерии научности и рациональности, истина и др.). Вместе с тем становится ясно и другое: анализ традиционных гносеологических проблем оказывается сегодня тем более продуктивным, чем активнее философ обращается к тому гигантскому интеллектуальному опыту, который накопила современная наука как на своем предметном, так и частно-методологическом уровнях. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что наиболее плодотворный путь исследования проблем методологии науки в условиях современной гносеологической ситуации — это путь рассмотрения их через призму универсальных теоретико-познавательных принципов и категорий, но с учетом того, что сами эти принципы и категории мыслятся в связи с выдвигаемыми наукой кардинальными проблемами и в контексте наработанной ею методологической культуры.
Названный путь конституирует как бы новое измерение методологического сознания благодаря тому, что он позволяет сомкнуть две существовавшие долгие годы параллельно линии в эволюции форм рефлексии — внутринаучную и общефилософскую.
Одной из центральных проблем, возникающих на стыке внутринаучной и общефилософской рефлексии, оказалась диалектика объективного и субъективного в рамках, казалось бы, самых точных дисциплин современной науки — математики и физики. Как уже отмечалось в своем месте, метод формализации начинается с четкого разграничения формального и содержательного планов, а заканчивается тем, что вовлекает оба плана в тонкую диалектическую игру. Предметная теория необходимо должна иметь некоторую надстройку в виде «второго этажа» знания — метатеорию. Формализованная теория дополняется некоторым содержательным знанием. Абстракция формализуемости знания наталкивается на первое естественное ограничение: формализованная теория может существовать лишь в виде предметной (объектной) теории, дополняемой метатеорией. Субъект (вообще субъективная реальность) не изгоняется из теории, он продолжает входить в нее некоторым не поддающимся контролю способом. Это обстоятельство, однако, не ослабляет требований научной рациональности, ибо благодаря формализации устанавливается четкая граница, в рамках которой гарантируется возможность полной абстракции от субъективной сферы.
Опыт исследований по основаниям математики показал, что, во-первых, полная элиминация субъекта как с точки зрения процесса, так и результата познания невозможна, во-вторых, можно указать такие границы, такой интервал абстракции, внутри которого отвлечение от субъективного фактора рационально обосновано. Все дело только в том, что эта граница является диалектически подвижной (но каждый раз конкретно фиксируемой!).
Любопытно, что с ситуациями аналогичного типа приходится сталкиваться уже при анализе обычных процессов человеческого восприятия. Рассмотрим элементарный пример. Испытуемому предъявляется белое пятно на черном фоне. Является ли данное пятно объективным фактом? Можно долго спорить на эту тему, если забыть, что истина всегда конкретна. Для осмысления ответа на вопрос следует однозначно определить обстоятельства рассмотрения проблемы. Если органы чувств рассматриваются как «приборы, встроенные в человека», то показания этих приборов не могут не выступать как «объективно данное» в заданном интервале абстракции.
Однако человек может критически отнестись к показаниям своих органов чувств и поставить перед собой вопрос: соответствуют ли данные ощущения объективной реальности? Для того чтобы адекватно решить этот вопрос, нужно выйти за рамки данного интервала. Но это нельзя сделать только в уме, только
изменив «точку зрения» или «аспект рассмотрения». Необходимо преодолеть реальную границу. В контексте анализа процессов восприятия выход за рамки исходного интервала мыслим двумя способами. Первый — использование показаний другого органа чувств (напр., классический опыт с очками, искажающими положение или структуру наблюдаемого объекта; приток дополнительной информации, получаемый с помощью осязания, восстанавливает объективную картину). Второй — осуществление практического взаимодействия отражаемой вещи с какой-либо другой; в зависимости от того, получили ли мы ожидаемый эффект, можно судить об адекватности наших ощущений.
Подвижность границ между субъектом и объектом, порождающая «многоинтервальную» структуру взаимопереходов объективного и субъективного, в истории науки впервые проявилась в полной мере при изучении микромира. Анализируя эту сторону дела, В.А. Фок отмечает, что взаимодействие между атомным объектом и измерительным прибором имеет два аспекта— гносеологический и физический1. Всегда существует граница между той частью экспериментальной установки, которая описывается кванто-во-механическими средствами и рассматривается как объект, и той ее частью, которая описывается классическими средствами и рассматривается как прибор. Эта граница обязана своим происхождением применяемому способу описания. Для того, чтобы исследовать физическое взаимодействие между указанными частями экспериментальной установки, «необходимо провести новую границу, включив в квантово-меха-ническую часть кое-что из того, что раньше относилось к классической части устройства... Если отобрать те случаи, в которых промежуточная часть (сперва трактовавшаяся как классическая, а затем как кван-тово-механическая) определенным образом прореагировала (например, произошло почернение фотопластинки), то получится утонченная теория первоначаль-
' Фок В.А. Дискуссия с Нильсом Бором // Вопросы философии, 1964, №8. С. 52.
ного измерительного прибора. Но при этом возникает новая «гносеологическая граница». На что я особенно хотел бы обратить внимание — это возможность исследовать физические процессы в любом месте экспериментальной установки»1.
Из сказанного можно заключить, что установка научной рациональности классического естествознания, согласно которой субъективная реальность, понимаемая как нечто исторически абстрактное, противостоит объективному миру согласно раз и навсегда заданной границе, не соответствует ведущим тенденциям современной науки. Сегодня все большую эвристическую значимость приобретает методология рефлексивного подхода, рассматривающего поле взаимодействия субъекта и объекта как многомерное образование, в котором лишь посредством конкретного анализа можно в каждом отдельном случае выделить пространство противостояния субъективного и объективного. С появлением все новых «человеческих измерений» науки, с углублением «мировоззренческого понимания сущности и человеческого значения» получаемого наукой знания2, роль названного подхода будет усиливаться. Таким образом, все многообразие методов научного исследования можно разбить на три относительно независимых кластера (множество внутренне взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга элементов, образующих некоторую целостность):
| ! Фок В.А. Дискуссия с Нильсом Бором // Вопросы философии. 1964, № 8. С. 53. 2 Фролов И.Т. На пути к единой науке о человеке // Природа, 1985, № 8. С. 66. |
1) методы эмпирического познания (научное наблюдение, эксперимент, измерение, использование приборов, эмпирическое обобщение, выдвижение эмпирических гипотез, формулировка эмпирических законов, их эмпирическое подтверждение, фальсификация, экстраполяция и др.);
2) методы теоретического познания (идеализация, мысленный эксперимент, математическая гипотеза, логическое доказательство, формализация, конструирование теоретических схем, их интерпретация, построение научных теорий и др.); 3) методы метатеоретического познания (выдвижение и формулировка общенаучных принципов, картин мира, рефлексия, экспликация философских и социокультурных оснований отдельных наук и пара-дигмальных теорий и др.).
Характерно то, что каждый из указанных выше методологических кластеров наиболее приспособлен к обслуживанию именно определенного уровня научного знания (эмпирического, теоретического или метатеоретического). Разумеется, это не отменяет использования в науке и общегносеологических познавательных процедур, применяющихся и в других видах познавательной деятельности (обыденное познание, философия, мифология, искусство, религия). К этим процедурам относятся — абстрагирование, описание, номинация, денотация, анализ, синтез, индукция, дедукция, объяснение, понимание, интерпретация и др. Однако, необходимо иметь ввиду, во-первых, что использование этих общегносеологических средств имеет в науке свои особенности, обусловленные их замыканием на получение и обоснование именно научного знания как специфического продукта когнитивной деятельности, а, во-вторых, что действие общегносеологических методов и средств познания всегда вписано и подчинено в научном познании в один из трех описанных выше методологических кластеров науки.
Глава 4
РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Данная проблема философии науки имеет в себе три аспекта. Первый. Что составляет сущность динамики науки? Это просто эволюционное изменение (расширение объема и содержания научных истин) или развитие (изменение со скачками, революциями, качественными отличиями во взглядах на один и тот же предмет) ? Второй вопрос. Является ли динамика науки процессом в целом кумулятивным (накопительным) или антикумулятивным (включающем постоянный отказ от прежних взглядов как неприемлемых и несоизмеримых с новыми, сменяющими их)? Третий вопрос. Можно ли объяснить динамику научного знания только его самоизменением или также существенным влиянием на него вненаучных (социокультурных) факторов? Очевидно, ответы на эти вопросы нельзя получить, исходя только из философского анализа структуры сознания. Необходимым является также привлечение материала реальной истории науки. Впрочем, столь же очевидно, что история науки не может говорить «сама за себя», что она (как и всякий внешний опыт) может быть по-разному проинтерпретирована, «рационально реконструирована». Тип этой рациональной реконструкции существенно зависит от выбора, предпочтения, оказываемого той или иной общей гносеологической, философской позиции (сенсуализм — рационализм, эмпиризм — теоретизм, имманентизм — трансцендентализм, редукционизм — антиредукционизм и т. д.).
Обсуждение сформулированных выше вопросов заняло центральное место в работах постпозитивистов
Глава 4. Развитие научного знания
(К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, Ст. Тулмина, П. Фей-ерабенда, М. Полани и др.) в отличие от их предшественников — логических позитивистов, считавших единственным «законным» предметом философии науки логический анализ структуры ставшего («готового») научного знания. Поскольку ответы на вопросы о динамике научного знания нельзя дать без обращения к материалу истории науки, именно последняя была объявлена постпозитивистами «пробным камнем» истинности ее реконструкций. Однако при этом часто забывалась другая сторона, а именно, что предлагаемые постпозитивистами модели динамики научного знания не только опирались на историю науки, но и предлагали («навязывали») ее определенное видение. Это «видение» заключалось, в частности, не только в различном понимании механизма функционирования и динамики науки, но и вытекающих из него с необходимостью различных вариантов разделения компонент науки на внутренние и внешние. Так, с точки зрения попперовской модели динамики научного знания, процесс открытия научных законов — внешний фактор для истории науки, тогда как для М. Малкея и Дж. Гилберта — внутренний. С позиций большинства постпозитивистов психологические и социальные детерминанты принадлежат к внешней истории науки, тогда как Т. Кун, М. Полани, П. Фейерабенд частично включают их во «внутреннюю историю» науки. Для Поппера факты — абсолютная ценность науки, они бесспорны (хотя и конвенциональны), общезначимы и кумулятивны. С позиций Т. Куна они относительно ценны, необщезначимы (их истолкование зависит от принятой господствующей теории— «парадигмы»), а в целом факту-альное знание — некумулятивно.
Говоря о природе научных изменений, необходимо подчеркнуть, что хотя все они совершаются в научном сознании и с его помощью (т. е. отвечают его внутренним разрешающим возможностям и регулируются его структурой), их содержание зависит не только и не столько от сознания, сколько от результатов взаимодействия научного сознания с определенной, внешней ему объектной реальностью, которую оно стремится постигнуть (в конечном счете— отгадать). История науки — это не логический процесс развертки содержания научного сознания, а когнитивные изменения, совершающиеся в реальном историческом пространстве и времени. Далее, как убедительно показывает реальная история науки, происходящие в ней когнитивные изменения имеют эволюционный, т. е. направленный и необратимый характер. Это означает, например, что общая риманова геометрия не могла появиться раньше евклидовой, а теория относительности и квантовая механика — одновременно с классической механикой.
Иногда это объясняют с позиций трактовки науки как обобщения фактов; тогда эволюция научного знания истолковывается как движение в сторону все больших обобщений, а смена научных теорий понимается как смена менее общей теории более общей. В логике «степень общности» вводится обычно экстенсивно. Понятие А является более общим, чем понятие В, если и только если все элементы объема понятия В входят в объем понятия А, но обратное не имеет место. Взгляд на научное познание как обобщение, а на его эволюцию как рост степени общности сменяющих друг друга теорий — это, безусловно, индуктивистская концепция науки и ее истории. Индуктивизм был господствующей парадигмой философии науки вплоть до середины XX века. В качестве аргумента в ее защиту был выдвинут так называемый принцип соответствия, согласно которому отношение между старой и новой научной теорией (должно быть) таково, чтобы все положения предшествующей (и тем самым все факты, которые она объясняла и предсказывала) выводились в качестве частного случая в новой, сменяющей ее теории. В качестве примеров обычно приводились классическая механика, с одной стороны, и теория относительности и квантовая механика, с другой; синтетическая теория эволюции в биологии как синтез дарвиновской концепции и генетики; арифметика натуральных чисел, с одной стороны, и арифметика рациональных или действительных чисел, с другой,евклидова и неевклидова геометрии и др. Однако, при ближайшем, более стро-
Глава 4. Развитие научного знания
гом анализе соотношения понятий указанных выше теорий, никакого «частного случая» или даже «предельного случая» в отношениях между ними не получается. Рассмотрим, например, уравнение, связывающее значения масс в классической и релятивистской механике:
 |
где m — движущая масса; т0 — масса покоя; V— скорость движения массы; с — скорость света.
Это уравнение безусловно говорит о том, что с
увеличением V т — возрастает, т. к. м_
умень-
шается. При V = 0, m = m0, но это лишь один случай самой классической механики, притом ее статики, но не динамики. При V = с — уравнение не имеет математического смысла. А ведь только при рассмотренных значениях V возможно логическое выведение значения массы тела в классической механике из уравнений массы тела релятивистской механики в качестве частного случая. «Частного случая» не получилось. Тогда, может быть, более осмысленным является толкование классической механики в качестве «предельного случая» релятивистской механики? В самом деле, при последовательном уменьшении V значение m все больше приближается к значению т0, но никогда его не достигает (по самому смыслу релятивистской механики), поэтому т0 не может быть рассмотрено и в качестве «предельного случая» т, так как это возможно только при исчезновении самого движения тела (при V = 0). Ясно, что выражение «предельный случай» имеет очень нестрогое и скорее метафорическое значение. Очевидно, что масса тела либо меняет свою величину в процессе движения, либо нет. Третьего не дано. Классическая механика утверждает одно, релятивистская — прямо противоположное. Они несовместимы и, как показали постпозитивисты, несоизмеримы, т. к. у них нет общего нейтрального эмпирического базиса. Они говорят разные и порой несовместимые вещи об одном и том же (массе, пространстве, времени и др.).
Аналогичные возражения можно привести и в отношении других «любимых примеров» кумулятивистов. Классическая механика: можно одновременно задать точное значение двух переменных — координаты физического тела и его импульса. Квантовая механика: этого сделать принципиально нельзя, если, конечно, не пренебрегать значением постоянной Планка, накладывающей количественное ограничение на предел максимально допустимой одновременной точности этих сопряженных величин.
Современная синтетическая эволюция не есть аддитивная сумма положений аутентичной дарвиновской теории эволюции и, скажем, менделевской генетики. Они противоречат друг другу в понимании характера эволюции: номогенез в дарвиновской теории эволюции видов через естественный отбор и в общем случайный (неконтролируемо-многофакторный) характер эволюции в современной синтетической теории.
То же самое отрицательное заключение можно сделать и в отношении применения принципа соответствия к эволюции математического знания (принцип Ганкеля). Строго говоря, неверно утверждать, что арифметика действительных чисел является обобщением арифметики рациональных чисел, а последняя — обобщением арифметики натуральных чисел. Начнем с опровержения последнего утверждения. Как известно,
m
рациональные числа имеют вид —, где тип — на-
п
туральные числа, то есть рациональные числа суть отношения между натуральными числами, а не сами эти числа. Одним словом, рациональное число — это функция от двух переменных, и ее формальным синтаксическим эквивалентом является двухместный предикат А(х, у), где х и у — натуральные числа. Конечно, когда
результатом деления Г£ является целое число, особен-п
но в случаях, когда n = 1, тогда значение функции £1
п
является одним из натуральных чисел. Более правильно сказать, что натуральные числа могут быть рассмотрены как правильное подмножество множества рациональных чисел. Но это еще не означает, что натуральные числа являются частью множества рациональных
m
чисел, так как числа вида — остаются все же рациональными, а не натуральными числами. Другое дело, что каждому натуральному числу можно поставить в соответствие одно и только одно рациональное число
m „
вида —. В этом случае говорят, что множество натуральных чисел может быть «изоморфно вложено» в множество рациональных чисел. Обратное неверно. Но быть «изоморфно вложенным» отнюдь не означает быть «частным случаем». «Частным случаем» рациональных чисел является подмножество рациональных же чисел
| но это отнюдь не натураль- |
| т вида у |
'2 3 4 100 ^ J'1'Г"" 1 ' ные числа. То же самое с соответствующими поправками можно сказать и о соотношении рациональных и действительных чисел и, соответственно, о взаимосвязи арифметики рациональных чисел и арифметики действительных чисел. Действительные числа — это числа
вида г.],Ъ]Ъ2Ь3Ъ4..., где а^Ь^Ь-^Ь.,,^ — любые нату-
ральные числа. Действительные числа по своему син-
таксическому представлению — это бесконечно-мест-
ные предикаты вида А(х, у, z, ...), тогда как рациональ-
ные — только двухместные. Конечно, можно установить
изоморфизм соответствия между подмножеством дей-
ствительных чисел вида а,, b,b2b3b4________________ (когда
b,,b,,b,,b4... равны 0) и множеством рациональных чисел. Однако все дело в том, что именно благодаря символу «...», означающему «бесконечность», множество действительных чисел не просто бесконечно (как множество натуральных и рациональных чисел), но несчетно-бесконечно, тогда как множество рациональных чисел— счетно-бесконечно. И здесь принцип Ган-келя «не работает»: арифметика действительных чисел не является обобщением арифметики рациональных чисел, а последняя, соответственно, частным случаем первой.
Рассмотрим, наконец, соотношение евклидовой и неевклидовых геометрий. Последние не являются обобщением первой, так как синтаксически многие их утверждения просто взаимно противоречат друг другу. В евклидовой геометрии через одну точку на плоскости по отношению к данной прямой можно провести только одну параллельную ей прямую линию; сумма углов любого треугольника равна строго 180°; отношение длины окружности к ее диаметру равно п. В геометрии Лобачевского: через одну точку на плоскости по отношению к данной прямой можно провести более одной параллельной ей прямой линии, сумма углов любого треугольника всегда меньше 180°, отношение длины окружности к диаметру всегда больше п. Частная риманова геометрия: через точку на плоскости по отношению к данной прямой нельзя провести ни одной параллельной ей линии, сумма углов любого треугольника всегда больше 180°, отношение длины окружности к диаметру всегда меньше ж. Конечно, ни о каком обобщении геометрий Лобачевского и Римана по отношению к геометрии Евклида говорить не приходится, так как они просто противоречат последней.
Правда, оказалось, что противоречия между ними можно избежать, если дополнительно ввести такой параметр, как кривизна непрерывной двухмерной поверхности. Тогда их удается «развести» по разным предметам. Утверждения геометрии Евклида оказываются верными для поверхностей с коэффициентом кривизны 0 («старые добрые плоскости»). Положения геометрии Лобачевского выполняются на поверхностях с постоянной отрицательной кривизной (коэффициент кривизны имеет одно из фиксированных значений в континууме {о....-l}, исключая крайние значения. Утверждения частной римановой геометрии, напротив, выполняются на поверхностях с постоянной положительной кривизной (коэффициент кривизны имеет одно из фиксированных значений в континуальном интервале {о....-t-l}, исключая крайние значения. Таким образом, возможна только одна евклидова геометрия и бесконечное множество геометрий Лобачевского и Римана. Впоследствии Риман обобщил все эти случаи в построенной им общей римановой геометрии, где кривизна пространства является не постоянной, а переменной величиной. Однако, это чисто формальное обобщение, никак содержательно не влияющее на решение вопроса о соотношении евклидовой и неевклидовых геометрий.
Итак, геометрия Евклида не является частным случаем ни геометрии Лобачевского, ни геометрии Римана, так как последние «не имеют права» принимать значение коэффициента кривизны 0. Но, может быть, евклидова геометрия может быть истолкована как «предельный случай» неевклидовых геометрий? Оказывается, тоже нет. Ибо, во-первых, понятие «предельного случая» является качественным и нестрогим. Во-вторых, конечно, можно сказать, что плоскость Евклида является пределом внутренней или внешней поверхности шара, но с таким же правом можно утверждать, что евклидова прямая есть «предельный случай» треугольника Лобачевского, а евклидова окружность «предельным случаем» треугольника Римана. Ясно, что такие утверждения являются столь же бессодержательными, сколь и нестрогими. Одним словом, понятие «предельного случая» призвано скрыть качественное различие между различными явлениями, ибо при желании все может быть названо «предельным случаем» другого. Метафоричность и нестрогость данного понятия всегда позволяют это сделать.
Таким образом, принцип соответствия с его опорой на «предельный случай» не может рассматриваться в качестве адекватного механизма рациональной реконструкции эволюции научного знания. Основанный на нем теоретический кумулятивизм фактически представляет собой редукционистскую версию эволюции науки, отрицающей качественные скачки в смене фундаментальных научных теорий.
Признание наличия качественных скачков в эволюции научного знания означает, что эта эволюция имеет характер развития, когда новые научные теории ставят под вопрос истинность старых теорий, поскольку они не могут быть совместимы друг с другом по целому ряду утверждений о свойствах и отношениях одной и той же предметной области.
Когда пытаются «развести» старую и пришедшую ей на смену новую теорию по различным предметным сферам, считая каждую из них истинной в своей области, то, как правило, явно лукавят, выдавая желаемое за действительное. Например, когда говорят, что классическая механика истинна для описания движения физических тел с большими массами и малыми скоростями, тогда как релятивистская истинна для описания движения малых масс с большими скоростями. Во-первых, это нестрогое высказывание, ибо здесь точно не определяют границу, с которой начинаются большие массы и большие скорости, а, во-вторых, релятивистские эффекты либо имеют место при любых скоростях (кроме 0), либо не имеют. Л здесь классическая и релятивистская механика несовместимы в своих ответах. Другое дело, что при малых скоростях релятивистский эффект значительно меньше, чем при больших, и с практической точки зрения (для простоты расчетов и моделей) им можно пренебречь. Но пренебречь чем-то — не значит отказать ему в существовании.
Необходимо также подчеркнуть, что несовместимость старой и новой теорий является не полной, а лишь частичной. Это означает, во-первых, что многие их утверждения не только не противоречат друг другу, а полностью совпадают (например, что последующее состояние физической системы зависит только от ее предыдущего состояния, и ни от чего более, утверждается и в классической, и в релятивистской физике). Вовторых, это означает, что старая и новая теории частично соизмеримы, так как вводят часть понятий (и соответствующих им предметов) абсолютно одинаково (например, масса и в классической, и в релятивистской физике понимается как мера инерции; прямая линия и в евклидовой, и в неевклидовой — как кратчайшее расстояние между двумя точками и т. д. и т. п.). Новые теории отрицают старые не полностью, а лишь частично, предлагая в целом существенно новый взгляд на ту же самую предметную область.
Проблема выбора наиболее предпочтительной из конкурирующих теорий, как отмечали многие классики науки (А. Эйнштейн, М. Планк, А. Пуанкаре, Н. Бор и др.), — очень сложный, многофакторный и длительный процесс, отнюдь не сводимый не только к степени соответствия каждой из них имеющимся фактам, но и вообще к логико-методологической реконструкции. Как хорошо показали в своих работах Т. Кун, П. Фейера-бенд, М. Малкей и др. процесс смены фундаментальных научных теорий существенно опирается на социальный, психологический и философский контексты, включающие не только знания, но и традицию, веру, авторитет, систему ценностей, философское мировоззрение, самоидентификацию исследовательских поколений и коллективов и т. п. Согласно Т. Куну, переход от одной господствующей фундаментальной научной теории («парадигмы») к другой, составляя когнитивное содержание научных революций (своеобразных точек бифуркации, моментов разрыва общей динамики научного знания), означает «обращение» дисциплинарного научного сообщества в новую научную веру, после которого наступает период кумулятивного, непрерывного, рационально и эмпирически регулируемого процесса научного поиска.
Итак, развитие научного знания представляет собой непрерывно-прерывный процесс, характеризующийся качественными скачками в видении одной и той же предметной области, Поэтому в целом развитие науки является некумулятивным. Несмотря на то, что по мере развития науки постоянно растет объем эмпирической и теоретической информации, было бы весьма опрометчиво делать отсюда выводы о том, что имеет место прогресс в истинном содержании науки. Твердо можно сказать лишь то, что старые и сменяющие их фундаментальные теории видят мир не просто существенно по-разному, но зачастую и противоположным образом. Прогрессистский же взгляд на развитие теоретического знания возможен только при принятии философских доктрин преформизма и телеологизма применительно к эволюции науки.
Столь же неоднозначно решается в современной философии науки и вопрос о ее движущих силах. По этому вопросу существуют две альтернативные, взаимоисключающие друг друга позиции: интернализм и экстернализм. Согласно интерналистам, главную движущую силу развития науки составляют имманентно присущие ей внутренние цели, средства и закономерности; научное знание должно рассматриваться как саморазвивающаяся система, содержание которой не зависит от социокультурных условий ее бытия, от степени развитости социума и характера различных его подсистем (экономики, техники, политики, философии, религии, искусства и т. д.). Как сознательно отрефлек-сированная позиция интернализм оформился в 30-е гг. XX века в качестве оппозиции экстернализму, подчеркивавшему фундаментальную роль социальных факторов как на этапе генезиса науки, так и на всех последующих этапах развития научного знания. Наиболее видные представители интернализма — А. Койре, Р. Холл, П. Росси, Г. Герлак, а также такие известные постпозитивистские философы науки, как Лакатос и особенно Поппер.
Последнему принадлежит наиболее значительная попытка обоснования правомерности интерналистской программы развития научного знания. Согласно онтологической доктрине Поппера, существуют три самостоятельных, причинно не связанных друг с другом типа реальности: физический мир, психический мир и мир знания. Мир знания создан человеком, но с некоторого момента он стал независимой объективной реальностью, все изменения в которой полностью предопределены ее внутренними возможностями и предшествующим состоянием. Как и другие интерналисты, Поппер не отрицает влияния на динамику науки наличных социальных условий (меры востребованности обществом научного знания как средства решения различных проблем, влияния на науку вненаучных форм знания и т. д.), однако считает его чисто внешним, никак не затрагивающим само содержание научного знания.
Необходимо различать две основные версии интер-нализма: эмпиристскую и рационалистскую. Согласно первой, источником роста содержания научного знания является нахождение (установление, открытие) новых фактов. Теория суть вторичное образование, представляющее собой систематизацию и обобщение фактов (классическим представителем эмпиристского варианта интернализма в историографии науки был, например Дж. Гершель). Представители рационалистской версии (Декарт, Гегель, Поппер и др.) считают, что основу динамики научного знания составляют теоретические изменения, которые по своей сути всегда есть либо результат когнитивного творческого процесса, либо перекомбинации уже имеющихся идей-(несущественные идеи становятся существенными и наоборот; независимые — зависимыми, объясняемые — объясняющими и т. д.). Любой вариант рационалистского интернализма имеет своим основанием интеллектуальный преформизм, согласно которому все возможное содержание знания уже предзадано определенным множеством априорных общих базисных идей. Научные наблюдения трактуются при этом лишь как один из внешних факторов, запускающих механизм творчества и перекомбинации мира идей ради достижения большей степени его адаптации к наличным воздействиям внешней среды, имеющим в общем-то случайный характер. Оценивая эвристический потенциал интерналистской парадигмы, необходимо отметить такие ее положительные черты, как подчеркивание (хотя и чрезмерное) качественной специфики научного знания по сравнению с вненаучными видами познавательной деятельности, преемственности в динамике научного знания, направленности научного познания на объективную истину. К отрицательным чертам интернализма относятся: имманентизм, явная недооценка его представителями социальной, исторической и субъективной природы научного познания, игнорирование культурной и экзистенциальной мотивации научного познания, непонимание его представителями предпосылочного — идеализирующего и идеологического — характера собственных построений.
В противоположность интерналистам, экстернали-сты исходят из убеждения, что основным источником инноваций в науке, определяющим не только направление, темпы ее развития, но и содержание научного знания, являются социальные потребности и культурные ресурсы общества, его материальный и духовный потенциал, а не сами по себе новые эмпирические данные или имманентная логика развития научного знания. С точки зрения экстерналистов, в научном познании познавательный интерес не имеет самодовлеющего значения (познание ради умножения и совершенствования знания в соответствии с неким универсальным методом). Он в конечном счете всегда «замкнут» на определенный практический интерес, на необходимость решения, в формах наличной социальности, множества инженерных, технических, технологических, экономических и социально-гуманитарных проблем. Наиболее мощная попытка реализации эк-стерналистской программы в историографии науки была предпринята в 30-е годы XX века (Б. Гессен, Дж. Бернал, Э. Цильзель, Д. Нидам и др.), а в 70-х гг. — в рамках философии и социологии науки (Т. Кун, П. Фейерабенд, М. Малкей, М. Полани, Л. Косарева, Г. Гачев и др.). Идейные истоки экстернализма уходят в Новое время, когда произошло сближение теоретизирования с экспериментом, когда научное познание стало сознательно ставиться в непосредственную связь с ростом материального могущества человека в его взаимодействии с природой, с совершенствованием главных средств этого могущества — техники и орудий труда. «Знание — сила» — так сформулировал Ф. Бэкон основной взгляд на назначение науки. Впоследствии обоснование практической природы науки, ее зависимости от наличных социальных форм практической деятельности составило одну из характерных черт марксистской традиции (К. Маркс, В.И. Ленин, В.М. Шулятиков, А.А. Богданов, Д. Лукач, Т. Котарбин-ский и др.).
Будучи едины в признании существенного влияния общества и его потребностей на развитие науки, экстерналисты расходятся в оценке значимости различных социальных факторов на это развитие. Одни считают главными факторами, влияющими на развитие науки, экономические, технические и технологические потребности общества (Дж. Бернал, Б. Гессен и др.), другие — тип социальной организации (А. Богданов), третьи — господствующую культурную доминанту общества (О. Шпенглер), четвертые— наличный духовный потенциал общества (религия, философия, искусство, нравственность, архетипы национального самосознания), пятые — конкретный тип взаимодействия всех указанных выше факторов, образующий наличный социокультурный фон науки, ее инфраструктуру (В.Купцов и др.), шестые— локальный социальный и социально-психологический контекст деятельности научных коллективов и отдельных ученых (Т. Кун, П. Фейерабенд, М. Малкей и др.).
Другим существенным пунктом расхождений среди экстерналистов является вопрос о том, влияют ли социальные факторы только на направление и темпы развития науки (как реакция на определенный «социальный заказ» со стороны общества) или также и на метод науки и ее когнитивные результаты (характер предлагаемых учеными решений проблем). Вплоть до 70-х гг. большинство экстерналистов положительно отвечало только на первую часть дилеммы, считая, что содержание науки полностью определяется содержанием объекта; она располагает истинным методом, который инвариантен по отношению к различным социальным условиям и применяющим его субъектам (доктрина социальной и ценностной нейтральности естествознания). Исключение делалось для социальных и гуманитарных наук, где признавалось существенное влияние на теоретические построения социальных интересов и принимаемой учеными системы ценностей (Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. Мангейм, Ю. Хабермас и др.). Однако развитие методологии, социологии и истории науки во второй половине XX века привело к крушению представления об инвариантности, всеобщности и объективности научного метода и научного этоса. В работах Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Малкея, Л. Лаудана, а также представителей современной школы когнитивной социологии науки (С. Уолгар, Б. Барнс, К. Кнорр-Цетина и др.) показаны парадигмальность, партикулярность, ценностная обусловленность, историчность, конструктивность как самого процесса научного познания, так и всех его результатов. Они считают, что только с таких позиций можно адекватно объяснить качественные скачки в развитии научного знания, поведение ученых во время научных революций, частичную несоизмеримость научных эпох и сменяющих друг друга фундаментальных теорий, конкуренцию научных гипотез и программ, борьбу за приоритеты в науке и т. п. К слабым сторонам экстернализма относится постоянная опасность недооценки его представителями относительной самостоятельности и независимости науки по отношению к социальной инфраструктуре, скатывание на позиции абсолютного релятивизма и субъективизма (П, Фейерабенд и др.).
При решении вопроса о выборе между интерна-листской и экстерналистской моделями движущих сил развития научного знания необходимо иметь в виду следующие моменты. Прежде всего, необходимо различать их «жесткие» и «мягкие» варианты. Конечно, жесткие версии того и другого неприемлемы в одинаковой мере. Жесткий («грубый») экстернализм — это аналог эволюционного ламаркизма («лысенковщи-ны»), согласно которому среда (в случае науки — со-циокультура) детерминирует генетические изменения (в случае науки — ее когнитивные инновации). С другой стороны, жесткий (последовательный до конца) интернализм — это аналог биологического преформизма.
Конечно, ни один из факторов социальной среды (потребности экономики, техники, идеологические ценности, мировоззренческие ориентиры), ни даже социокультурная среда в целом (социокультурный фон) не может детерминировать появление новой идеи, ибо последняя может «родиться» только от идеи же. Роль социкультурной среды состоит в том, что она способна «провоцировать» (или «не провоцировать») рождение конкретной идеи. Между наукой и ее социальным окружением существует скорее отношение «кооперации», «резонанса», когда их «созвучие» способствует рождению новой идеи, показывая ее востребованность. Наука по своей социально-биологической («адаптационной») природе всегда готова, так сказать, «генетически» откликнуться на требования среды, но, при этом она сама должна быть уже подготовлена к ответу на конкретный вызов ее социального окружения. Если продолжить биологическую аналогию: для того, чтобы «родить» какую-то идею, наука должна по крайней мере быть «беременной» ею. Поскольку идея может «родиться» только от идеи же, постольку свое влияние на науку социальное окружение может оказывать не непосредственно, а только через «когнитивных посредников» (не обязательно из данной области науки или вообще из науки). Поэтому не просто социальный фон, а именно его когнитивная часть выступает посредствующим звеном, передаточным механизмом вызова науке со стороны социокуль-туры. Если проводить синергетические аналогии, то социокультура выступает по отношению к науке в качестве своеобразного контрольного параметра, оказывающего существенное влияние на эволюцию науки как открытой диссипативной структуры. Ну и, конечно же, необходимо помнить, что мыслит не научное сознание (мышление) само по себе (это — полезная абстракция и не более того, правда, и не менее), а человек (научное сообщество) с помощью научного мышления, так же как генетически мутирует наследственная структура не «вообще», а именно конкретного организма.
Экстерналистское истолкование движущих сил науки значительно усложняет работу историков науки. Усложняет, но не обедняет. Интернализм же ориентирует историков науки на упрощенный ее вариант, представляя абсолютно самостоятельной и «девственно чистой» по отношению к обществу и его потребностям. Интернализм — это, в лучшем случае, адекватная форма внутренней развертки (подачи) результатов развития науки. Интерналист фактически призывает абстрагироваться от социального и исторического времени бытия науки. Для него (как и для любого имманентиста) время — только формально, только для отметки следования одного научного результата за другим и не имеет к реальному времени конкретной эпохи никакого отношения. Интерна-лизму, отказавшемуся от учета детерминационных ресурсов социокультуры на развитие науки, приходится «педалировать» более сильно, чем это необходимо, на роль случайности и индивидуального творчества конкретных ученых. (Вот пришел, появился Евклид, Галилей, Эйнштейн и т. д. и сделал (сотворил) то-то и то-то...) Другой возможный вариант интернализма (гегелевского типа) не лучше: здесь считается, что всякая последующая идея вытекает из предыдущей с диалектической необходимостью. Очевидно, что такой подход также неприемлем, так как опирается на идеи преформизма и телеологизма.
Таким образом, среди основных концепций развития научного знания наиболее приемлемым оказывается «срединный путь», исходящий из взаимосвязи внутринаучных факторов (включая когнитивные мутации) и социокультурных факторов. Именно эта взаимосвязь и образует подлинную основу развития системы научного знания.
1 Словарь ключевых терминов
Абстрагирование — способ замещения чувственно данного объекта мысленным конструктом (абстрактным объектом) посредством двух взаимосвязанных мыслительных процедур — отвлечения и пополнения, при которых, с одной стороны, в содержание конструкта включается лишь часть из множества соответствующих чувственных данных, с другой стороны, в это содержание привносится новая информация, никак не вытекающая из этих данных. Так, формируя такой абстрактный объект геометрии как треугольник, квадрат, куб и т. п., на первом этапе отвлекаются от всех чувственно данных характеристик пространственных объектов, кроме их формы и размеров, а на втором этапе наделяют их такими свойствами как абсолютная прямизна линий, неизменность, непрерывность и т. п. Результаты абстрагирования принято называть абстракциями.
Абстрактный объект — когнитивно представленный в теории объект научного познания, отображающий те или иные сущностные аспекты, свойства, отношения вещей и явлений окружающего мира. В современном научном познании абстрактный объект может репрезентировать не только соответствующее множество объектов эмпирического опыта, но и множество абстрактных объектов предшествующего уровня абстракции.
Абстракция— результат мысленного членения объекта познания с помощью абстрагирования, в результате которого в науке вырабатываются мысленные конструкты и устанавливаются связи между ними (понятия, суждения и др.)
Базис обобщения — совокупность посылок обобщения. В качестве посылок обобщающей процедуры могут выступать: протокольные предложения, высказывания, фиксирующие факты эмпирического наблюдения; суждения об абстрактных представителях классов (для «правила Лок-ка»); формулы со свободной переменной, по которой производится обобщение; понятия, понятийные конфигурации, теории.
Измерение — процедура сравнения двух величин, в результате которой экспериментально устанавливаются отношения между искомой величиной и другой, принятой за единицу (эталон). На теоретико-множественном уровне измерение можно определить как операцию одно-однозначного соответствия элементов двух множеств, из которых одно есть натуральный ряд чисел, а второе есть результат искусственного разбиения количественно определяемой интенсивности (длины, веса и т. п.) с помощью конвенционально выбранного эталона квантования.
Индукция — способ постижения реальности, состоящий в восхождении отчастного к общему, от единичных фактов к некоторому обобщающему логическому заключению. Индукция представляет собой скачок в познании от данных наблюдения, от опытно сформулированных суждений к общим суждениям. Другими словами, она есть форма движения мысли, специфический способ логического рассуждения, при котором мысль от констатации отдельных фактов переходит к приращению знания в виде некоторых обобщающих суждений.
Интервал абстракции — понятие, обозначающее пределы рациональной обоснованности той или иной абстракции, условия ее «предметной истинности» и границы применимости, устанавливаемые на основе информации, полученной эмпирическими или логическими средствами. Необходимость введения в методологию понятия интервала абстракции связана с идеей обоснования научной абстракции — как самого процесса абстрагирования, так и его результата. Абстрагируя в процессе познания, исследователь действует отнюдь не произвольно, а по определенным правилам и согласно поставленной познавательной задаче. Поскольку цель любых актов отвлечения и пополнения связана в науке в конечном счете с достижением истины, то возникает необходимость учитывать в познавательной деятельности те ограничения и те регулятивы, которые имеют место в отношении самой человеческой способности к абстракции. Во-первых, то, отчего отвлекаются в процессе постижения объекта, должно быть посторонним (по четко оговоренным критериям) для результата абстракции, а то, чем пополняется содержание абстрактного объекта, должно быть релевантным. Во-вторых, исследователь должен знать, до какого предела данное отвлечение имеет законную силу. В-третъих, при исследовании сложных объектов следует производить концептуальную развертку объекта в виде совокупности его проекций в многомерном пространстве интервалов. В-четвертых, на определенном этапе необходимо осуществлять концептуальную сборку относящихся к делу интервалов абстракции в единую конфигурацию и отвлечение от посторонних перспектив видения данного объекта.
Концептуальная развертка — отображение одного и того же исходного объекта исследования в разных теоретических плоскостях (картинах) и соответственно нахождение множества интервалов абстракции. Так, например, в квантовой механике один и тот же объект (элементарная частица) может быть попеременно представлен в рамках двух картин — то как корпускула (в одних условиях эксперимента), то как волна (в других условиях). Эти картины логически несовместимы между собой, но лишь взятые вместе они исчерпывают всю необходимую информацию о поведении микрочастиц. Подобно этому в социологии индивид может рассматриваться в разных социокультурных контекстах, в которых он играет разные социальные роли. Каждый такой контекст может быть основанием для выработки понятия с соответствующим интервалом абстракции. Концептуальная сборка — представление объекта в многомерном когнитивном пространстве путем установления логических связей и переходов между разными интервалами, образующими единую смысловую конфигурацию. Так, в классической механике одно и то же физическое событие может быть отображено наблюдателями в разных системах отсчета в виде соответствующей совокупности экспериментальных истин, Эти разные картины тем не менее могут образовывать некое концептуальное целое благодаря «правилампреобразования» Галилея, регулирующим способы перехода от одной группы высказываний к другой,
Логика науки — совокупность правил логической организации научного знания, применяемых в той или иной научной теории (множество правил вывода и определения). Среди важнейших логических методов построения научных теорий выступают дедукция и конструктивно-генетический метод. Наряду со средствами формальной логики, при создании научных теорий о развивающихся системах и объектах применяют методы диалектической логики (метод восхождения от абстрактного к конкретному, исторический метод и др.) Сознательная фиксация логических средств разворачивания содержания научных теорий особое значение имеет в математике, поскольку здесь первостепенную роль играют непротиворечивость и доказательность теоретических структур и единиц знания.
Метатеоретическое знание — наиболее высокий уровень научного знания; множество высказываний, составляющих основания научных теорий (аксиом, принципов, научной картины мира, идеалов и норм научного исследования и др.). В силу достаточно организованного, системного характера научного знания метатеоретическое знание относится в первую очередь к фундаментальным научным тео-риям (в математике — к арифметике и геометрии, в физике — к механике, в биологии — к теориям эволюции видов и генетике и т. д.).
Моделирование — метод исследования объектов природного, социокультурного или когнитивного типа путем переноса знаний, полученных в процессе построения и изучения соответствующих моделей на оригинал. Метод постижения предметов и явлений на их моделях получил широкое распространение в науке и технике XX века в связи с резким усложнением самих объектов исследования. Эффективность и эвристичность данного метода вытекает из факта глубинного сходства между оригиналом и его моделью, что выражается в существовании изоморфизма или гомоморфизма между тем, что используется в качестве модели и тем, что с ее помощью моделируется.
Модель — опытный образец или информационно-знаковый аналог того или иного изучаемого объекта, выступающего в качестве оригинала. Некий объект (макет, структура, знаковая система и т. п.) может играть роль модели в том случае, если между ним и другим предметом, называемым оригиналом, существует отношение тождества в заданном интервале абстракции. В этом смысле модель есть изоморфный или гомоморфный образ исследуемого объекта (оригинала).
Мысленный эксперимент — совокупность мысленно осуществляемых познавательных операций над теоретическими конструкциями в условиях, аналогичных экспериментальным.
Наблюдение — получение фактуальной информации с использованием органов чувств человека в соответствии с поставленной познавательной задачей. Научное наблюдение отличается четко поставленной целью, систематичностью, использованием различного рода приборов и опреациональных средств. При этом решающая роль принадлежит применяемому методу наблюдения, обеспечивающему объективность и воспроизводимость результатов наблюдения, а также требуемую их точность и однозначность.
Научный закон — форма организации научного знания, состоящая в формулировке всеобщих утверждений о свойствах и отношениях исследуемой предметной области.
Глава 4. Развитие взучного знания
Логической формой научных законов является следующая: Vx(A(x) э В(х)), где V— квантор всеобщности («Все»), х —определенная переменная, областью значения которой является некоторый неопределенно-конечный или бесконечный класс, А, В — имена для обозначения некоторых свойств или отношений, з — знак импликации. В зависимости от типа значений класса переменной х (эмпирический класс или класс идеализированных объектов) различают эмпирические законы («Все тела при нагревании расширяются» и т. п.) и теоретические (F = m • а и т. п.). В зависимости от логического отношения классов А и В (полное вхождение элементов класса А в класс В или только частичное) различают динамические и статистические законы. Известно также различение научных законов по содержательному смыслу переменных А и В (физические, химические, биологические, социальные законы и т. п.). Адаптивно-биологический смысл введения категории «научный закон» в структуру научного знания состоит в возможности моделирования, «конденсации», «сжатия» множества (часто в принципе бесконечного) повторяющихся, сходных свойств и отношений в краткой логической форме.
Обобщение — метод приращения знания путем мысленного перехода от частного к общему, которому соответствует и переход на более высокую ступень абстракции. Обобщение — одно из важнейших средств научного познания, позволяющее извлекать общие принципы из хаоса затемняющих их явлений и в рамках того или иного понятия отождествлять множества различных вещей и явлений.
Прибор — познавательное средство, представляющее собой искусственное устройство или естественное материальное образование, которое человек в процессе познания приводит в специфическое взаимодействие с исследуемым объектом с целью получения о последнем полезной информации. По специфике получаемой информации приборы делятся на качественные и количественные, по своим функциональным характеристиками — на приборы-усилители, анализаторы, преобразователи и регистраторы.
Рефлексия — форма познавательной активности субъекта, связанная с обращением мышления на самое себя, на свои собственные основания и предпосылки с целью критического рассмотрения содержания, форм и средств познания, а также ментальных установок сознания.
Сравнение — эмпирическая процедура, устанавливающая тождество (сходство) или различие исследуехмых пар объектов, явлений и т. п. С принципиальной точки зрения (т. е. в общеметодологическом плане) сравнивать между собой можно любые мыслимые объекты, но при условии, что сравнение производится лишь по какому-либо точно выделенному в них признаку, свойству, отношению, т. е. в рамках заданного интервала абстракции.
Теоретическое знание — уровень научного знания между эмпирическим и метатеоретическим его уровнями. Качественно отличается по содержанию от эмпирического знания прежде всего своим предметом. В качестве (собственного) предмета теоретического знания выступает множество идеальных объектов, конструируемых мышлением как на основе эмпирических объектов с помощью идеализации (материальная точка, идеальный газ и т. п.), так и вводимых по определению (математические структуры). Особенностью теоретического знания является че-резвычайно высокая степень его логической организации, доказательности большинства утверждений, решаемая с помощью дедуктивно-аксиоматического метода.
Уровни научного знания — качественно различные по предмету, методам и функциям виды научного знания, объединенные в единую систему в рамках отдельной научной дисциплины. В любой развитой конкретно-научной дисциплине можно выделить 3 таких уровня: эмпирический, теоретический и метатеоретический. Их единство обеспечивает для любой научной дисциплины ее относительную самостоятельность, устойчивость » способность к развитию на своей собственной основе.
Факт — опытное звено, участвующее в построении эмпирического и теоретического знания, некая эмпирическая реальность, отображенная информационными средствами (текстами, формулами, фотографиями, видеопленками ит. п.). Факт имеет многомерную (в гносеологическом смысле) структуру. В этой структуре можно выделить четыре слоя: 1) объективную составляющую (реальные процессы, события, соотношения, свойства и т. п.; 2) информационную составляющую (информационные посредники, обеспечивающие передачу информации от источника к приемнику — средству фиксации фактов; 3) практическую детерминацию факта (обусловленность факта существующими в данную эпоху качественными и количественными возможностями наблюдения, измерения, эксперимента); 4) когнитивную детерминацию факта (зависимость способа фиксации и интерпретации фактов от системы исходных абстракций теории, теоретических схем, психологических и социокультурных установок и т. п.).
Формализация — совокупность познавательных операций, обеспечивающих отвлечение от значения понятий теории с целью исследования ее логического строения или для эффективного получения логически выводимых результатов. Формализация позволяет превратить содержательно построенную теорию (например, раздел механики) в систему материализованных объектов определенного рода (символов), а развертывание теории свести к манипулированию этими объектами в соответствии с некоторой совокупностью правил, принимающих во внимание только и исключительно вид и порядок символов, и тем самым абстрагироваться от того познавательного содержания, которое выражается научной теорией, подвергшейся формализации.
Эксперимент — метод эмпирического познания, посредством которого, воздействуя на предмет в специально подобранных условиях, исследователь целенаправленно актуализирует и фокусирует нужное ему состояние, а затем изучает его на качественном или количественном уровне. Если под классическим языком описания в физике условиться понимать язык, все термины которого поддаются однозначной интерпретации данными опыта, то эксперимент можно определить как воспроизводимую, управляемую и классически описываемую ситуацию, создаваемую с целью активного воздействия на ход изучаемого процесса и его исследования в «чистом виде». Понимание характера физического эксперимента как существенно классического по своей сути (на чем настаивал Н. Бор) позволяет уяснить все своеобразие связи чувственной и рациональной ступеней познания, которое находит свое выражение в принципе «классичности» новой физики: как бы далеко ни выходили явления за рамки классического физического объяснения, все опытные данные, на которых строится теория, должны описываться при помощи обычных «макроскопических» понятий. «Слово «эксперимент» относится к такой ситуации, когда мы можем сказать другим, что мы делали и что узнали» (Н. Бор).
Экстраполяция — экстенсивное приращение знания путем распространения следствий какого-либо тезиса или теории с одной сферы описываемых явлений на другие сферы (предметные области). Эмпирическое знание — низшая степень (уровень) рационального знания; совокупность высказываний об эмпирических (абстрактных) объектах, получаемая с помощью мыслительной отработки данных наблюдения и эксперимента и фиксируемая с помощью определенных языковых средств (единичные предложения наблюдения, общеэмпирические высказывания, графики, естественные классификации и др.). Необходимо отличать эмпирическое знание, с одной стороны, от чувственного знания, а с другой, от теоретического.
| Вопросы для обсуждения __________________
1. Основные уровни научного знания.
2. Сущность и структура эмпирического уровня знания.
3. Сущность и структура теоретического уровня знания.
4. Метатеоретический уровень научного знания и его структура.
5. Философские основания науки и их виды.
6. Методы эмпирического познания.
7. Методы теоретического познания.
8. Методы метатеоретического познания.
9. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней знания. Критика редукционистских концепций.
10. Интерналистская и экстерналистская модели развития научного знания. Их основания и возможности.
11. Проблема преемственности в развитии научных теорий. Кумулятивизм и парадигмализм.
12. Концепция несоизмеримости в развитии научного знания и ее критический анализ.
J3. Научное объяснение, его общая структура и виды.
14. Научные законы и их классификация.
15. Научная теория и ее структура.
16. Гипотеза как форма развития научного знания.
17. Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов.
18. Эксперимент, его виды и функции в научном познании.
19. Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность.
20. Дедукция как метод науки и ее функции.
21. Моделирование как метод научного познания. Метод математической гипотезы.
| Литература___________________________________
Баженов Л.Б. Строение и функции естественно-научной теории. М, 1978.
Идеалы и нормы научного исследования. Минск, 1981.
Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки. М., 1971,
Концепции современного естествознания / Под ред. С.А. Лебедева. М„ 2007.
Кун Т. Структура научных революций. М., 1985.
Лебедев СЛ. Индукция как метод научного познания. М.,
1980.
Лебедев С.А. Интерналистское и экстерналистское объяснение развития научного знания: возможности и границы// Вестник Московского ун-та, серия 7, «Философия». 1991, №3.
Лебедев С.А. Современная философия науки. М., 2007.
Манчур ЕЛ. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. М., 1987.
Меркулов И.П. Метод гипотез в истории научного познания. М., 1984.
Никитин Е.П. Открытие и обоснование. М., 1988.
Полани М. Личностное знание. М., 1985.
Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
Современная философия науки: Хрестоматия / Сост. А.А. Печенкин. М., 1991.
Степин B.C. Основания науки и их социокультурная размерность// Наукав культуре. М., 1998.
Степин B.C. Теоретическое знание. М., 2000.
Структура и развитие науки. М., 1978,
Тулмин Ст. Человеческое понимание. М., 1984,
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1990.
Философия естественных наук / Под ред. С.А. Лебедева. М.,2006.
Философия математики и технических наук / Под ред. С.А. Лебедева. М., 2006.
Философия социальных и гуманитарных наук. М., 2006. Философия и наука / Купцов В.И. и др. М., 1973. Холтон Дж. Тематический анализ науки. М., 1980. Ценностные аспекты развития науки. М., 1990.
РАЗДЕЛ III.
НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Глава 1
СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ЗНАНИЯ
Знание как своеобразный мир идеальных сущностей, позволяющий человеку ориентироваться в окружающей действительности, выявлять и фиксировать ее закономерности, было выделено из всей совокупности человеческого опыта еще в глубокой древности. По крайней мере, с того момента, когда человек научился фиксировать свой опыт в виде символических систем (пиктография, иероглифика, затем алфавитная письменность и цифровые системы), можно говорить о том, что знание начинает существовать как инструмент фиксации опыта и одновременно как объект системного исследования. При этом представления о природе знания менялись в истории постоянно и временами довольно радикально.
Оставим седую древность и золотые времена Античности. Уже в период существования развитых мировых религий природа знания, то есть ответ на вопрос, откуда берутся идеальные сущности в их системном представлении, мог быть только однозначным — человек познает мир через божественное откровение, иного пути найти не удавалось.
Попытка выйти за эти жесткие рамки в эпоху Возрождения также содержала аргументы в пределах религиозной системы. Ее адепты утверждали: если человек создан по образу и подобию божию, то он в состоянии познать мир, повторяя все действия, которые отец небесный совершил при его (мира) сотворении. Тем самым из познавательного процесса исключалась не его божественная природа, а откровение как 3D?
единственный и не поддающийся анализу ее источник, а в самом знании на первое место выходила его рациональность, объяснимость и т. п.
Однако, как только мы произносим слова «рациональное объяснение», немедленно выясняется, что тем самым мы берем на себя огромное число обязательств, которые далеко не просто выполнить. При этом рациональному объяснению меньше всего поддается вопрос о природе знания, то есть о природе идеального. Отказавшись от божественного откровения и заменив его некоторой совокупностью действий, философы не так уж далеко продвинулись в ответе на этот вопрос, поскольку сотворенный ими идеальный мир не слишком напоминал результат божественного провидения.
Особенность любого исследования состоит в том, что исследователи, постоянно стремясь в неизведанные дали, при встрече с неразрешимой в данный момент проблемой отнюдь не склонны тупо пытаться решить ее «в лоб» любой ценой. Наоборот, ученые постоянно ищуг возможности прогресса там, где этот прогресс возможен хотя бы в принципе, постоянно меняя направление главных усилий. Поэтому и в определении знания онтологические проблемы (вопрос о его источнике и природе) на долгое время отходят на второй план, уступая магистраль изучению рациональности, организационной гармонии знания. А здесь прогресс был очевиден. В изучении организации знания удалось объединить логические представления, разработанные античностью и отточенные веками схоластики, строгие математические методы и огромный эмпирический материал, собранный «натуральной историей», как тогда называлось будущее естествознание в противовес «натуральной философии» — системе рассуждений об общих законах природы.
Век Просвещения — это век восторженного преклонения перед стройностью рациональной картины природы, какой рисовала ее современникам наука. В этот век были открыты особенности научного знания, во многом определившие будущее развитие социологии знания и науки, хотя сами эти исследовательские области оформились лишь много десятилетий спустя.
Глава 1. Социология науки и знания
Мир идеальных сущностей, созданных и организованных, в науке был не только гармоничен и стройно логичен. Его новой и необычной чертой стала удивительная пластичность. Систему научного знания можно было «разобрать на кусочки» и расположить эти фрагменты в алфавитном порядке в энциклопедии или справочнике, спрессовать в учебных курсах, зашифровать в задачах и головоломках... Она от этого не теряла ни научности, ни строгости. В отличие от замкнутых эзотерических систем типа каббалы, доступных только узкому кругу посвященных, мир науки был создан людьми для людей, разных людей. Ученые бились в этом мире над сложнейшими проблемами, досужие обыватели удовлетворяли свое любопытство, школяры и студенты постигали азы премудрости. Знание стало неотъемлемым элементом социальной системы. Век Просвещения недаром получил свое название...
Еще одно качество научного знания было вписано в историю словами Фрэнсиса Бэкона: «Knowledge itself is power!» (В каноническом русском переводе опущен принципиально важный момент: «Знание само по себе— сила!). «Само по себе» это значит, что знание не только описывает (отражает) мир, но и дополняет его новой, доселе не существовавшей, энергетической компонентой, огромную, далеко не всегда созидательную, мощь которой еще предстояло оценить обществу в будущем.
В результате всех этих процессов произошел существенный сдвиг в понимании знания, в том его содержании, которое стало вкладываться в это понятие. Если спектр познавательных видов деятельности (наука, искусство, литература, прямой опыт и др.) остался по прежнему широк, то идеалом знания в философии и обыденной жизни стало научное знание, все остальные формы рассматриваются как нечто промежуточное, еще не достигшее научной стройности и строгости. Это представление укоренилось в социуме, как это происходит с любым устоявшимся в общественном сознании мифом. Именно содержание этого мифа прежде всего и являлось долгое время предметом социологии знания. Особое значение идеал науки как знания вообще приобрел в период формирования социологии как науки, когда она доказывала свое право на существование в качестве дисциплины, собственными методами изучающей собственные объекты.
К этому же периоду относится и формирование науки как светской свободной профессии, организованной по освоенному европейской городской традицией цеховому принципу. Именно особенностями профессиональной организации ученых мы в дальнейшем подробно займемся, обсуждая достижения и проблемы социологии науки.
Что ж, будем считать, что семантика главных терминов минимально прояснена и можно переходить к более подробному изложению основного материала.
И еще одно замечание. Само изложение материала в значительной части организовано по оси времени. Это связано, во-первых, с тем, что само развитие социологии знания и науки, их методологии и концептуального содержания было внутренне последовательно, а, кроме того, многие критические шаги в развитии социологии XX века были инициированы и обусловлены бурными событиями в развитии ее объекта — общества.
Классическая социология знания
Небывалые успехи науки и техники в конце XIX века, развитие научных исследований как самостоятельной и общепризнанной престижной формы деятельности, формирование научных дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов, появление социальных дисциплин, ориентированных на эмпирическое изучение общества (а не только на исследование описывающих его текстов, как это характерно для наук гуманитарных), наконец, появление прикладной науки — все это стало причиной истовой веры в научно-технический прогресс как «магистральный» путь к всеобщему светлому будущему.
Сам этот путь выглядел весьма различно, порой прямо противоположно — у Карла Маркса как революция и экспроприация экспроприаторов, у Огюста Кон-та как безусловная победа науки и рационализма над недостатками человеческой природы, однако, во всех случаях победу наряду с совершенствованием социальной жизни, в конечном счете, должно было обеспечить изобилие, достигнутое за счет науки и инициированного ею технического прогресса.
Соответственно, безграничными и непреложными выглядели притязания естественно-научного идеала науки, с характерными для него общими и всеохватывающими объяснительными моделями и теориями, на фоне которых жалкими и неубедительными выглядели аргументы гуманитариев, полагавших, что законным полем деятельности для «наук о духе» является поиск и идентификация исторически уникальных, то есть гуманитарных (духовных) проявлений.
Для Европы период приблизительно с 1870 г. до 1914 г. — время промышленного и экономического развития с огромными социальными и политическими преобразованиями, а также, по крайней мере, поначалу — время оптимизма в оценках этого развития. Присутствовал общий интерес к тому, как функционирует общество, и в не меньшей степени к тому, как ведет себя человек в новом обществе, и как идеи воздействуют на людей. Наряду с полной надежд верой в рационализм существовал также сильный страх перед проявлениями иррациональности. Примером может служить большой интерес многих ранних социологов к поведению так называемой массы (или черни), а также различные представления о лежащей на среднем классе ответственности за охрану, защиту и поддержание культурных ценностей.
Наука стала символом рациональности современного общества, происходило оправдание и усиление научного знания как авторитета в общественной жизни и компаса, указывающего, как всегда, единственно верный путь к дальнейшему прогрессу. Типический пример выражения такой символической ценности — это позитивизм Конта и его последователей.
В этих условиях попытки критического осмысления и общественных идеалов, и самого направления социального развития тоже могли быть услышаны, только если они были сформулированы в строгих терминах позитивной науки.
И первые такого рода попытки трезвого анализа в начале XX века были предприняты в колыбели рационализма, во Франции. Их автором был один из родоначальников современной социологии Эмиль Дюрк-гейм.
Книга Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни» (1912 г.) вроде бы не обсуждает идеал научного знания как таковой. Она направлена на анализ целого ряда положений, характеризующих массовое восприятие тех или иных систем знания и превращающих их в символ веры. Автор исходит из основных категорий мышления: пространство, время, количество и т. д. Он интересуется, главным образом, коллективным сознанием («мнением»), имеющемся в каждом обществе, а эти основные категории — «солидная рама, облекающая любое мышление». Они — продукт социальной жизни и коллективного сознания. Деление времени на месяцы и годы соответствует, например, возобновляющейся социальной активности (выражаемой, в частности, в ритуалах и празднествах), и уже через нее регулирует коллективную жизнь. Также социально фиксировано и пространство. В качестве примера Дюркгейм упоминает представление, бытующее в некоторых индейских обществах, что пространство — это гигантская окружность. Это выражается и в том, что форму окружности имеет стоянка. В теории Дюркгейма речь идет о том, как индивид усваивает социальную систему представлений и классификаций, предписывающую, что правильно, а что — нет, что истинно — и что неверно и т. д. Такая система представлений не только составляет когнитивный фундамент, но, с точки зрения Э. Дюркгейма, обладает также моральным и символическим значением.
Символическое представление общества о самом себе выражает потребности человека. Для Дюркгейма солидарность была ядром социальной жизни, поэтому и проявления морального и социального авторитета имеют центральное значение в его теории. Когда процесс усвоения завершен, эта система принимает внешний, объективный характер для индивида и становится авторитетом, символизирующим «святое» в обществе в отличие от мирского. Исходная точка здесь та, что и индивид, и социальная действительность создаются этой системой классификации. Индивид, так сказать, с рождения вынужден усваивать общественное познание, чтобы вообще можно было сказать, что он существует в обществе как человек, и чтобы осознать это свое социальное окружение. Можно сказать, что не мы самостоятельно думаем об обществе и его социальной жизни, но оно выражает себя посредством нас.
Социологическая теория знания у Э. Дюркгейма развивалась параллельно с общей проблемой, занимавшей его и других социологов в этот период — проблемой социального порядка. Она не примыкала сколько-нибудь откровенно к политическим реальностям в определенной мере потому, что Дюркгейм предпочел развивать свои мысли на примерах так называемых примитивных обществ. Причиной его интереса к системам классификации примитивных обществ было то, что они, по его мнению, менее сложны, и потому легче идентифицировать связи, интересовавшие его.
Согласно Дюркгейму, существует преемственность между первыми религиозными формулировками абстрактного мышления и тем очень сложным абстрактным мышлением, которое представляют знания более позднего времени в форме различных классификационных систем, мыслительных структур, метафорических размышлений и даже науки.
Споры о том, в какой мере Э. Дюркгейм распространял свои классификационные положения на представления о научных классификациях, идут до сих пор. Сам же он изложил свои выводы следующим образом.
Религия занимается переводом идеальных сущностей (идей человека, природы и общества) на понятный язык, который по своей природе не отличается от того, который принят в науке. Оба пытаются связать вещи друг с другом, классифицировать и систематизировать их. Мы видели даже, что фундаментальные идеи, научная логика — религиозного происхождения. Правда, наука развивает их, чтобы самой ими пользоваться. Она очищает их от случайных элементов и в общем во всей своей деятельности сохраняет критический дух, чего не делает религия. Наука окружает себя мерами предосторожности, чтобы «избежать поспешных выводов и предубеждений» и отмести в сторону страсти, предрассудки и все субъективные влияния. Но этих методологических улучшений недостаточно, чтобы отделить ее от религии. С этой точки зрения обе добиваются одной цели; научное мышление — всего лишь более совершенная форма религиозного мышления. Поэтому вполне естественно, что второе постепенно отступает, по мере того как первое все лучше подходит для этого занятия.
Провидческий характер книги Э. Дюркгейма был признан, как это часто бывает, несколькими годами позже, когда вера во всепобеждающий социальный прогресс, обеспечиваемый наукой и техникой, рухнула, столкнувшись во время первой мировой войны с другими, не менее впечатляющими, но уже трагическими плодами научно-технического прогресса, унесшими жизни десятков миллионов людей.
И следующий шаг в развитии социологии знания отнюдь не случайно был сделан в одной из стран, больше всего пострадавших от последствий войны как в материальном, так и в морально-психологическом отношении, что для массового сознания, может быть, еще более важно. Этой страной была побежденная Германия.
Немецкая социология знания
| 1 Наоборот, как это мы знаем сегодня, она послужила отправной точкой нового, еще более масштабною мирового кровопролития, завершившегося демонстрацией небывалого достижения науки и техники, ядерными грибами, взметнувшимися над Хиросимой и Нагасаки. |
Одной из проблем, которые встали перед социологами в Германии двадцатых годов, стало само многообразие теорий и идей, претендовавших на объяснение национальной трагедии, которая отнюдь не закончилась вместе с последними залпами первой мировой войны"1.
Глава 1. Социология пауки и знания
Не менее трудной проблемой явилась все большая раздробленность политической идеологии и раскол вследствие этого многих политических направлений. Конечно, признание исторической относительности мышления сделало более легкими для понимания множество взаимоисключающих идеологий, но оно не решало проблемы того, как следует оценивать их относительно друг друга, и как выделить истинные.
Развитие немецкой социологии знания этого периода или, как ее часто называют, классической немецкой социологии знания, связано прежде всего с именами двух мыслителей: философа Макса Шелера и социолога Карла Маннгейма. Обоих принято считать представителями историцизма, а К. Маннгейм, кроме того, претендовал на авторство самостоятельной ветви социологии, исторической социологии.
Философ М. Шелер видел в социологии знания инструмент, который нужно применить, чтобы разрешить в немецкой Веймарской республике идеологические конфликты посредством объяснения политикам ограниченности различных идеологий. В своей основе эта вполне утопическая идея М. Шелера коренится в философской перспективе, в поиске вечного и истинного знания.
Сам релятивизм социологии знания М.' Шелер рассматривает как средство, как некий первичный материал. При своем исходном несовершенстве этот материал дает возможность аналитику сохранить контакт с эмпирическим миром разобщенных идеологий и борющихся политиков. Проявления этого несовершенного мира и следует подвергнуть критическому анализу с целью добраться до вечного, абсолютного и неподвластного социальным факторам: до мира истины, лежащего вне радиуса действия эмпирических исследований.
Соответственно, аргументация М. Шелера строилась на различении, с одной стороны, «реального фактора», и с другой стороны— «идеального фактора». При этом «реальный фактор» определяет те жизненные обстоятельства, при которых позднее выступает «идеальный фактор», не влияя на содержание мышления и знаний. Таким образом, к формам знания относятся исторические и социальные условия, при которых развивается мышление. В то же время содержание знания как вместилище нравственных и духовных идеалов, как «идеальный фактор», исключается из социологического анализа. Оно присутствует в лучшем случае в виде наугольника и мерила, с которым сравниваются искаженные конкретными обстоятельствами идеи и политические программы.
Второй центр тяжести Макс Шелер располагает в определении того, что он называет «относительно естественной картиной мира», которая является способом, каким индивид воспринимает мир вокруг себя. Хотя для отдельного человека этот способ кажется совершенно естественным и должным, на самом деле знания, необходимые человеку для осмысленного восприятия окружающего его мира, соотносятся с тем положением, которое человек занимает в обществе. Таким образом, имеются разнообразные картины мира, например, философская, культурная и юридическая. Ход мысли М. Шелера таков: правящая элита должна суметь выработать перспективу, интегрирующую эти разные картины мира, и тем самым достичь истины. Тогда можно будет заново возвести стабильное и хорошо интегрированное общество и устранить социальное беспокойство послевоенного общества. Та элита, которую имел в виду М. Шелер, состояла из старой аристократии. Таким образом, при всей критической заостренности концепция М. Шелера была глубоко консервативна. Его идеалы дышали ностальгией по временам благополучного капитализма и классической немецкой философии первой половины XIX века.
Сейчас М. Шелера в основном вспоминают как крестного отца социологии знания, поскольку его идеи с социологической точки зрения представляли собой своего рода поворотный пункт, зону перехода от социальной философии к собственно социологическому исследованию знания.
Основной же фигурой в немецкой социологии знания по праву признан Карл Маннгейм, труды которого по социологии знания собраны прежде всего в книге «Идеология и утопия», вышедшей в 1929 г. на немецком языке и в 1936 г. — на английском (в конце жизни К. Маннгейм жил в изгнании). В отличие от М. Шелера, Маннгейм в значительной мере принимал идеологическую доктрину марксизма («Бытие определяет сознание») в качестве отправной точки развития социологии знания. При этом К. Маннгейм одним из первых выявил и сформулировал классическую дихотомию, которая будет сопровождать социологию знания на всем периоде ее развития.
Если получаемое наукой знание объективно и истинно, то каким образом можно говорить о его социальной обусловленности, а соответственно, в чем предмет социологии знания.
Если же, с другой стороны, любое знание, как это утверждается в марксистской доктрине, относительно и подвержено влиянию социального бытия субъекта, то чего тогда стоит декларируемая объективность самой социологии знания?
Отсюда вытекал целый ряд специальных проблем. Как следует обойтись с выдвинутым марксизмом понятием идеологии и представлением об искаженном сознании? Как в действительности отражаются социальные интересы различных классов в знании и мышлении?
Даже если понимать убеждения различных групп как продукт различных социальных и исторических обстоятельств, это мало помогало — не было никакой шкалы для их оценки. Социолог Карл Маннгейм четко сформулировал взаимосвязь этих конкретных проблем следующим образом: «Как можно человеку продолжать жить и мыслить во время, когда поднимаются и должны быть радикально обдуманы проблемы идеологии и утопии со всеми их сложностями?»
Таким образом, К. Маннгейм делает решительный выбор в пользу социологии, фактически оставляя за пределами анализа всю проблематику, связанную с объективностью научного знания, идеалом истинности и т. п. Соответственно и объектом социологии знания у К. Маннгейма, идеалом организации любого знания уже выступает не научное знание, а некоторая более сильная абстракция. Отражением мира идеальных сущностей становится понятие идеологии, гораздо более широкая и менее структурированная совокупность верований, идеалов, религиозных и культурных знаний.
В своем анализе понятия идеологии К. Маннгейм вводит основополагающее структурное различение социологического типа. Он разделяет частную (частичную) и тотальную идеологию. Частичная идеология соотносится с индивидом или группой (политической партией, к примеру) и оперирует на психологическом уровне. Таким типом идеологии пользуется человек в случаях, когда, например, ставятся под вопрос аргументы социальной группы, расходящейся во мнении с другими. Частичная — это более или менее сознательное извращение человеком или социальной группой каких-либо представлений с целью соблюсти собственные интересы. К. Маннгейм полагает, что такие извращения могут растянуться по всей длине шкалы — от лжи и недосмотра до подстановки, от намеренных попыток введения в заблуждение до самообмана.
Тотальная же идеология, напротив, всегда надындивидуальна, соотносима с идеологией исторической эпохи или мыслительной структурой крупной социальной общности (народа) в определенный период, то есть она покоится на культурной и исторической базе и должна анализироваться в связи с представлениями, выражаемыми на этом уровне. Тотальная идеология — это картина мира, связанная специфическим историческим и социальным контекстом.
Вместо того чтобы отвлекаться на мотивы и интересы отдельных лиц, особое внимание здесь уделяется согласованию между формами знания и той ситуацией, в которой возникают эти формы. Интерес для социологии знания представляет целостная идеология. К. Маннгейм подчеркивает, что эта целостность не является суммой отдельных, фрагментарных переживаний ее, и индивид тоже не может охватить все элементы целостности. Представления как индивида, так и группы находятся под влиянием общих социоисто-рических условий, но в понятиях частичной/тотальной идеологии — разная степень смысловой наполненности.
Теперь, полагает К. Маннгейм, преодолев ограниченность марксистской постановки проблемы, можно сделать следующий шаг — перейти от теории идеологии к социологии знания. Это происходит, согласно К. Маннгейму, «посредством появления общей формулировки понятия целостной идеологии, благодаря чему отдельные теории идеологии развиваются в социологию знания».
Здесь перед социологией знания К. Маннгейма встала вышеуказанная теоретическая проблема знания, а именно: как поступить с проблемой релятивизма? Если знание относительно и зависит от положения, какое социальная группа занимает в обществе, и от исторической и социальной среды, то что же тогда подсказывает, что и сам познавательно-социологический анализ не является проявлением определенной идеологии, поскольку и он относителен в историческом и социальном отношении? Может быть, социология знания выражает собой лишь взгляд на мир группы интеллектуалов, или же такой взгляд на связь социальных форм и знаний актуален для всех групп, независимо от времени, места и социального положения? В последнем случае саму социологию знания невозможно анализировать с точки зрения социологии знания. Как же решить этот «познавательно-социологический парадокс», то есть как, будучи социологом знания, обосновать собственные претензии на знания и заниматься социологией знания, не перепиливая сук, на котором сидишь, вышеуказанным образом?
Этот парадокс К. Маннгейм пытается разрешить двояко. Во-первых, он указывает на интеллектуалов (а тем самым и на самих исследователей) как на социальную группу, которая отличается от остальных, занимая особое положение в истории и имея к ней особое отношение. Разошедшиеся интересы различных социальных групп (что обусловлено их различным положением в историческом и социальном контексте) определяют их отношение к формализованному знанию и его содержанию.
К. Маннгейм полагает, что истинно интегрирующую перспективу можно выработать только основываясь частью на понимании и сохранении культурного мира прошлой истории, частью на таком положении в современном обществе, которое позволяет глубоко осознать его динамику, базируясь на «относительно бесклассовом» и не слишком фиксированном социальном существовании. Те, кто занимают такое положение — это «свободно парящие интеллектуалы», как выражается К. Маннгейм.
Интеллектуалы — это неоднородная комплексная группа, которая благодаря полученному образованию приобретает способность синтезировать и критиковать все другие классовые интересы. Поэтому позиция интеллектуалов оказывается выше прочих точек зрения, они могут сравнивать их одну с другой и отделять все ценное в каждой из них, при этом им не приходится вырабатывать отношение к формализованным знаниям, а тем более, к связанным специфическим классовым интересам других: «(слой интеллектуалов) соединяет в самом себе все интересы, которые пронизывают социальную жизнь».
Это в той же мере касалось и другого тезиса — содержание естественно-научного и математического/ логического знания исключается из познавательно-социологического анализа, поскольку оно неподвластно социальным интересам. Этот тезис К. Маннгейм отстаивал, противопоставляя полному релятивизму.
С не менее существенными теоретическими и методологическими трудностями было связано выделение К. Маннгеймом интеллектуалов как особой социальной группы. Дело в том, что эту группу оказалось крайне трудно, в большинстве случаев просто невозможно эмпирически ограничить и выделить. В нее в разных условиях попадали ученые и политики, школьные учителя и военная элита, партийные идеологи и люди искусства, словом, представители практически всех общественных слоев.
Поиски объекта социологии знания, относительно которого было возможно одновременно и теоретическое, и эмпирическое исследование с минимально стро-
Глава 1, Социология науки и знания
гим анализом результатов, привели к тому, что сама социология знания на многие десятилетия выпала из сферы интересов социологов, уступив место зародившейся в первой половине XX века социологии науки, на этот раз уже науки как социального института, сферы профессиональной деятельности вполне определенной социальной группы.
Из пути к социологии науки
Ни на рубеже XIX — XX веков, ни в первых десятилетиях двадцатого века наука еще не стала социальной проблемой и потому не превратилась в устойчивый предмет изучения. До первой мировой войны наука выступала как сокровищница знаний для технического прогресса, а социология знания этого периода занималась, прежде всего, ролью и характером непосредственного воздействия научного знания на духовную сферу деятельности общества (идеологию, политику и т. п.).
Наука превращается в один из важнейших институтов современного общества, а ее социально-экономические характеристики, место среди других социальных институтов и формы связи с ними настоятельно требуют изучения и определения.
Потребность в комплексном изучении науки, особенно ощущаемая в периоды пересмотра социальной роли и организационной перестройки науки, впервые выразилась в стремлении ее комплексного исследования. Первые попытки сформулировать предмет и теоретические основы такого исследования появляются в 20-х годах в Польше и СССР.
Небывалые по своему радикализму и энергии меры, которые руководство молодой Республики Советов предприняло по отношению к своему научному потенциалу, в страшных снах не снились европейским специалистам по социологии знания, хотя в некотором смысле базировались на тех же идеях. Ученые были разделены на две группы. Первую составила гуманитарная интеллигенция с характерным для нее критическим отношением к любой власти, а тем более к диктатуре. От этой
группы, в первую очередь от ее элиты, власть решила просто избавиться, отправив тех, кто пережил революцию, частично в эмиграцию (знаменитый «философский пароход»), а большинство — на перевоспитание в специально созданные концентрационные лагеря (наиболее известный из них — Соловецкий лагерь особого назначения СЛОН). На их месте должна была вырасти новая, пролетарская, интеллигенция, не зараженная духом критиканства, лояльная к власти и ее великим начинаниям. Главной задачей общественных наук стало «научное обоснование» эпохальных решений, принятых партийной бюрократией, их пропаганда и оформление в марксистских терминах.
Вторую группу составляли специалисты в области математики, естественных и технических наук, которым было доверено научное обеспечение быстрого социально-экономического развития СССР. Стратегическое определение основных ориентиров этого развития, само по себе явление небывалое в истории, получило название «научная политика», которое используется во всем мире до сих пор.
Первыми масштабными примерами «научной политики» и ее реализации был план ГОЭЛРО и разработка первого пятилетнего плана развития страны. К этому периоду относятся и попытки осмысления новой роли науки, того экономического обеспечения и той организации, которые требуются науке для выполнения подобного рода задач. В этот «романтический» период развития советской науки и появляются работы исследователей, пытающихся осмыслить новую роль науки в обществе. Глубоко анализируются исторические корни социального функционирования науки (Б. Гессен), модели и методы, которые можно применять для ее изучения (М. Грузинцев), перспективы комплексного исследования социальных процессов в науке (И. Боричевский), работа над созданием «всеобщей организационной науки» (А. Богданов), попытки определить экономическую эффективность труда ученых (С. Струмилин) и др.
Довольно быстро выяснилось, однако, что точное знание естественных и технических наук абсолютно не приспособлено для маскировки политических провалов и волюнтаристских решений нового руководства страны. Выводы последовали незамедлительно. Научная основа первого пятилетнего плана (модели межотраслевого баланса и т. п.), были объявлены «буржуазной цифирью», начался интенсивный и небезуспешный поиск «вредителей» среди ученых в среде научно-технической интеллигенции. Соответственно, были разгромлены все общественные профессиональные организации научного сообщества СССР. Их заменили общественно-государственные суррогаты типа государственных академий наук и т. п., находящиеся под полным партийно-государственным контролем. Наконец, были закрыты практически все данные о состоянии и структуре научного потенциала страны. На долгие десятилетия социологическое исследование науки было приостановлено.
Между тем интерес к этой тематике в мире продолжал расти, причем существенную роль играли близкие к марксизму исследователи левого толка, среди которых следует выделить такую крупную фигуру как Джон Десмонд Бернал. Фундаментальный труд Дж. Д. Бернала «Социальная функция науки» (J.D.Bemal, The Social Function of Science, London, 1939.) был опубликован в январе 1939 года. Тема книги кратко представлена в подзаголовке «Что такое наука, и на что она способна». Идеи книги о науке для всех, о службе науки обществу, о плановом начале в науке, о важности приложений науки для изменения судьбы человека — все эти идеи стали предметом критики. Они проходили во время второй мировой войны инкубационный период. А с ее окончанием эти идеи стали частью всеобщей уверенности, что отныне все должно идти по-новому.
Ученых категорически не устраивало, что среди главных персонажей кровавого военного театра рядом с именами доблестных генералов (Г. Жукова, Д. Эйзенхауэра, Ш. де Голля и др.) появлялись имена не менее доблестных коллег по научному цеху (Н. Винера, В. фон Брауна, С. Королева, Р. Оппенгеймера, И. Курчатова...).
Дело, однако, не ограничивалось чисто моральными проблемами. Гораздо более существенным оказалось то, что науку после окончания войны оказалось не так просто «демобилизовать». Экстенсивный характер развития науки в военные годы, когда от создания новых эффективных систем вооружения зависело само существование страны, требовал подключения все новых ресурсов; любые жертвы оправдывались необходимостью достижения главной цели («Все для победы!»).
В первые послевоенные годы сложилась и даже находила теоретическое обоснование идеология «большой» науки, организованной по иерархическому принципу, принятому в крупных отраслях производства. Отрезвление наступило довольно быстро. Путь развития «большой» науки оказался тупиковым, прежде всего экономически.
Если целью государственной политики является не успех в решении какой-либо одной очень узкой проблемы любой ценой (к примеру, победы в войне), а прогресс в некоей широкой области (экономическое развитие и процветание государства), то концентрацию усилий на неком узком направлении и принесение в жертву всех остальных было трудно оправдать и объяснить населению демократической страны1. Альтернативой был переход на интенсивный путь развития науки, поиск ее внутренних ресурсов (организационных, информационных и др.), которые в «большой» науке выпадали из поля зрения.
| 1 Правомерность жертв ради «светлого будущего» могла обсуждаться только в тоталитарных странах. Результаты известны. |
Естественно, что этот поиск можно было поручить и доверить только самим ученым. И в 50-е годы в США и других странах развертывается огромная программа исследования социологических, психологических, экономических, организационных и иных особенностей развития науки как социального института. В этой программе исследований нарождающаяся социология науки заняла достойное место.
Социология науки
Формирование социологии науки как самостоятельной области знания, обладающей всеми присущими такой области атрибутами, совершенно справедливо связывается с творчеством одного из крупнейших социологов XX века Роберта Кинга Мертона.
Р. Мертон, ученик, соратник, а затем и один из наиболее серьезных оппонентов основоположников американской социологии Питирима Сорокина и Тол-кота Парсонса. Его обращение к социологии науки было связано с критическим анализом существующих концепций социологии знания, признанием ее принципиальной неспособности существенно продвинуться в изучении науки и научного знания. Такое продвижение требовало существенного изменения объекта исследования и четкой характеристики исследовательского поля. Опыт работ в этой области, начиная с 30-х годов (книга «Наука, технология и общество в Англии XVII в.», ряд статей по спорам о приоритете в истории науки, попытка описать нормы поведения ученых в статье 1942 года и т. п.), позволил Р. Мертону сформулировать общие требования к той специальной области социологии, созданием которой он намеревался заняться.
1. Социология науки, являясь ветвью социологии, должна вносить свой вклад в развитие социологического знания в целом.
2. Социология науки, если она претендует на статус самостоятельной научной области, должна иметь свой предмет, специальную понятийную базу и свои методы исследования.
3. Социология науки, если она претендует на универсальность своих понятий и методов, должна допускать исследование с их помощью своих собственных представлений и инструментов.
Четкая и амбициозная формулировка характеристик новой сферы социологического исследования, однако, не предполагала отказа от тех теоретических наработок и интуитивных представлений, которыми была так богата история изучения науки и общественного обсуждения связанных с нею проблем. Наоборот, Р. Мертон, прекрасно знакомый с историей науки, стремился определить свое отношение к ее важнейшим проблемам, не уклоняясь от их обсуждения, но в необходимых случаях давая их интерпретацию в терминах новой социологической дисциплины.
Р. Мертона принято считать основоположником «институциональной» социологии науки, так как наука для него исключительно социальный институт. Алю-бой социальный институт с точки зрения структурно-функционального анализа — это прежде всего специфическая система отношений, ценностей и норм поведения. Для утверждения специфики социологии науки крайне важно было показать типологические отличия этого института в современной социальной системе.
Этому требованию, по мнению Р. Мертона, вполне удовлетворяет внутренний тип институциональной организации науки — «сообщество» — выделяющий институт науки из государственной бюрократии. Важнейшими организационными характеристиками социальной системы типа «сообщества» (community, Gemeinschaft) является опора на представление об общности цели, устойчивые традиции, авторитет и самоорганизацию, в то время как в ее арсенале отсутствуют характерные для систем типа «общество» (society, Gesellschaft) механизмы власти, прямого принуждения и фиксированного членства1.
Нужно было, однако, показать, каким образом научное сообщество может гарантировать целостность науки как сферы деятельности и ее эффективное функционирование, несмотря на то, что ученые рассредоточены в пространстве и работают в различном общественном, культурном и организационном окружении.
' Этот выбор вполне соответствовал духу времени — именно в послевоенные голы в американском обществе резко возрастает интерес к роли институтов гражданского общества и их сосуществованию с государственной бюрократией, а также процессу формирования ученых в американских университетах, где выпускник аспирантуры, одновременно с ученой степенью получал десятилетний опыт жизни в условиях реального самоуправления и навыки корпоративного поведения.
Концептуальный каркас мертоновской социологии науки включал следующие конструктивные агрегаты. Целостность сообщества должна была задаваться общей целью и интенсивной деятельностью каждого участника по ее достижению, Соответственно, система поощрений должна была быть прописана понятно и прозрачно. Поскольку деятельность реализуется в конкурентной среде, нормы и правила, гарантирующие честную конкуренцию, должны быть простыми и понятными всем участникам. Острота конкуренции должна специально стимулироваться с тем, чтобы интенсивность деятельности была максимальной. Система должна быть очень устойчивой, чтобы деятельность участников не подвергалась существенным искажениям под влиянием местных условий (культурных традиций и законов страны проживания; конкретных организационных форм на месте работы участников; идеологических и политических различий). Наконец, концепция должна была быть рациональной, прозрачной и компактной, с тем чтобы обеспечить ее успешное развертывание в материале, по возможности исключая многозначность интерпретаций.
Такая концептуальная схема поначалу существовала только в интуиции автора (сейчас мы реконструируем ее post factum), тем большее восхищение вызывает ее последовательная реализация самим Р. Мерто-ном и его последователями.
Цель науки, с точки зрения социолога, Р. Мертон формулирует максимально определенно в традициях британской эмпирической философии: «Постоянный рост массива удостоверенного научного знания». В этой формулировке он оставляет за скобками все вопросы истинности, объективности научного знания, то есть все философские проблемы и сюжеты. «Удостоверенное», то есть признанное в этом качестве научным сообществом на сегодняшний день. Если завтра в связи с прогрессом науки представления о научном знании изменятся, для его «удостоверения» и оценки сообщество будет использовать другие критерии и оценки. Эти изменения, как и юридические законы, имеют обратную силу только в пользу «подсудимого». Никто не будет судить его за ошибки, которые он сделал вместе с сообществом. Однако если в его ранней работе обнаружится вовремя не оцененная идея или данные, его приоритет будет обеспечен.
В соответствии с таким пониманием общей цели сообщества интерпретируется и представление об индивидуальном вкладе (вкладах) каждого участника. Признанием вознаграждается не просто квант нового знания (идея, теория, гипотеза, наблюдение или формула), но прежде всего вклад в общее дело, что помогает всему сообществу продвинуться к общей цели. В этой связи новое знание получает статус вклада (а автор — приоритет) только после того, как его автор доведет свой результат до всех участников по стандартным для сообщества информационным каналам. В условиях острой конкуренции, когда над одной проблемой во всем мире работают иногда сотни исследователей, такое понимание вклада — единственный способ хотя бы несколько смягчить остроту борьбы за приоритет и придать ей цивилизованные формы. В основе идеи вклада лежит представление о «решенной проблеме», принципиальная инновация, укоренившаяся в европейском естествознании со времен британской эмпирической школы. Результат, удостоверенный редколлегией и опубликованный в дисциплинарном журнале, признается событием, «закрывающим» исследуемую проблему на данный момент. Этот результат входит в дисциплинарное знание. Его можно обсуждать и опровергать, но им нельзя пренебрегать — это свидетельство некомпетентности. Таким образом, вкладом в дисциплинарное знание (основным мерилом заслуг ученого перед сообществом) является либо перевод в разряд решенных какой-либо новой проблемы, либо опровержение или корректировка решения проблемы, которая уже была известна.
Пожалуй, наибольшую, местами до сих пор не прекратившуюся дискуссию, вызвали сформулированные Р. Мертон ом императивы научного этоса^, обеспечивающие нормативную составляющую научного сообщества.
' Термин «этос» означает набор правил и норм, действующих в определенной среде аналогично нравственным, но не являющихся таковыми по существу (отсутствуют нравственные максимы и, соответственно, такие регулятивы, как идеал, совесть и т. п. рефлексивные атрибуты — основа любой этической системы).
Глава 1. Социология науки и звания
Императивы — это своего рода минимальные нормы, гарантирующие честную конкуренцию в науке, основу профессионального поведения. Попытки многих социологов обнаружить и зафиксировать эти императивы эмпирически не привели, да и не могли привести к успеху. Эти императивы теоретически выведены Р. Мертоном, реконструированы на базе его наблюдений за поведением членов научного сообщества, как и большинство норм — на базе исследования различных форм отклоняющегося поведения. (Никто ведь не пытается эмпирически зафиксировать следы или действие категорического императива И. Канта). Императивы — это нормы, регулирующие поведение ученого. Это отношение к его поведению и результатам работы, которое он должен {долженствование — смысл любого императива) ожидать со стороны сообщества, реакция, на которую он должен рассчитывать, добиваясь научного признания. Само же признание не является результатом соблюдения каких бы то ни было норм — в науке оцениваются только отличные успехи, о примерном поведении и прилежании вспоминают лишь в случае их отсутствия.
Р. Мертон формулирует 4 императива: универсализм, коллективизм, организованный скептицизм и бескорыстие.
Универсализм подчеркивает внеличностный характер научного знания. Научные высказывания относятся к объективно существующим явлениям и взаимосвязям, и они должны быть универсальны, то есть справедливы везде, где имеются аналогичные условия, а истинность утверждений не зависит от того, кем они высказаны.
Универсализм проявляет себя в провозглашении равных прав на занятия наукой и на научную карьеру для людей любой национальности и любого общественного положения. Он обусловливает интернациональный и демократический характер науки.
Коллективизм предписывает ученому незамедлительно передавать результаты своих исследований в пользование сообществу. Научные открытия являются продуктом сотрудничества, образуют общее достояние, в котором доля индивидуального «производителя» весьма ограничена, и ему следует сообщать свои открытия другим ученым тотчас после проверки свободно и без предпочтений. «Право собственности» в науке (речь идет о фундаментальной науке) фактически существует лишь в виде признания приоритета автора.
Бескорыстие предписывает ученому строить свою деятельность так, как будто кроме постижения истины у него нет никаких других интересов. По сути дела этот императив является максимальным выражением «академической свободы», на которую обречен настоящий ученый. Р. Мертон излагает требование бескорыстности как предостережение отпоступ: ков, совершаемых ради достижения более быстрого или более широкого профессионального признания внутри науки.
Организованный скептицизм Р. Мертон рассматривает как особенность метода естественных наук, требующего по отношению к любому предмету детального объективного анализа и исключающего возможность некритического приятия. В науке не действует аналог презумпции невиновности. Автор вклада должен доказывать критикам ценность и перспективность своего результата. Они же не только вправе, но и обязаны сомневаться, ограждая существующий корпус знания от недостаточно обоснованных претензий. Императив организованного скептицизма создает атмосферу ответственности, институционально подкрепляет профессиональную честность ученых, предписываемую им нормой бескорыстия. Ученый должен быть готов к критическому восприятию своего результата.
Функциональный смысл императивов научного этоса, их ориентирующая роль в поведении ученого обусловлены тем, что сама система распределения признаний и, соответственно, мотивация исследователя постоянно ставят его в ситуацию жесткого выбора одной из альтернатив.
Этот набор альтернатив Р. Мертон формулирует в виде списка, каждая позиция которого предполагает выбор между равно обоснованными стратегиями поведения — «амбивалентности». В списке девять позиций.
Так, ученый должен:
■ как можно быстрее передавать свои научные результаты коллегам, но он не должен торопиться с публикациями;
■ быть восприимчивым к новым идеям, но не поддаваться интеллектуальной «моде»;
■ стремиться добывать такое знание, которое получит высокую оценку коллег, но при этом работать, не обращая внимания на оценки других;
■ защищать новые идеи, но не поддерживать опрометчивые заключения;
■ прилагать максимальные усилия, чтобы знать относящиеся к его области работы, но при этом помнить, что эрудиция иногда тормозит творчество;
а быть крайне тщательным в формулировках и деталях, но не быть педантом, ибо это идет в ущерб содержанию;
■ всегда помнить, что знание универсально, но не забывать, что всякое научное открытие делает честь нации, представителем которой оно совершено;
■ воспитывать новое поколение ученых, но не отдавать преподаванию слишком много внимания и времени; учиться у крупного мастера и подражать ему, но не походить на него.
Выстроенный Р. Мертоном концептуальный каркас социологии науки выдержал испытание временем и стал основой дальнейших исследований, значительная часть которых проходила уже на материале социальной системы науки как профессии.

Глава 2
СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНОЙ ПРОФЕССИИ
собных самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность перед цеховым сообществом1.
В описании современной свободной профессии как организационной оппозиции бюрократии должны были быть найдены и описаны некие фундаментальные детерминанты профессионального поведения, которые можно было бы сопоставить или противопоставить детерминантам поведения, свойственным бюрократической организации.
При этом обнаружилось и существенное отличие современных профессий. Этим отличием была ключевая роль культуры как конституирующего элемента профессиональной традиции. Поэтому объектами социологии профессий во все большей степени становились те из них, которые развивались на базе непрерывно накапливающегося знания. Не случайно в качестве образцового стандартного объекта социологии профессий в течение многих десятилетий выступала медицина, в которой именно развитая интеллектуальная составляющая определяет кодифицированные нормы поведения, а также связи с различными социальными группами и институтами.
| ■ Ванька Жуков, поступавший в учение к мастеру, на первых порах такой свободой не располагал — ответственность за его поведение лежала только на мастере, который наряду с профессиональными умениями должен был передать ему и правила профессионального поведения. Успешное учение заканчивалось экзаменом на звание подмастерья. В этом звании ремесленник мог оставаться всю свою жизнь, работая на разных мастеров. Возможность профессионального роста, допуск к экзамену на звание мастера предполагал трех-четырехлетнее странствие по разным городам и странам с продолжением обучения в процессе работы у известных европейских мастеров, каждый из которых давал отзыв о мастерстве подмастерья. Только получив такой опыт, подмастерье мог претендовать на сдачу экзамена— создание шедевра (изделия, отвечающего всем канонам профессии, и в то же время уникального в своей новизне). В случае успешной сдачи экзамена он получал звание мастера цеха — право иметь собственную мастерскую и учить молодежь. |
Таким образом, проблема теоретического контекста социологии науки получила убедительное обоснование в виде специальной области социологии профессий. Соответственно, социологическое исследование науки предполагало исследование специфического для науки проявления характеристик, признанных в качестве главных признаков любой свободной профессии.
Список этих характеристик выглядит следующим образом.
1. Обладание некоторой совокупностью специальных знаний, за хранение, передачу и расширение которых ответственны институты профессий. Именно обладание такими знаниями отличает про- , фессионалов от «непосвященных», и это обладание, будучи продемонстрировано, получает название «экспертизы».
2. Автономность профессии в привлечении новых членов, их подготовке и контроле их профессионального поведения. О профессионалах судят не по таким вещам, как манеры, место рождения или политические убеждения, а по их владению соответствующими знаниями и степени участия в их умножении. Поскольку по этим критериям профессионала могут оценивать только коллеги, профессия должна либо отвоевать для себя значительную автономию, либо, в конце концов, совершенно распасться.
3. Наличие внутри профессии форм вознаграждения, выступающих достаточным стимулом для специалистов и обеспечивающих их высокую мотивацию относительно профессиональной карьеры. Речь идет о потребности в такого рода вознаграждении, которое служило бы достаточным стимулом для профессионалов, будучи в то же время подконтрольно не столько посторонним, сколько самой профессии. В той мере, в какой профессионал «зарабатывает» вознаграждение, которое определяется мнением и желаниями непрофессионалов, он подвержен соблазну изменить принципам своей профессии (как это бывает с врачами, совершающими незаконные операции, или с юристами, прибегающими к услугам лжесвидетелей).
4. Заинтересованность социального окружения профессии в продукте деятельности ее членов, гарантирующая как существование, так и действенность профессиональных институтов. Для самосохранения профессии необходимо установление между ней и ее общественным окружением таких отношений, которые обеспечивали бы ей поддержку, а равно и охрану от непрофессионального вмешательства в ее главные интересы. На ранних этапах развития профессии обычно нуждаются в защитном окружении, таком, например, как протекция церкви, могущественного патрона или же финансовая независимость самих профессионалов. Возможно, первая услуга, которую молодая профессия оказывает своим покровителям, — это престиж «показного» потребления (при котором главная цель— произвести впечатление на окружающих), хотя позднее она должна демонстрировать и свою способность приносить практическую пользу людям, далеким от нее. В обмен на эти услуги профессионалы получают материальную поддержку и соответствующую толику престижа. В качестве другого условия следовало выдвинуть хотя бы обоснованное предположение о том, каким образом представление об общей цели науки, мотивация ученых, представления об общих для всех профессионалов императивах и т. п. в каждый момент времени могут реально воздействовать на сознание и поведение ученого. Только при этом условии можно говорить о том, что актуальное состояние науки и критерии оценки будущих исследовательских результатов будут оказывать одинаковое регулирующее воздействие на деятельность ученых, работающих в Таиланде, Исландии, Парагвае и США, будь то университетская кафедра, исследовательский институт или подразделение крупного научно-технического проекта.
Иными словами, социологи науки были обязаны продемонстрировать наличие в научной профессии весьма эффективной информационной и коммуникационной инфраструктуры. Благодаря ей можно говорить, что все профессионалы не просто стремятся к достижению общей цели, а работают координирование над умножением одного и того же культурного массива, корпуса научного знания, о характеристиках (путем «удостоверения») которого в каждый момент времени они имеют возможность придти к соглашению.
Наконец, нужно было найти эмпирический объект, на котором можно было исследовать всю совокупность основных характеристик научной профессии, включая и соответствующие информационные связи. Наука в целом, по определению, не могла выступать в качестве такого объекта, поскольку регулярная оперативная коммуникация между сообществами, к примеру, химиков и филологов просто отсутствует. Областью, в которой подобную коммуникацию имеет смысл искать, могло быть сообщество исследователей, связанных между собой содержательно.
Эти культурно объединенные исследовательские системы, традиционно называемые дисциплинарными сообществами и были избраны в качестве основного объекта, или, в методологических терминах, основной единицы анализа..
Рассмотрим теперь уже на основе этой единицы анализа главные характеристики научной профессии.
Культурная составляшщая научной профессии
Обладание некоторой совокупностью специальных знаний, за хранение, передачу и расширение которых ответственны институты профессий. Именно обладание такими знаниями отличает профессионалов от «непосвященных», и это обладание, будучи продемонстрировано, получает название «экспертизы».
Специфика научной профессии проявляется в первую очередь в том, что ее культурная составляющая — совокупность специальных знаний — в своих многочисленных ипостасях и проявлениях является главным содержанием научной профессии. Продукт науки, который в глазах общества предстает как «научное знание» — это не данные какого-либо отдельного исследования, а результат работы целой фабрики переработки первичной исследовательской информации, ее экспертизы, теоретического и методологического анализа, системной обработки и т. п. Как только этот результат получает статус научного знания, он, строго говоря, перестает интересовать ученых (до тех пор, пока не придет время его пересмотра) и выводится за пределы науки.
Постоянное пополнение корпуса удостоверенного научного знания как цель науки — это многоступенчатая обработка информационного потока, непрерывно поступающего с переднего края исследований. В работе по «удостоверению» (экспертизе) того или иного результата в качестве фрагмента, претендующего на статус вклада в знание, принимают участие практически все члены дисциплинарного сообщества. Поэтому сами результаты всегда представляются сообществу в четко стандартизованной форме научной публикации (устной или письменной), в которой закрепляется и содержание результата, и имена его авторов.
Массив дисциплинарной публикации четко организован, что дает каждому участнику возможность работать с относительно небольшим фрагментом знания и свой вклад оформлять достаточно экономно. «Привязка» вклада к структуре массива обеспечивается его расположением в системе рубрикации дисциплинарных изданий и за счет системы ссылок, которые определяют пространственные «координаты» каждого фрагмента знания и связи с более широким дисциплинарным окружением. Эффективность этих способов структуризации массива подтвердили многочисленные исследования по научной информации.
Структуризация массива публикаций во времени дает возможность существенно расширить зону актуального знания. Для этого массив актуально действующих в каждый момент времени публикаций расчленен на «эшелоны», находящиеся на различном удалении от переднего края исследований. Для участников эти «эшелоны» выступают в виде различных жанров публикации (статья, обзор, монография...). Фрагмент знания, опубликованный в каждом жанре, сохраняет свою актуальность лишь некоторое строго определенное, время. Срок жизни, однако, продлевается для тех фрагментов знания, которые после отбора переходят в публикацию следующего жанра: из статьи в обзор, из обзора в монографию и т. д.
| Структура массива публикаций___________________
«Вход» массива публикаций — рукописи статей, сообщающие о результатах исследований. В процессе исследования, и особенно когда оно завершено, задачей его участников является выделение из общего результата (выполненного для определенной цели) тех его фрагментов, которые представляют интерес для их дисциплин и могут быть расценены как вклад в их знание. Эти интерпретированные в дисциплинарных терминах фрагменты общего результата, на авторство которых исследователь претендует перед дисциплинарным сообществом, в конце концов оформляются в виде статьи для соответствующего специального журнала.
Сделав этот шаг, ученый как бы представляет свой вклад на разнообразную и теоретически бессрочную экспертизу (рецензирование и оценка рукописи, чтение и оценка статьи, использование ее содержания в пополнении или перестройке знания по какой-либо проблеме и т. д.). Правами эксперта в той или иной форме обладает любой коллега, точно так же как автор данной статьи приобретает такое право относительно всех остальных публикаций дисциплины, причем это право формализуется и растет вместе со статусом ученого.
Для того чтобы интерпретировать публикационные жанры как «эшелоны» дисциплинарного массива, расположим их в зависимости от их временной удаленности от «входа». В качестве измерителя берется минимальный отрезок времени, который необходим для того, чтобы полученный на переднем крае результат мог быть опубликован в каждом из жанров. Эшелонированная последовательность (с неизбежными упрощениями) будет выглядеть следующим образом: 1) статьи (журнальные статьи и публикации докладов научных собраний) — 1,5 — 2 года;
2) обзоры (подтверждающие сообщения, обзоры периодики и обзоры научных собраний, проводимых дисциплинарной ассоциацией за какой-либо период времени) — 3 — 4 года;
3) монографии (тематические сборники, монографические статьи, индивидуальные и коллективные монографии) — 5 — 7 лет;
4) учебники (учебники, учебные пособия, хрестоматии, научно-популярные изложения содержания дисциплины и т. п.).
Деятельность по формированию эшелонированного массива публикаций дает возможность из всей массы дисциплинарного архива выделить относительно небольшую и принципиально обозримую группу публикаций. В нее попадают только новые публикации каждого эшелона, содержание которых не включено в последующие эшелоны путем отбора и обработки. Эта группа актуально функционирует как состав массива публикаций в каждый момент времени. Набор конкретных единиц в каждом эшелоне и массиве в целом (список названий публикаций), таким образом, постоянно меняется, то есть речь идет об информационном потоке, фильтрами и преобразователями которого на отдельных этапах выступает деятельность формирующих эшелоны ученых.
Все это дает основание утверждать, что с точки зрения организации знаний мы можем наблюдать в развитии науки два различных процесса, в чем-то аналогичных онтогенезу и филогенезу в биологии. Онтогенетический процесс локализован между передним краем и, скажем, эшелоном учебников. В ходе этого процесса знание, научное по определению (результат научного исследования, находящийся в некоторой связи с другими результатами и компонентами дисциплинарного знания), превращается в знание, научное по истине (встраивается в структуру основополагающих теоретических и нормативно-ценностных представлений данной дисциплины). На этом онтогенез заканчивается — результат прекращает свое изолированное существование, утрачивает свои генетические связи с исследованием, с позицией индивидуального автора или некоторой научной группировки. Он становится научным фактом (законом, эффектом, константой, переменной и т. п.), связанным только с другими элементами научной системы, элементом вечного (на сегодняшний день) точного научного знания. Он теперь не может быть вычеркнут, опровергнут, модифицирован или даже оценен сам по себе. Любое действие с ним, любое его изменение может происходить только в рамках филогенеза — как изменение системы знания, к которой принадлежит данный элемент.
Решения по отбору публикаций для информационной обработки (т. е. для сохранения определенных содержательных компонентов в массиве) принимаются на основе определенных критериев. Основой динамики потока служит то, что критерии отбора информации при формировании эшелона и критерии оценки информации внутри эшелона не совпадают и даже в определенном смысле противоречат друг другу. Содержание рукописи, присланной в журнал, оценивается по критерию корректности; содержание статьи оценивается по критерию плодотворности (иначе на нее не будут ссылаться, и она не попадет в массив обзоров). Единицы для эшелона обзоров формируются по критерию плодотворности, но переходят в массив монографий в зависимости от своей достоверности и т. п. Кроме того, конкретное содержательное наполнение каждого критерия изменяется вместе с развитием дисциплины. Поэтому рациональность принимаемых решений в глазах научного сообщества подкрепляется квалификацией и авторитетом производящих отбор специалистов (редакторов и рецензентов журналов, авторов обзоров, монографий и т. д.),
В Функции массива публикаций
Общность и структура дисциплинарного массива публикаций имеют большое значение для консолидации и стратификации научного сообщества дисциплины. Появление имени того или иного члена сообщества в нескольких эшелонах публикаций является признанием его статуса и оценкой его вклада в дисциплину.
Эта оценка идет по двум линиям. Первая представляет собой характеристику исследовательского результата как вклада в развитие содержания дисциплинарного знания. Такая оценка фиксируется цитированием работы в последующих публикациях. В этом качестве публикации различных эшелонов далеко не равноценны, например, одно единственное упоминание работы в учебнике «стоит» в глазах сообщества дисциплины десятков и сотен журнальных ссылок. Вторая линия связана с высоким престижем непосредственного участия члена сообщества в формировании отдельных публикационных эшелонов, его деятельности в качестве члена редколлегии журнала, автора монографии, учебника и т. п. Отвлекаясь сейчас от особенностей каждой из этих линий накопления статуса, следует подчеркнуть, что реализация каждой из них становится возможной лишь благодаря наличию общего для дисциплины эшелонированного массива публикаций.
Содержание массива дает, таким образом, самое оперативное представление об актуальном состоянии дисциплины в целом; достигнутом на данный момент уровне целостного изображения научного содержания дисциплины в ее учебных специализациях (эшелон учебников); состоянии систематического рассмотрения наиболее крупных проблем (эшелон монографий); направлениях наиболее интенсивного исследования и подходах к изучению каждой проблемы (эшелон обзоров); способах исследования, полученных результатах и именах исследователей (эшелон статей).
Эта информация выполняет важную роль в обеспечении процесса пополнения дисциплины новыми специалистами, как за счет научной молодежи, так и благодаря миграции зрелых исследователей внутри дисциплины и между дисциплинами. Способ организации единиц внутри каждого эшелона обеспечивает мигранту возможность максимально быстро продвигаться к переднему краю исследований, ограничиваясь ознакомлением внутри каждого эшелона с все более узкими по содержанию блоками информации. Количество необходимых этапов в каждом индивидуальном случае различно и варьирует в зависимости от исходной подготовки мигранта. Для новичка в дисциплине оказывается необходимым обязательное прохождение всех этапов, начиная с учебников. Для специалиста, желающего сменить направление исследований внутри одной и той же области, эта потребность ограничивается содержанием блока статей или обзора.
Жесткая организация и интенсивная деятельность сообщества — необходимые условия для выполнения массивом публикаций столь многочисленных и разнообразных функций — связаны с тем, что дисциплинарный массив расположен на сравнительно небольшом по протяженности участке двух встречных процессов, которые за пределами дисциплины и даже науки протекают в значительной своей части совершенно независимо друг от друга.
Речь идет, с одной стороны, о трансляции полученных дисциплиной обобщенных форм человеческого опыта (знания о закономерностях действительности и объективированных образцов деятельности) в систему культуры (другие дисциплины, другие сферы профессиональной деятельности, систему образования и долговременную социальную память), а с другой — о процессе рационального использования выделенных обществом лиц для профессиональной деятельности в дисциплине.
Социальная эффективность обоих этих процессов обеспечивает и стабильность дисциплинарной организации науки, и устойчивость отдельной дисциплины как системы.
Таким образом, корпус культуры научной профессии, ее совокупность специальных знаний, играет особую, не сравнимую ни с какой иной профессией роль в существовании и развитии социальной системы науки. Особенности работы с корпусом культуры обусловливают и специфику подготовки научных кадров.
Воспроизводстве научной профессии как социальной системы
Автономность профессии в привлечении новых членов, их подготовке и контроле их профессионального поведения. О профессионалах судят не по таким вещам, как манеры, место рождения или политические убеждения, а по их владению соответствующими знаниями и степени участия в их умножении. Поскольку по этим критериям профессионала могут оценивать только коллеги, профессия должна либо отвоевать для себя значительную автономию, либо, в конце концов, совершенно распасться.
По мере развития общества становится все больше специальностей, интеллектуальная составляющая которых требует первичной научной подготовки, и одновременно меняются представления о содержании, сроках и формах такого рода подготовки. Научная профессия никогда не могла конкурировать с другими специальностями ни по уровню своего материального вознаграждения, ни по престижности1. Во всех странах и во все времена зарплата ученого в среднем (оставим в стороне звезд и корифеев — их единицы) не превышала оклада среднего государственного чиновника, а слава «человека рассеянного» в массовом сознании не могла сравниться с престижем политика, артиста или полководца. Может быть, единственным преимуществом ученого-профессионала является возможность заниматься своим любимым делом.
Поэтому для сознательного выбора научной профессии молодежь должна уже в процессе подготовки представлять свои перспективы на этом поприще. Однако точка, из которой видна такая перспектива, с течением времени отдаляется все больше. В XIX веке выпускник вуза уже в общем случае имел достаточные представления о научной профессии, чтобы сделать ее осознанный выбор. В прошлом веке с характерными особенностями научной профессии новичок знакомился в процессе обучения и участия в исследованиях, будучи аспирантом. Получение первой ученой степени фактически определяло выбор научной карьеры.
В конце XX века ситуация существенно изменилась. Внешне новые проблемы выглядели как старе-
' Все ностальгические рассказы о высоком престиже и обеспеченности ученых «за семью заборами, за семью запорами» советского периода не выдерживают минимальной эмпирической проверки.
ние научных кадров (точнее, неблагоприятное изменение их возрастной структуры) и пресловутая «утечка мозгов».
Обе эти проблемы оказались в центре внимания и институтов мирового научного сообщества, так как интенсивность исследований стала существенно замедляться из-за старения «населения» науки. Анализ показал, что, во-первых, обе проблемы тесно связаны между собой, и, во-вторых, чисто финансовые вливания или увеличение выпуска аспирантов оказываются малоэффективными.
Можно сказать, что в структуре кадрового потенциала стран-доноров непропорционально растет удельный вес двух категорий ученых: тех, кто учит (старшие возраста), и тех, кто учится (молодежь 25 — 28 лет). А вымываются прежде всего кадры наиболее продуктивного возраста (28 — 43 года) — те, кто должен работать1. Одно из наиболее обоснованных объяснений состоит в следующем. После аспирантуры молодой человек оказывается перед окончательным выбором профессии. Выбором очень непростым. За следующие 10—15 лет он в условиях жесточайшей конкуренции либо добивается успеха в профессии, либо пополняет ряды неудачников. При этом решающими обстоятельствами являются, во-первых, возможность в эти годы работать в лучших коллективах переднего края науки (или в постоянной связи с такими коллективами) и, во-вторых, возможность сконцентрировать все усилия на получении исследовательских результатов, не отвлекаясь на должностные интриги и написание следующих диссертаций.
В этом интересы ученого и интересы сообщества совпали, а следовательно, найдены были организаци-
■ В этом отношении российские возрастные распределения прямо-таки эталонны (См. В.А. Маркусом и др. Российская наука в переходный период— влияние финансирования на конкурсной основе на исследовательскую и публикационную деятельность. Доклад на 168-м собрании Американской ассоциации по содействию развитию науки — AAAS) Русский перевод: «Курьер российской академической науки и высшей школы», № 4, 2002, www.courier.com.ru/top/cras.htm.
онные средства для решения проблемы. При этом не потребовалось ничего изобретать. В качестве стандартной организационной формы становления ученого был избран и закреплен во всех цивилизованных странах один из самых древних институтов научной профессии — постдоковские стажировки. Суть его в том, что молодой исследователь, успешно получивший степень, в течение нескольких лет работает в различных исследовательских командах (миграция является одним из ключевых условий), показывает на практике, чего он стоит и на что может претендовать. После этого он уже на основе собственного опыта делает выбор карьеры: остается в исследованиях, возглавляя микроколлектив («senior researcher», «Principal Investigator))), концентрируется на преподавании, уходит в научный менеджмент или становится консультантом бизнес-корпорации.
При всех различиях национальных традиций в разных странах условия стажировки, требования к стажерам и т. п. были максимально стандартизованы. Накопляемый в период стажировок статус исследователя практически не зависит от формальных чинов и званий — второй степени, доцентуры, профессуры и т. п. Сообщество интересует только вклад исследователя в общее дело — полученные результаты. Информационные системы сообщества позволяют следить за деятельностью и карьерой каждого исследователя.
Выяснилось, что институционализация постдоков-ских стажировок одновременно внесла вклад и в решение ряда других проблем управления наукой, модифицируя научную бюрократию.
Во-первых, основой оценки научных организаций стала их привлекательность для потенциальных стажеров — части сообщества, наиболее мотивированной научной карьерой.
Во-вторых, основой оценки научных и учебных организаций стала привлекательность их аспирантов для стажировок в других организациях.
В-третьих, появилась стандартная процедура постоянной горизонтальной миграции исследователей как средство от застоя.
В-четвертых, появилась столь же стандартная процедура быстрой мобилизации наиболее состоятельной и мотивированной части исследовательского потенциала на перспективных направлениях исследовательского фронта.
А как же с «утечкой»? Многочисленные исследования показывают, что этот процесс зависит прежде всего от двух факторов. Первый из них — это наличие внутри страны нормальных условий для внутренней миграции и интенсивного обмена кадрами. Второй — готовность официальной системы государственного управления наукой обеспечивать карьеру ученого (его право на занятие кафедр, руководство лабораториями и т. п.) в первую очередь и главным образом по результатам его исследований, то есть по критериям, принятым в научном сообществе.
И наоборот, чем большая роль в должностной иерархии придается различным формальным критериям, чем больше бумажных барьеров должен преодолевать ученый для получения официального статуса, тем больше «утечка» и соответственно, тем быстрее идет старение кадрового потенциала науки. Так, «утечка мозгов» (при этом многие ученые уезжают, даже теряя в зарплате) недаром беспокоит правительства благополучных европейских стран, цепляющихся за косные бюрократические традиции. Острота проблем, естественно, возрастает в странах победнее.
Таким образом, именно благодаря автономности научной профессии в подготовке своего пополнения и контроле за его карьерой научное сообщество постоянно находит новые ресурсы, недоступные бюрократическим институтам управления наукой. Более того, чем быстрее и полнее эти ресурсы встраиваются в стандартный бюрократический арсенал управления, тем с меньшими издержками для общества наука выходит на новый виток своего организационного развития.
Вознаграждения, санкции и мошзронный контроль
Наличие внутри профессии форм вознаграждения, выступающих достаточным стимулом для специалистов и обеспечивающих их высокую мотивацию относительно профессиональной карьеры. Речь идет о потребности в такого рода вознаграждении, которое служило бы достаточным стимулом для профессионалов, будучи в то же время подконтрольно не столько посторонним, сколько самой профессии. В той мере, в какой профессионал «зарабатывает» вознаграждение, которое определяется мнением и желаниями непрофессионалов, он подвержен соблазну изменить принципам своей профессии (как это бывает с врачами, совершающими незаконные операции, или с юристами, прибегающими к услугам лжесвидетелей).
Механизмы научного признания, ответственные за социальное здоровье научного сообщества, действуют параллельно по двум линиям.
Первая из них выражается в том, что заслуги члена научного сообщества находят признание в накоплении его профессионального статуса, что выражается в присуждении различного рода почетных наград и званий, в избрании на общественные посты в профессиональных обществах и т. д.
Вторая линия признания отражает активность ученого в процессах, определяющих деятельность научного сообщества в данный момент, актуальную «замет-ность» (visibility) профессионала. Институты дисциплинарной коммуникации обеспечивают возможность оперативно доводить этот показатель до научного сообщества. Результатом признания этой деятельности являются: расширение возможности получать исследовательские субсидии или гранты; приток аспирантов (они приносят плату за обучение или гранты университету) ; приглашение к участию в престижных проектах и т. п. Тем самым поощряется работа на научное сообщество.
Разделение этих двух форм научного признания — одна из наиболее результативных организационных инноваций в науке XX века, эффективно демонстрирующих жизненную важность автономии научного сообщества в любой общественной системе. Необходимость такой автономии осознана в большинстве развитых стран.
Все это, однако, вторичные формы поощрения успешной работы члена сообщества. Первичная и самая главная форма вознаграждения участника — информация. Сообщество расплачивается за вклады участников информационными преимуществами, которые в условиях острейшей конкуренции гораздо более перспективны, чем любые звания и награды,
Статус официального рецензента журнала дает доступ к рукописям статей, содержание которых станет известным сообществу лишь через несколько месяцев или лет. Членство в редколлегии журнала не только расширяет эти возможности, но и позволяет оказывать влияние на политику внутри соответствующей области исследований. Участие в экспертных комиссиях и советах различных фондов и финансирующих агентств знакомит эксперта с исследованиями, которые еще только предполагается проводить, то есть с прогнозом развития его направления работы. И чем более успешно работает ученый, тем большие информационные преимущества он получает от сообщества. В социологии науки в этой связи часто вспоминают евангельскую цитату «Имеющему дастся и приумножится...».
Наряду со статусными преимуществами в доступе к информации успешно работающий ученый попадает и в круг элитной коммуникации. Общаясь в этом кругу с корифеями, он может быстро узнать о проблеме или добиться максимально квалифицированного обсуждения собственной проблемы практически немедленно.
Особое значение вопросы оперативной коммуникации приобретают при формировании нового направления исследований. Специальное изучение этой тематики в связи с «невидимыми колледжами» показало, что механизмы, регулирующие этот процесс, во-первых, сходны в самых различных областях науки, а во-вторых, позволяют достаточно строгое описание.
В основу модели становления научной специальности положены две характеристики коммуникации между участниками: 1) типы коммуникации и 2) фазы развития.
щ Типы коммуникации__________________________
Внутри системы научной коммуникации обнаруживаются четыре четко различающихся типа связей между учеными — каждый тип фиксирует социальные отношения, постоянно встречающиеся в науке.
Эти отношения таковы:
1) коммуникация — серьезное обсуждение текущих исследований;
2) соавторство — более тесная форма ассоциации, когда два или большее число ученых вместе сообщают о результатах исследовании по той или иной тематике;
3) наставничество — ученик проходит подготовку под влиянием своего учителя;
4) коллегиальность — два ученых работают в одной и той же лаборатории.
Большинство ученых, если они вообще ведут1 исследования, в своей деятельности связаны между собой какими-либо из этих отношений. Задача социолога науки в том, чтобы описать образец, в соответствии с которым эти отношения осуществляются в каждом случае, поскольку такой образец в первом приближении показывает фазу, которой достигла интеллектуальная группа.
В течение своей интеллектуальной жизни активный ученый, участвующий в структурированной коммуникации (многие ученые никогда не входят в нее), постоянно устанавливает и разрывает связи, к тому же и его исследовательские интересы могут за этот период меняться несколько раз.
Установление и разрыв связей, которые образуют общую структуру коммуникации, есть непрерывный процесс. Пары учитель — ученик, соавторы и т. д. оставляют свидетельство о себе навсегда, хотя такие объединения и не всегда активны. Коллегиальные отношения длятся иногда год, а иногда сохраняются на весь период научной карьеры.
| В ходе исследований были выделены четыре фазы, через которые проходит научная специальность в своем становлении. Нормальная фаза. Это период относительно разрозненной работы будущих участников и их небольших групп (часто это группы аспирантов во главе с руководителем) над близкой по содержанию проблематикой. Общение идет, в основном, через формальные каналы, причем его участники еще не считают себя связанными друг с другом внутри какого-нибудь объединения. Эта фаза в истории специальности конструируется ретроспективно только в тех случаях, когда новая специальность сформировалась. Нормальная фаза часто завершается опубликованием «манифеста», в котором содержатся в общих чертах программа разработки проблематики и оценки ее перспективности. Фаза формирования и развития сети характеризуется интеллектуальными и организационными сдвигами, приводящими к объединению исследователей в единой системе коммуникаций. Как правило, новый подход к исследованию проблематики, сформулированный лидером одной из исследовательских групп, вызывает взрыв энтузиазма у научной молодежи и приводит под знамена лидера определенное число сторонников, но в то же время этот подход еще не получает признания в дисциплинарном сообществе в целом. Участники формируют сеть устойчивых коммуникаций. Фаза интенсивного развития программы нового направления за счет действий сплоченной группы, которую образуют наиболее активные участники сети коммуникаций. Эта группа формулирует и отбирает для остронаправленной разработки небольшое число наиболее важных проблем (в идеальном случае одну проблему), в то время как остальные участники сети получают оперативную информацию о каждом достижении новой группировки, ориентируются на нее в планировании своих исследований и обеспечивают тем самым разработку проблематики по всему фронту. |
| Фазы развития научной специальности («невидимого колледжа»)
Фаза институционализации новой специальности. Научные результаты, полученные сплоченной группой, обеспечивают новому подходу признание сообщества, возникают новые направления исследований, базирующиеся на программе сплоченной группы. При этом, однако, сплоченная группа распадается, ее бывшие члены возглавляют самостоятельные группировки, каждая из которых разрабатывает по собственной программе группу специальных проблем. Специальность получает формальные средства организации (журналы, библиографические рубрики, кафедры, учебные курсы, секции в профессиональных ассоциациях и т. п.), и отношения внутри нее снова переходят в нормальную фазу.
В каждой фазе развития «невидимого колледжа» самосознание участников формирующейся специальности претерпевает изменения следующим образом: романтический период (по времени совпадающий с нормальной фазой развития специальности); догматический (по времени совпадающий с фазой коммуникационной сети и сплоченной группы); академический (фаза специальности).
Фазы сетей возникают — иногда на краткие, иногда на более продолжительные периоды — за счет концентрации внимания нескольких ученых на специфической области проблем. Многие из тех ученых, которые в текущий момент не-включены в деятельность некоторой сети или сплоченной группы, могут оказаться вовлеченными в нее позднее или были вовлечены ранее.
Модель описывает полный процесс, включая его успешное завершение. Разумеется, на практике далеко не каждая группа, объединившаяся в сеть, затем достигает фазы сплоченной группы, специальности и т. п. Каждый шаг на этом пути зависит, прежде всего, от качества тех научных результатов, которые получены группой. Механизмы коммуникации лишь демонстрируют организационные возможности сообщества по поддержке такой деятельности.
В то же время каждый исследователь в этих условиях видит свои перспективы, а его профессиональные амбиции поддерживаются механизмами поощрения и вознаграждения, которыми располагает сообщество.
Автономность сообщества, о которой уже много раз говорилось, имеет смысл только в том случае, если сообщество в состоянии установить нормальные рабочие отношения с другими институтами, входящими в его социально-экономическое окружение. В отличие от обслуживающих профессий ученый в общем случае не может получать непосредственного финансового вознаграждения от общества за результаты своей индивидуальной деятельности. Посредником между ним и обществом выступает научное сообщество.
Сообщество и общество
Заинтересованность социального окружения профессии в продукте деятельности ее членов, гарантирующая как существование, так и действенность профессиональных институтов. Для самосохранения профессии необходимо установление между ней и ее общественным окружением таких отношений, которые обеспечивали бы ей поддержку, а равно и охрану от непрофессионального вмешательства в ее главные интересы. На ранних этапах развития профессии обычно нуждаются в защитном окружении, таком, например, как протекция церкви, могущественного патрона или же финансовая независимость самих профессионалов. Возможно, первая услуга, которую молодая профессия оказывает своим покровителям, — это престиж «показного» потребления (при котором главная цель — произвести впечатление на окружающих), хотя позднее она должна демонстрировать и свою способность приносить практическую пользу людям, далеким от нее. В обмен на эти услуги профессионалы получают материальную поддержку и соответствующую толику престижа.
За полвека развития социологии науки наибольшие изменения произошли в ее отношениях с общественным окружением, что обусловлено как радикальными трансформациями самого общества, его структуры, ориентации, так и вызовами времени, с которыми оно сталкивается.
Если в исследованиях классической социологии науки центральное место занимали отношения между научным сообществом и национальными общественными институтами (политикой, государством, бизнесом и т. п.), то сегодня вся система отношений не может рассматриваться вне и независимо от интеграционных процессов, характеризующих динамику промышленно развитых стран. Речь идет о политической интеграции, о глобализации экономики (а соответственно, об интернационализации антиглобалистских движений), о новых рисках научного развития, непредсказуемые последствия которых могут угрожать не только государствам, но и каждому отдельному человеку...
Динамика общей ситуации корректирует и особенности ее отражения в предмете социологии науки.
К Наука и политика
В традиционном национальном государстве под научной политикой понималась в первую очередь система и институты принятия решений о стратегии развития научно-технического комплекса страны, а также действия по практической реализации этих решений. Вся эта деятельность, за минимальными исключениями, располагалась в зоне бюрократической рутины и, как правило, мало касалась собственно политического процесса (борьбы за власть, голоса избирателей). Наука воспринималась лишь как одно из средств реализации военной, экономической и других направлений политики, впрямую связанных с перспективностью партийных программ. Свою роль играла наука и в международной политике, оказывая существенное влияние на престиж государства и подкрепляя его державные амбиции.
Радикальное изменение ситуации заключалась в том, что современная научная политика во все большей мере становится политикой публичной. Расходы на -науку, направления и формы ее развития, ее участие в жизни общества — все это становится предметом обсуждения и непосредственно влияет на электораль- 353 ные перспективы отдельного политика или политической партии.
Все большую роль в этих процессах начинает играть общественный контроль развития науки и использования ее достижений. Соответственно, жизненно важным для политики становится постоянный мониторинг отношения населения к науке вообще, к отдельным направлениям ее развития, к ее участию в других процессах (развитии образования, экономической структуры общества, инновационного процесса). Для этой цели политики вместе с научным сообществом постоянно проводят массированное изучение общественного мнения о науке. В странах Европейского Союза этим регулярно занимается служба «Евробаро-метр», в США— ряд не менее известных институтов изучения общественного мнения. Эти обследования проводятся в тесном взаимодействии с институтами научного сообщества, а их результаты широко обсуждаются.
В Научное сообщество и общественные движения
Взаимоотношения в треугольнике «государство — научное сообщество — общественные движения» прошли длительный и болезненный процесс «отстройки». Поначалу научная политика формировалась без обращения к общественному мнению. Предпринимались нескоординированные, малоэффективные попытки противодействовать острой реакции общества на факты, когда развитие науки и технологии приводило к явно нежелательным последствиям (чернобыльская катастрофа, Арал, энергетическая катастрофа в США и другие случаи бедствий, явно связанные с несовершенством современной науки и техники или с политической безответственностью использования их достижений). Реакция сводилась к замалчиванию фактов; пропагандистским кампаниям, которые должны были доказать общественности единичность, случайность катастроф; политизации подобного рода инцидентов.
Глава 2. Социальный иарашрисши иаривй профессии
В целом такая политика привела к результатам прямо противоположным желаемым. Общественные движения, инициированные отдельными событиями или общим ухудшением ситуации, которое так или иначе связывалось с последствиями научно-технического развития, приобретали откровенно конфронтаци-онный характер. Они быстро политизировались и часто превращались в значительную деструктивную силу.
Все это заставило искать новую стратегию, в поиске которой государство и политики обратились к научному сообществу, которое также оказывалось «потерпевшей стороной», принимая не всегда заслуженные упреки общества и страдая от последствий неуклюжих действий государственной бюрократии.
Постепенно сформировалась стратегия взаимодействия с общественными движениями. В ее основе лежит «асимметричный ответ» на вызов, который эти движения бросают институтам власти и инновационному сообществу. Эта стратегия исходит из предположения о возможности наихудшего варианта развития событий, когда продуктивный диалог с отдельными общественными движениями оказывается вообще невозможным из-за преобладания в них иррационального элемента.
Готовиться нужно не к полемике с сектантами, а к «отсечению» ослепленных эмоциями или увлеченных харизматическим лидером членов движения от основной массы вполне здравомыслящих и ориентированных на рациональные оценки людей. Поэтому научная политика должна исходить из реалистического представления о том, что знает о науке обычный здравомыслящий человек, какие научные факты ему известны и насколько он знаком с научной методологией. Эти представления подвергаются интенсивному социологическому и социально-психологическому анализу, результаты которого используются для повышения конструктивности диалога и широко применяются при формировании и модификации научной политики.
Следующим шагом стало создание условий для преобразования общественных движений в политические партии (партия «зеленых», к примеру) и вовлечения их в полноценное участие в политическом процессе, где они представляют определенную социальную группу.
В целом же научная политика постепенно начинает строиться так, чтобы привить обществу осознание того, что риск, связанный с развитием науки и техники, неотделим от ее достижений. Общественность должна быть информирована о самой природе научного знания, не только о достижениях, но и органических слабостях научного метода, который не является абсолютным, и о природе технических решений, которые даже в самом лучшем случае оптимальны только с точки зрения ограниченного, заведомо неполного набора критериев.
Придется свыкнуться с мыслью, что блага, которые несет с собой развитие науки и техники, являются относительными. Но и развитие инновационного комплекса не является стихийным, неизбежным процессом. Общество может регулировать этот процесс и, в конечном счете, за ним остается выбор, финансировать ли новые достижения инновационного комплекса и связанный с ними новый уровень благосостояния и новый уровень риска, или отказаться от каких-то направлений поиска.
| Наука и бизнес
Активная позиция научного сообщества и признание его институтов полноправным субъектом процесса управления наукой кардинально изменили отношения между наукой, государственной властью и бизнесом, а тем самым и представления о движущих силах экономического развития.
Потребность в подобных изменениях выяснилась еще в 70-х годах XX века отнюдь не в связи с управлением наукой. Речь шла о поиске новых путей освоения высоких технологий. Традиционная система «внедрения инноваций», при которой от появления плодотворной научной идеи до разработки основанного на ее использовании конкурентоспособного рыночного продукта проходит 12— 15 лет, оказалась в новых условиях совершенно неэффективной. За это время сменялись целые поколения технологий, а прогнозировать изменение рыночной конъюнктуры на такие периоды не удавалось, как не удается и сегодня. В результате резко повышался уровень риска для корпораций, работающих в самых передовых и важных, в том числе и для безопасности государства, областях. Государство тоже не могло взять этот риск на себя, снижая тем самым уровень конкуренции и подвергая серьезной опасности всю бюджетную политику.
После длительных поисков и экспериментов удалось выяснить, что наиболее перспективный путь — передача основной части инновационного процесса и связанного с этим коммерческого риска самим ученым, точнее, тем из них, кто был на это согласен. Ученые-бизнесмены получали серьезные преимущества — они могли более оперативно следить за развитием исследований в своей области и, соответственно, быстрее конкурентов реагировать на изменения ситуации.
Потребовались серьезные изменения в законах об интеллектуальной собственности, позволявших авторам инноваций их коммерческое использование. Была скорректирована налоговая и кредитная политика, стимулирующая развитие мелкого' и среднего инновационного бизнеса, так называемых «венчурных» фирм.
Скажем сразу, уровень риска для каждого владельца фирмы остался по-прежнему высоким. Примерно 75 — 80% венчурных фирм разоряются в первые же годы своего существования. Остальные фирмы встраиваются в общую структуру экономики, продавая свои продукты крупным корпорациям, государству или конечным потребителям. И лишь единицы типа «Майкрософт» вырастают в крупные корпорации.
Однако новая схема распространения инноваций оказалась успешной в главном — интервал между научной идеей и появлением конечного продукта был сокращен в среднем до 3 — 4-х лет, а значительная часть риска была распределена между тысячами мелких предпринимателей. Существенно повысился уровень конкуренции.
Экономические результаты оказались столь впечатляющими, что сегодня, к примеру, во всех развитых странах проблема инноваций формулируется только в терминах программ «развития инноваций и малого научного бизнеса». Возросло и общее доверие бизнеса к науке.
Не менее значительными были и структурные изменения в отношениях между наукой, производством и бизнесом в сфере высоких технологий. Разорение венчурных фирм постоянно пополняет рынок труда наиболее дефицитной категорией работников — квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы как в науке, так и в бизнесе. Подавляющее большинство из них либо возвращается в прикладные исследования, либо уже в качестве наемных менеджеров и консультантов приходит в крупные корпорации.
| Новые вызовы
В краткой сводке достижений науки за скобками остаются десятилетия труда сотен исследователей, трудности, мучительные поиски и драматические неудачи, которых всегда на порядок больше, чем успехов. Более того, на каждой стадии работы ее участники совсем не уверены в том, что верный путь, во-первых, вообще существует, а, во вторых, что его выбрали именно они, а не их соперники. А если речь идет о судьбах человечества, то к этой драме идей добавляется и огромная личная ответственность: «Кто, если не я?»
Эти особенности поведения профессионального сообщества особенно отчетливо видны в ситуациях с открытым финалом. В отличие от общественных движений и политиков ученые еще три десятилетия назад, после первых успешных опытов по генной инженерии и ряду других направлений медико-биологических исследований, с тревогой отмечали, что отдаленные последствия генно-инженерных манипуляций практически невозможно предсказать с достаточной надежностью. Ситуация полностью выходит из-под контроля при массовом использовании генетически модифицированных продуктов (ГМП).
Крайняя болезненность ситуации заключалась в том, что объектом дискуссии явилось ограничение деятельности по достижению главной цели науки — интенсивному пополнению массива научного знания. Потенциальная опасность направленного вмешательства в генетические механизмы, равно как и готовность власти и бизнеса широко использовать результаты такого вмешательства были очевидны и авторам открытия, и их коллегам из различных отраслей науки. Столь же очевидной была неготовность профессии к решениям и действиям в столкновении с проблемой.
Первое решение — использовать опыт физиков-ядерщиков, объявлявших в свое время мораторий на исследования в области ядерных вооружений, пока не будет обеспечен соответствующий контроль со стороны сообщества. Попытка реализовать это решение — мораторий, объявленный рядом крупнейших специалистов в 70-х годах, — принесла неожиданные и шокирующие результаты. Работы по биотехнологиям, которые проводились небольшими коллективами на относительно компактном оборудовании, не только не были свернуты, но, наоборот, стали интенсивно развиваться за счет притока молодых, не слишком разборчивых в средствах, исследователей. В то же время наиболее авторитетная часть профессионального сообщества, соблюдая мораторий, фактически отказалась от контроля над развитием этой области.
Все эти годы сообщество подвергалось массированному давлению со стороны бизнеса(производители с/х продуктов и фармацевтические корпорации) и ряда общественных организаций, аргументы которых выглядели куда как убедительно. Ученых обвиняли в том, что они, опираясь на неясные предчувствия и гипотетические опасности, препятствуют борьбе с реальными проблемами: недостатком дешевого продовольствия для сотен миллионов голодающих и дефицитом эффективных лекарств против смертельных болезней. Когда такие, сами по себе убедительные, аргументы подкрепляются сотнями тысяч долларов на рекламные и PR-кампании корпораций, спорить с ними оказывается очень не просто.
Таким образом, попытки научного сообщества непосредственно воздействовать на процесс принятия решений успехом пока не увенчались. После долгих поисков был избран другой, традиционный путь — усиление информационного контроля исследований и экспертизы ситуации в целом. Для этого впервые в истории науки сделана беспрецедентная попытка консолидированной акции научного сообщества для ускорения информационного обмена. По инициативе крупнейших специалистов тысячи исследователей, работающих в биомедицинских исследованиях, выдвинули ультимативное требование издателям научных журналов по этой тематике. Учитывая огромное общественное значение современного этапа в развитии биомедицинских наук, его влияние на будущее человечества, ученые потребовали открытого доступа ко всем публикациям через сеть Интернет. Ученые выразили готовность обсудить с издателями возможности компенсации их расходов, однако заявили, что готовы с сентября 2001 года прекратить все виды сотрудничества с журналами (публикацию собственных статей, участие в работе редколлегий, редактирование и рецензирование рукописей и т. п.), издатели которых откажутся выполнить данное требование.
Не менее интересна и реакция издателей. Редактор «Nature» — одного из самых престижных научных журналов — в ответ на ультиматум ученых объявил, что отныне обязательным требованием к авторам статьи станет указание на источники финансирования исследований. Если при этом обнаружится, что исследование выполнено по заказу одной из заинтересованных корпораций, редакция оставляет за собой право отказаться от публикации и известить соответствующее научное общество о мотивах отклонения. Таким образом, обе стороны конфликта с разных позиций работают на интересы общества.
Наряду с этим новый толчок получили исследования по биоэтике, были внесены соответствующие дополнения в уставы целого ряда профессиональных обществ и кодексы поведения их участников (именно в ряде биомедицинских наук такого рода писаные кодексы существуют), а главное, формируется серьезная база для взаимодействия между научным сообществом, государственными институтами, представительной властью, бизнесом и общественными организациями. Иными словами, используется весь арсенал инструментов, которыми располагает демократическое общество для обсуждения жизненно важной проблемы и контроля за принятием решений при любом развитии ситуации.
И сегодня, когда трагический смысл слова «необратимость» в связи с клонированием человека постепенно начинают чувствовать даже политики, подобное взаимодействие является тем максимумом, который общество может мобилизовать в ответ на новый вызов времени. При этом, как уже говорилось, финал остается открытым: наука — это предвидение, но не Провидение.
Глава 3
СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В «классической» социологии науки, связанной, в первую очередь, с работами Р. Мертона и его последователей, практически все характеристики научного сообщества и поведения ученых реконструировались из особенностей научного знания как основной цели науки. При этом предполагалось, что непосредственная организация исследований и взаимодействие исследователей заведомо протекают в различных условиях, но их мотивация, ориентация, формы работы со знанием и т. п. носят единый для профессии и в этом смысле универсальный характер.
В то же время по мере того, как научная профессия становилась массовой, ее социальные и организационные особенности начали приобретать все большее значение, а их изучение — выделяться в самостоятельную сферу социологического исследования, связанную с социологией научных сообществ, но отнюдь не сводящуюся к последней.
Обозначающее это направление понятие «передний край исследований» (research front) вошло в социологию науки на рубеже 60-х гг. XX века как обозначение новой самостоятельной области исследования. Представление о переднем крае вводилось в расчете на интуитивную ясность и эмпирическую очевидность его содержания для любого работающего ученого. Имелось в виду, что исследовательская деятельность осуществляется на границе познанного и непознанного и что uDt пребывание в этой пограничной зоне придает особый характер как взаимоотношениям между исследователями, так и их отношению к научному знанию — его отбору, оценке, способам обработки.
«Вход» в систему дисциплинарной публикации образует естественную границу между двумя сферами организации знания и связанной с ним деятельности. По одну (внутреннюю) сторону этой границы индивидуальная и групповая деятельность ученых, каковы бы ни были ее конкретные характеристики (цели, мотивы, формы взаимодействия и т.д.), в каждом конкретном случае, приобретает системное значение тогда и постольку, когда и поскольку ее результаты оказывают влияние на содержание и динамику знания дисциплины.
С другой (внешней относительно дисциплинарной системы) стороны границы, т. е. на переднем крае, организация знания уже не задается состоянием дисциплинарной системы, а отражает принципиально иную функцию знания — интеллектуальное обеспечение исследований, прагматика которых, в свою очередь, определяется теми более широкими областями научной и/или практической деятельности, в которые включены исследования. При этом предсказать заранее, какая именно группа результатов (содержательная, методическая, техническая) и для какой именно группы специалистов окажется особенно ценной, невозможно.
Поэтому изучение организации знания на переднем крае ведется с совершенно иных позиций, а во многом и на ином эмпирическом материале, нежели исследование организации дисциплинарного знания.
В отличие от дисциплинарной организации знания, где публикационный массив задавал единую группу обобщенных и относительно стабильных ориентиров для поддержания и развития системы дисциплинарного знания, организованной по собственным законам, на переднем крае исследований ориентиры, задающие мотивацию исследователей и воздействующие на выбор тематики работы, гораздо более разнообразны и менее организованы.
Дисциплинарное знание на переднем крае играет роль лишь одного из ориентиров — адреса возможных приложений результатов исследований. До тех пор, пока научное знание дано нам через сведения о коммуникации по его поводу, мы не в состоянии отделить в этой синкретической картине элементы, характерные для организации знания, от организационных особенностей, связанных с разделением труда, техникой коммуникации, величиной и статусом конкретного исследовательского сообщества и другими организационными характеристиками коммуникации, не имеющими прямой связи с ее содержанием.
Тем самым понятие переднего края приобретает еще одно важное измерение — передний край связывает дисциплинарно организованную науку с организационным, и далее, с социальным окружением исследований, являясь своего рода границей между наукой и обществом. Именно в этой пограничной зоне располагаются организационные механизмы взаимодействия, а следовательно, здесь имеет смысл искать возможности целенаправленного воздействия на эти механизмы.
Наиболее подробному исследованию в этой связи подверглись попытки представить науку как объект социального управления.
1 Структура научно-технического прогресса________
В основу исследований научно-технической деятельности была положена принятая на конференции ЮНЕСКО типология видов этой деятельности, связывающая научные идеи с конечным продуктом прогресса в виде технологий, ноу-хау, образцов продуктов и т. п. Она включала следующие типы научно-технической деятельности: фундаментальные исследования (в ряде классификаций подразделяющиеся на поисковые и целевые), прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки, рыночное освоение продукта. В советской литературе вся совокупность этих типов объединялась аббревиатурой НИОКР (научные исследования и опытно-конструкторские разработки).
Непосредственно к науке в этой типологии относятся фундаментальные и прикладные исследования. Эти типы исследований различаются по своим социально-культурным ориентациям, по форме организации и трансляции знания, а соответственно, по характерным для каждого типа формам взаимодействия исследователей и их объединений. Все различия, однако, относятся к окружению, в котором работает исследователь, в то время как собственно исследовательский процесс — получение нового знания как основа научной профессии — в обоих типах исследований протекает абсолютно одинаково.
Социальные функции фундаментальных и прикладных исследований в современном науковедении определяются следующим образом.
Фундаментальные исследования направлены на усиление интеллектуального потенциала общества (страны, региона...) путем получения нового знания и его использования в общем образовании и подготовке специалистов практически всех современных профессий. Ни одна форма организации человеческого опыта не может заменить в этой функции науку, выступающую как существенная составляющая культуры.
Прикладные исследования направлены на интеллектуальное обеспечение инновационного процесса как основы социально-экономического развития современной цивилизации. Знания, получаемые в прикладных исследованиях, ориентированы на непосредственное использование в других областях деятельности (технологии, экономике, социальном управлении и т. д.).
Формирование прикладных исследований как организационно специфичной сферы ведения научной деятельности, целенаправленное систематическое развитие которой приходит на смену утилизации случайных единичных изобретений, относится к концу XIX века и обычно связывается с созданием и деятельностью лаборатории Ю. Либиха в Германии. Уже перед первой мировой войной прикладные исследования как основа для разработки новых видов техники (поначалу военной) становятся неотъемлемой частью общего научно-технического развития, и к середине XX века постепенно превращаются в ключевой элемент научно-технического обеспечения всех отраслей народного хозяйства и управления.
Механизмы, регулирующие деятельность и отношения в прикладных исследованиях, определяются их организационным окружением. Хотя в конечном счете социальная функция прикладных исследований направлена на снабжение инновациями научно-технического и социально-экономического прогресса в целом, непосредственная задача любой исследовательской группы и организации состоит в обеспечении конкурентного преимущества той организационной структуры (фирмы, корпорации, отрасли, отдельного государства), в рамках которой осуществляются исследования.
Эта задача определяет приоритеты в деятельности исследователей и в работе по организации знания: выбор проблематики, состав исследовательских групп (какправило, междисциплинарных), ограничение внешних коммуникаций, засекречивание промежуточных результатов и юридическая защита конечных интеллектуальных продуктов исследовательской и инженерной деятельности (патенты, лицензии и т. п.).
Ориентация прикладных исследований на внешние приоритеты и ограничение коммуникаций внутри исследовательского сообщества резко снижают эффективность внутренних информационных процессов — научной критики как основного двигателя научного познания. Для компенсации этого ограничения прикладные исследования как отрасль научно-технического прогресса поддерживаются мощными и весьма дорогостоящими информационными технологиями.
Знание, полученное в прикладных исследованиях (за исключением временно засекреченных сведений о промежуточных результатах), организуется в универсальной для науки форме научных дисциплин (технические, медицинские, сельскохозяйственные... науки) и в этом стандартном виде используется для подготовки специалистов и поиска базовых закономерностей.
Дальнейшее изучение практики привлечения науки к решению важных общественных проблем показало, однако, ограниченность типологии НИОКР. Дело в том, что строгое разделение типов исследований достаточно успешно прослеживалось лишь в традиционных отраслях хозяйства (промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и т. п.), где все усилия научно-технического комплекса были строго ориентированы на получение вполне определенных видов конечного продукта.
В то время как рос спрос на научное сопровождение для новых, далеко не всегда структурированных областей, само типологическое различение потеряло смысл. В этой связи все чаще стали говорить о междисциплинарных (или комплексных, термин еще не устоялся) исследованиях.
Междисциплинарные исследования
Междисциплинарные исследования —тип организации исследовательской деятельности, предусматривающий взаимодействие в изучении одного и того же объекта представителей различных дисциплин.
Необходимость научного обоснования решений в таких областях, как, например, вопросы развития городов, содержание обучения и воспитания, социальное планирование, воспроизводство природных ресурсов и многих других, не подвергается сегодня сомнению. Нужно, однако, отметить, что связь этой общественно важной проблематики с наукой далеко не всегда опирается на структуру исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности, сопоставимую со структурным оформлением связи между наукой и технологией.
Речь, таким образом, идет об укреплении обоснованности решений, принимаемых на основе прошлого опыта и здравого смысла. Этот способ, допускающий методические усовершенствования и усиление информационной поддержки, останется в ближайшем будущем практически единственным средством решения срочных однократных проблем, не поддающихся прогнозированию.
Как правило, попытки практического решения такого рода проблем начинаются с формирования эк-спертно-аналитических групп. В качестве участников этих групп приглашаются и наиболее крупные авторитеты в области различных наук. Однако эти -ученые выступают в данном случае не в качестве исследователей проблемы, а в качестве экспертов, которые должны ознакомиться с ней и дать ей оценку, основываясь на имеющейся (практической) информации и на собственной интуиции.
Альтернативой является исследование связанных с данными проблемами явлений, хотя подобный путь обработки проблем требует крупных расходов и обещает практические результаты лишь через неопределенный промежуток времени.
Внимание к междисциплинарным исследованиям и даже выделение их в специальный тип исследовательской деятельности относится ко второй половине XX века, хотя обсуждение различных аспектов междисциплинарного взаимодействия традиционно привлекало исследователей науки, историков и философов науки. При этом рассматривались, прежде всего, два типа междисциплинарного взаимодействия; 1) взаимодействие между системами дисциплинарного знания в процессе функционирования наук, их интеграции и дифференциации; 2) взаимодействие исследователей в совместном изучении различных аспектов одного и того же объекта. В дальнейшем проблематика, связанная с первым типам междисциплинарности, практически полностью стала изучаться в рамках исследований по классификации науки и ее развития.
Таким образом, в настоящее время междисциплинарные исследования рассматриваются прежде всего как проблема исследовательской практики и перевода ее результатов в систему знания. При этом главная задача состоит в том, чтобы преодолеть в процессе исследований отмеченное в свое время И. Кантом противоречие между организацией реальности, закономерности организации которой нам не всегда известны, и наукой, знание которой организовано по научным дисциплинам с характерными для каждой из них базовыми допущениями, гипотезами и расширительными интерпретациями сведений о реальности и ее организации. Эта задача, пусть и не всегда в явной форме, стоит перед участниками междисциплинарных исследований любого масштаба.
Практический характер задачи определяет и постановку проблематики как в общем виде, так и в каждом конкретном случае. Успешное осуществление междисциплинарных исследований предполагает одновременное решение трех видов проблем: методологической (формирование предмета исследований, в котором объект был бы отражен таким образом, чтобы его можно было изучать средствами всех участвующих дисциплин, а полученные в ходе исследований результаты могли уточнять и совершенствовать исходное изображение); организационной (создание сети коммуникаций и взаимодействия исследователей, с тем чтобы они могли профессионально участвовать в получении и обсуждении, а также привлекать к нему своих коллег из соответствующих дисциплин); информационной (обеспечение передачи прикладных результатов междисциплинарного исследования в практику принятия решений и их технологического воплощения и одновременно передачу собственно научных результатов, полученных участниками, для экспертизы в системы дисциплинарного знания).
Практика реализации крупных междисциплинарных проектов, где вся эта проблематика вынужденно формулируется в явной форме, позволила накопить уже довольно большой опыт.
Ключевую роль играет методологическое обеспечение междисциплинарных исследований, которое предполагает создание предметной конструкции, функционально аналогичной предметной конструкции дисциплины. В эту конструкцию входят следующие главные компоненты:
— систематически организованное отображение эмпирических данных об объекте, организованное обычно в виде его классификации и одно-или многомерных изображений в виде карт и баз данных;
— исследовательские средства (методы наблюдения и эксперимента, математические и физические модели и т. д.);
— набор теорий разной степени общности, разработанных в различных дисциплинах;
— языковые средства, с помощью которых строятся и модифицируются теоретические описания;
— содержательные предпосылки (как правило, полностью не эксплицируемые), в духе которых происходит интерпретация новых данных, а также выбор направления их поиска.
Поскольку предмет исследования невозможно «сложить» из его дисциплинарных изображений, акцент делается на развитии описаний совокупностей и массивов эмпирических данных, их структуризации и превращению баз данных в базы знаний.
Свои особенности в организации междисциплинарных исследований приобретает и формирование системы коммуникаций. Сети дисциплинарной коммуникации дополняются средствами, позволяющими оперативное обращение к внешним экспертам или проведение экспертной оценки частного вопроса, относительно которого пока нет научного решения. Эффективной инновацией является и целенаправленное создание коммуникационных объединений, действующих в режиме «невидимого колледжа», обеспечивающих оперативное обсуждение полученных промежуточных результатов и гипотез.
В условиях все большей глобализации науки особое значение приобретает комплекс проблем, связанных с передачей результатов крупных междисциплинарных исследовательских проектов.
С одной стороны, речь идет о передаче собственно научных результатов для экспертизы и включения в системы знания соответствующих дисциплин.
С другой стороны, необходимо организовать каналы и правовое обеспечение прикладных результатов (их патентную защиту, в некоторых случаях рекламу и т. п.), а также практических рекомендаций для принятия политических и управленческих решений.
Иными словами, центр интересов социологов «естественным» путем (в связи со спецификой актуальной проблематики) все больше начинает смещаться от исследования поведения ученых к изучению социальных проблем научного знания. Эти исследования, однако, проходят уже на новом уровне и с новыми постановками задач.

Глава 4
КОГНИТИВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ -ПОИСКИ ИДЕНТИЧНОСТИ
объявляется вообще лишь одним из возможных вариантов конструирования знания на основе вполне определенной системы культурных представлений. Неслучайно многочисленные течения социологии знания, исповедующие идеи «конструируемое™» реальности, часто объединяются под общим названием «конструктивизма».
Наиболее жесткая оппозиция классической социологии науки и знания — этнометодологическое1 направление в социологии — радикальным образом проводит идею социальной конструируемости всех социокультурных феноменов и их рефлексивности. В рамках этого направления реальность, с которой имеет дело наука, трактуется как мир значений, обладающий лишь видимостью объективной фактичности, лишь кажущийся существующим сам по себе, независимо от исследователя.
Можно сказать, что идея конструируемой реальности становится альфой и омегой всех социальных наук, строящихся на базе критики натурализма и объективизма, в том числе и социологии науки второй половины XX в. Реальность оказывается здесь не равноправным участником диалога, осуществляемого с нею ученым и в эксперименте, и в теоретических принципах, а лишь выразителем тех смыслов, которые ей приписываются и проецируются на нее в ходе межлично-
: В основе этнометодологии лежит стремление понять процесс коммуникации как процесс обмена значениями, то есть сделать универсальным методом исследования процедуры антропологического изучения иных культур.
Этнометодология полагает, что разрыв между субъектом и объектом характерен для позитивистской модели исследования, а действительное исследование необходимо строить на взаимосопряженности исследователя и исследуемого.
Это направление социологии обращает внимание на то, что коммуникация между людьми содержит более существенную информацию, чем та, которая выражена вербально, что существует неявное, фоновое знание, некие подразумеваемые смыслы, которые молчаливо принимаются участниками взаимодействия и которые объединяют их. Поэтому этнометодолог не может занимать позицию отстраненного наблюдателя и всегда должен быть включен в контекст повседневного общения и разговора.
стного взаимодействия. Все и вся в реальности имеет своим источником активность людей, их целеполагание, их желания, ожидания, стремления, мотивы.
Такая жесткая методологическая позиция конструктивизма опирается на результаты этнографических (этнологических) исследований различных культур. В результате этих исследований выяснилось, в частности, что целостность культуры может опираться на вполне различные базовые представления о доказательности и даже о рациональности.
Социальная реальность, утверждают сторонники конструктивизма в социологии знания, не обладает объективными характеристиками, она приобретает их лишь в ходе речевой коммуникации собеседников, выражающих их в объективных категориях, в терминах общих свойств, которые и приписываются затем социальной реальности самой по себе.
Знания — это также элемент культуры, определяемый обществом, в котором оно произросло, и они применяются также в соответствии с интересами, существующими в этом обществе. Все знания добываются людьми на основе существующих культурных ресурсов. Старые знания — это часть того сырья, которое применяется для добычи нового. Поэтому, невзирая на то, какие интересы управляют генерацией знаний, в процесс всегда замешаны социально поддерживаемое согласие и модификация существующего понятийного содержания.
Это означает, что понимание того, что такое знание и наука, социально определено, и потому вовсе не обязательно построено на рациональном основании.
Это означает также, что наука может быть применена какой-либо социальной группой как, например, обоснование доминирования или контроля за другими социальными группами, и что содержание знаний оценивается по социально институционализованным меркам, что также свидетельствует о контроле.
Конкретные примеры социально контролируемой науки приводятся в сборнике исследований, посвященных отдельным таким случаям, под названием «Естественный порядок», где, в частности, френология (анализ формы черепа) начала XIX века и ее притязания на знание (и споры вокруг этого) ставятся в связь с тем познавательным интересом, который нарождающаяся буржуазия проявляла к соединению духовных качеств с социальной средой и к поиску научных оснований для иерархии, отличавшейся бы от прежней, но все же отражавшей бы мир так, как его видел новый средний класс. Другой пример —- это объяснение развития статистики и содержания знаний интересами, выразившимися, в частности, в использовании их как оснований для аргументации в пользу или против евгеники (расовой чистоты).
Важной новацией в развитии социологии знания является ориентация конструктивизма на широкие эмпирические исследования. В этой связи социологи этнографической школы противопоставляют два уровня социологии знания: макросоциологический и микросоциологический. Заслугой этнографического направления в социологии науки считается переход от спекулятивных макросоциологических схем к микроанализу социальных групп внутри науки.
Сознательное ограничение западноевропейской социологии науки полевыми наблюдениями «лабораторной жизни», активности ученых и их коммуникаций в определенном месте и времени свидетельствует о растущей неудовлетворенности теми глобальными схемами, которые предлагает структурно-функциональный анализ. Конечно, это ограничение затрудняет изучение социальных и культурных систем в целом, замыкаясь на частных и весьма специфических научных сообществах, и соответственно, абсолютизируя описательные, а не объяснительные модели и методы исследования.
В противовес объективно научным методам позитивистской социологии в качестве ведущего метода социологии знания теперь выдвигается интерпретация действий ученого в ситуациях межличностного общения (в лаборатории, на семинарах и т. п.).
Сторонники микросоциологии видят ее преимущество в том, что она изучает непосредственное взаимодействие людей в «естественной», привычной для них среде и формы репрезентации этого взаимодействия, которые конструируются в повседневной жизни.
Понятие «повседневной жизни» оказывается здесь одним из фундаментальных: микросоциология основана на убеждении, что «надежная или безусловная научная достоверность социально значимых феноменов возникает лишь благодаря систематическому наблюдению и анализу повседневной жизни». Общая же задача социологии состоит в том, чтобы построить макросоциологическую теорию, анализ социальных систем и социального порядка, исходя из онтологического и методологического примата микросоциологии.
Этнографические исследования науки сосредоточивают внимание на изучении генезиса и трансформации объектов познания по мере развития деятельности ученых, на выявлении соответствующих процедур и способов обоснования рациональности, конституирующих и объекты, и структуру знания.
При таком подходе акцент делается на объяснении механизмов преодоления разногласий и формирования консенсуса в исследовательской группе. Социальная обусловленность научного знания при этом подходе выступает в специфической форме — форме достижения консенсуса, который рассматривается как механизм признания утверждений в качестве истинных (вспомним об «удостоверенном научном знании» в концепции Р. Мертона). Именно благодаря консенсусу вырабатывается базис достоверных и очевидных утверждений, которым затем приписывается объективно истинное значение. Этнографическое изучение науки является реализацией концепции науки, подчеркивающей роль процедур конструирования и для объектов знания, его формы, содержания, и для его операций, а потому и предполагающей микросоциологический качественный анализ локальных групп и межличностного общения.
Важнейшая посылка такой интерпретации научного знания — понимание научной реальности как артефакта, как конструкта, формирующегося в ходе исследовательской работы. Изучение конкретных форм коммуникации ученых позволяет, по мнению сторонников этнографического направления, понять, как объекты «производятся в лаборатории» и как утверждения ученых получают статус «природных фактов».
Деятельность ученого трактуется здесь, с одной стороны, как «фабрикация вещей», а с другой — как «инструментальная фабрикация знания». Таким образом, природа науки оказывается инструментальной и в связи с артефактическим характером научной реальности, и в связи с инструментальной природой научных операций. Результаты научного труда не только создают базу»для технологических и организационных решений, но и сами отягощены зависимостью от этих решений.
Совершенно иным путем идет та социология науки, которая пытается выработать системно-теоретическое направление, уточняющее и конструктивно применяющее связи с общей теорией социологии. Наука здесь понимается как крайне специфически функционирующая подсистема, которая конструирует свою деятельность и свою действительность непроизвольно.
Корни этого —• в социальном окружении, с которым она гибко соотносится и взаимодействует, и в то же время наука сама себя организует и набирает при этом собственную динамику, которую нельзя свести к отдельным факторам окружающей среды, «функциям» или «помехам». Конечно, это конструктивистский взгляд на науку, но он в решающих моментах отличается от экстремального конструктивизма, которому отдают предпочтение многие теоретики этнометодо-логической направленности.
Представляется, что это одна из самых многообещающих попыток продолжить исследования в русле социологии науки и непосредственно приблизиться к решению проблем более общего социологического характера.
* * *
В целом же, характеризуя развитие социологии науки и научного знания, можно сказать следующее:
— исследования в этих областях на всем протяжении XX столетия были инициированы как внутренними процессами развития собственной теоретической и методологической базы, так и изменениями положения науки в жизни общества;
— эта работа привела к формированию целого ряда полноценных областей социологии, базирующихся на представлениях о социологических характеристиках научного знания и о типе взаимоотношений внутри научного сообщества;
— структурные характеристики научного сообщества, данные о его динамике и профессиональных особенностях стали серьезным вкладом в развитие других социологических областей: социологии профессий, социологии гражданских институтов и т. п.;
— концепции и данные социологии науки и социологии знания служат постоянно пополняющейся теоретической основой для развития значительного числа новых исследовательских направлений, изучающих организационные особенности современной науки и ее участие в процессах, преобразующих современное общество, к примеру, глобализации;
— появление все новых подходов в социологии науки и знания свидетельствует о том, что речь идет о живых, развивающихся областях исследований, системное формирование которых еще далеко не завершено.
Я Словарь ключевых терминов__________________
Индекс цитирования (Science Citation Index, -— SCI) — система Филадельфийского института научной информации, в основу которой положены связи между документами по прямым, обратным и перекрестным ссылкам (цитированию). Традиция систематических ссылок на работы предшественников сформировалась в европейской науке в середине XIX века как показатель структурной интеграции научного знания и профессионализации научной деятельности. SCI как непрерывно пополняемая система информационных баз данных по всем областям современной науки была создана под руководством Ю. Гарфилда в начале 1960 гг. и реализована параллельно на электронных и «бумажных» носителях.
Информационную основу индекса цитирования составляют три массива, объединяющие базы данных различных групп дисциплин и учитывающие специфику организации знания в каждой из них: индекс цитирования естественных наук (собственно Science Citation Index — SCI), индекс цитирования социальных наук (Social Science Citation Index — SSCI) и индекс цитирования в гуманитарных науках, литературе и искусстве (Arts and Humanities Citation Index — A&HCI). Наряду с этими главными массивами в индекс цитирования входит еще значительное число специализированных указателей, объединяющих материалы конференций и симпозиумов, обзорных изданий и т. п. В настоящее время индекс цитирования признан одной из самых эффективных мировых систем научной информации. Структура индекса цитирования позволяет ему выполнять довольно широкий спектр функций, главными из которых являются следующие:
■ информационный поиск для обслуживания индивидуальных исследователей и научных организаций;
■ использование связей между публикациями для выявления структуры областей знания, наблюдения и прогнозирования их развития (картирование науки и выявление исследовательских фронтов);
■ оценка качества публикаций и их авторов научным сообществом.
Содержание индекса цитирования, в свою очередь, является объектом интенсивных исследований специалистов по социологии науки, наукометрии и науковедению. Периодические дискуссии возникают по поводу адекватности оценок отдельных публикаций и их авторов с помощью методов, основанных на данных о цитировании. Междисциплинарные исследования — организация исследовательской деятельности, предусматривающая взаимодействие в изучении одного и того же объекта представителей различных дисциплин.
Внимание к междисциплинарным исследованиям и даже выделение их в специальный тип исследовательской деятельности относится ко второй половине XX века, хотя обсуждение различных аспектов междисциплинарного взаимодействия традиционно привлекало исследователей науки, историков и философов науки. В настоящее время междисциплинарные исследования рассматриваются прежде всего как проблема исследовательской практики и перевода ее результатов в систему знания. Практический характер задачи определяет и постановку проблематики как в общем виде, так и в каждом конкретном случае.
Успешное осуществление междисциплинарных исследований предполагает одновременное решение трех видов проблем: методологической (формирование предмета исследований, в котором объект был бы отражен таким образом, чтобы его можно было изучать средствами всех участвующих дисциплин, а полученные в ходе исследований результаты могли уточнять и совершенствовать исходное изображение); организационной (создание сети коммуникаций и взаимодействия исследователей, с тем чтобы они могли профессионально участвовать в получении и обсуждении, а также привлекать к нему своих коллег из соответствующих дисциплин); информационной (обеспечение передачи прикладных результатов междисциплинарного исследования в практику принятия решений и их технологического воплощения и одновременно передачу собственно научных результатов, полученных участниками, для экспертизы в системы дисциплинарного знания).
Практика реализации крупных междисциплинарных проектов, где вся эта проблематика вынужденно формулируется в явной форме, позволила накопить уже довольно большой опыт.
Ключевую роль играет методологическое обеспечение междисциплинарных исследований, которое предполагает создание предметной конструкции, функционально аналогичной предметной конструкции дисциплины. Поскольку предмет исследования невозможно «сложить» из его дисциплинарных изображений, акцент делается на развитии описаний совокупностей и массивов эмпирических данных, их структуризации и превращения баз данных в базы знаний.
В условиях все большей глобализации науки особое значение приобретает комплекс проблем, связанных с передачей результатов крупных междисциплинарных исследовательских проектов. Научная дисциплина (от лат. discipline — учение) — базовая форма организации профессиональной науки, объединяющая на предметно-содержательном основании области научного знания в сообщество, занятое его производством, обработкой и трансляцией, а также механизмы развития и воспроизводства соответствующей отрасли науки как профессии. Представление о научной дисциплине используется как максимальная аналитическая единица исследования науки в работах по социологии науки, науковедению, истории, философии, экономике науки и научно-технического прогресса. Дисциплинарная форма организации науки проявилась в том, что она оказалась инвариантной относительно социально-экономического и культурного окружения и в настоящее время практически не имеет организационных альтернатив. Более того, по дисциплинарному принципу строится организация знания и система подготовки специалистов во всех сферах профессиональной деятельности (к примеру, медицина, инженерное дело, искусство), вынужденных в процессе передачи опыта новым поколениям специалистов оперировать с обработкой и трансляцией больших массивов знания.
Несмотря на то, что конкретные события и процессы, определяющие существование дисциплины, рассредоточены в пространстве, на значительных временных интервалах и протекают в различном социокультурном и организационном окружении, дисциплина обладает механизмами, обеспечивающими ее устойчивость и инвариантность. Столь высокая эффективность дисциплинарной организации напрямую связана с постоянной интенсивной работой по поддержанию и развитию организационной структуры дисциплины во всех ее аспектах (организация знания, отношений в сообществе, подготовка научной смены, взаимоотношение с другими институтами и пр.), причем в эту работу вовлечены практически все участники дисциплинарного сообщества, какой бы конкретной научной или научно-организационной деятельностью они ни занимались в данный момент. Для осуществления этой работы в истории науки сформировались специальные механизмы, которые постоянно совершенствуются и развиваются. Научная коммуникация — совокупность видов профессионального общения в научном сообществе, один из главных механизмов развития науки, способов осуществления взаимодействия исследователей и экспертизы полученных результатов. Массированное изучение научных коммуникаций социологами, психологами, специалистами по информатике и др. в конце 50-х — начале 60-х годов было связано с поиском возможности интенсифицировать исследовательскую деятельность, справиться с так называемым «информационным взрывом», удовлетворить отчетливую потребность в организационной перестройке американской науки в послевоенных условиях.
При этом коммуникационную интерпретацию получили практически все информационные процессы, происходящие в современной науке, начиная с массива дисциплинарных публикаций и важнейших информационных собраний (конференции, симпозиумы, конгрессы...) и функционирования мощных систем научно-технической информации и кончая личными контактами ученых по поводу мелких эпизодов исследовательской деятельности. Изучение коммуникаций в науке имело большое методологическое значение, так как в них удалось свести в единую картину данные, полученные в ходе эпистемологических, социологических, информационных и социально-психологических исследований.
Были выявлены основные коммуникационные структуры, которые позволяют в считанные недели подключить к срочной экспертизе важного исследовательского результата практически всех участников мирового научного сообщества данной дисциплины. Эти, как правило, двухуровневые структуры включают сравнительно небольшую группу признанных лидеров, находящихся в постоянном деловом общении, их сотрудников и аспирантов, получающих значительную часть информации через лидеров и обеспечивающих ее оперативное обсуждение. Была получена систематическая картина обработки знания сообществом на наименее изученном этапе — между получением результата и его публикацией. Процедуры и события экспертизы знания в предпубликационный период позволили существенно продвинуться в теоретическом и эмпирическом исследовании важнейших процессов творческого взаимодействия ученых. Впечатляющим прикладным результатом реализации этого подхода явилось создание в Филадельфийском институте научной информации системы указателей научных ссылок (Science Citation Index, Social Science Citation Index ит. п.) — одной из самых эффективных информационных систем современной науки. Научное сообщество — совокупность ученых-профессионалов, организация которой отражает специфику научной профессии.
Представление о научном сообществе введено для выделения предмета социологии науки и ее отличия от социологии знания. Научное сообщество ответственно за целостность науки как профессии и ее эффективное функционирование несмотря на то, что профессионалы рассредоточены в пространстве и работают в различном общественном, культурном и организационном окружении. Деятельность институтов и механизмов научного сообщества по реализации основной цели науки — увеличения массива достоверного знания — обеспечивает следующие главные характеристики профессии: Обладание совокупностью специальных знаний, за хранение, трансляцию и постоянное расширение которых ответственно научное сообщество.
Относительная автономность профессии в привлечении новых членов, их подготовке и контроле их профессионального поведения.
Заинтересованность социального окружения профессии в продукте деятельности ее членов (новом знании и владеющих им специалистах), гарантирующая как существование профессии, так и действенность профессиональных институтов. Наличие внутри профессии форм вознаграждения, выступающих достаточным стимулом для специалистов и обеспечивающих их высокую мотивацию относительно профессиональной карьеры в различных социально-культурных окружениях.
Поддержание инфраструктуры, гарантирующей координацию и оперативное взаимодействие профессионалов и их объединений в режиме, обеспечивающем высокий темп развития системы научного знания. «Невидимый колледж» — не институционализированная группа исследователей, согласованно работающая над общей проблематикой. Термин, введенный в науковедение Д. Берналом, был развернут Д. Прайсом в гипотезу о «невидимых колледжах» как коммуникационных объединениях, имеющих определенную, достаточно устойчивую структуру, функции и объем.
Гипотеза о «невидимом колледже» была в 60-е — 70-е гг. подвергнута тщательному эмпирическому исследованию с неожиданно серьезными результатами. В ходе исследований не только подтвердилось наличие групп с совершенно определенными и достаточно устойчивыми параметрами, но и выяснились структурные, динамические закономерности развития таких групп как общей формы становления новых исследовательских направлений и специальностей.
При этом отчетливо выделяются четыре фазы, через которые проходит научная специальность в своем становлении. Нормальная фаза. Это период относительно разрозненной ' работы будущих участников и их небольших групп (часто группы аспирантов во главе с руководителем) над близкой по содержанию проблематикой. Общение идет, в основном, через формальные каналы, причем его участники еще не считают себя связанными друг с другом внутри какого-нибудь объединения.
фаза формирования и развития сети характеризуется интеллектуальными и организационными сдвигами, приводящими к объединению исследователей в единой системе коммуникаций. Участники формируют сеть устойчивых коммуникаций.
Фаза интенсивного развития программы нового направления за счет действий сплоченной группы, которую образуют наиболее активные участники сети коммуникаций. Эта группа формулирует и отбирает для остронаправленной разработки небольшое число наиболее важных проблем (в идеальном случае одну проблему), в то время как остальные участники сети получают оперативную информацию о каждом достижении новой группировки, ориентируются на нее в планировании своих исследований и обеспечивают тем самым разработку проблематики по всему фронту.
Фаза институционализации новой специальности. Научные результаты, полученные сплоченной группой, обеспечивают новому подходу признание сообщества, возникают новые направления исследований, базирующиеся на программе сплоченной группы. При этом, однако, сплоченная группа распадается, ее бывшие члены возглавляют самостоятельные группировки, каждая из которых разрабатывает по собственной программе группу специальных проблем.
В каждой фазе развития «невидимого колледжа» самосознание участников формирующейся специальности претерпевает изменения следующим образом: романтический период (по времени совпадающий с нормальной фазой развития специальности); догматический (по времени совпадающий с фазой коммуникационной сети и сплоченной группы); академический (фазаспециальности). В настоящее время специальному исследованию подвергается уже не гипотеза о «невидимом колледже», а конкретные данные о становлении научных специальностей и коммуникационных структур. Социология науки — область социологических исследований, изучающих науку как социальный институт. Предметом изучения социологии науки выступают как внутренние отношения, обеспечивающие функционирование и развитие науки, так и взаимоотношения науки с другими институтами современного общества. Социология науки исследует существующие между учеными взаимоотношения, вопросы о том, каким образом люди становятся учеными, что заставляет их поддерживать нормы поведения, принятые в научном сообществе. Как и любая социологическая дисциплина, социология науки является ветвью социологии, должна вносить свой вклад в развитие социологического знания в целом, имеет свою понятийную базу и свои методы исследования. Фундаментальные и прикладные исследования — типы исследований, различающиеся по своим социально-культурным ориентациям, по форме организации и трансляции знания, а соответственно, по характерным для каждого типа формам взаимодействия исследователей и их объединений. Все различия, однако, относятся к окружению, в котором работает исследователь, в то время как собственно исследовательский процесс — получение нового знания как основа научной профессии — в обоих типах исследований протекает абсолютно одинаково. Социальные функции фундаментальных и прикладных исследований в современном науковедении определяются следующим образом.
Фундаментальные исследования направлены на усиление интеллектуального потенциала общества (страны, региона...) путем получения нового знания и его использования в общем образовании и подготовке специалистов практически всех современных профессий. Ни одна форма организации человеческого опыта не может заменить в этой функции науку, выступающую как существенная составляющая культуры.
Прикладные исследования направлены на интеллектуальное обеспечение инновационного процесса как основы социально-экономического развития современной цивилизации. Знания, получаемые в прикладных исследованиях, ориентированы на непосредственное использование в других областях деятельности (технологии, экономике, социальном управлении и т. д.).
| Вопросы для обсуждения _____________
1. В чем исходное противоречие классической социологии знания?
2. Как различает К. Маннгейм «частичную» и «тотальную» идеологию?
3. В чем особенности экстенсивного пути развития науки и почему он оказался непригодным для науки «мирного времени»?
4. Каковы требования к социологии науки как самостоятельной области социологического исследования?
5. Как выглядел концептуальный каркас мертоновс-кой социологии науки как системы?
6. Представление о цели науки и индивидуальном вкладе каждого участника в мертоновской социологии науки.
7. Как трактуются «императивы научного этоса»?
8. Что понимается в социологии науки под «амбивалентностью ученого»?
9. Основные характеристики научной профессии.
10. Как структурирована совокупность специальных знаний — «культура науки» — в массиве научных публикаций?
11. В чем смысл автономности науки в воспроизводстве научных кадров?
12. В чем смысл регулярной миграции ученых?
13. Каковы основные линии вознаграждения ученого научным сообществом и каково их влияние на мотивацию ученых?
14. Каковы основные типы коммуникации в «невидимом колледже» и основные фазы его развития?
15. Каковы главные изменения в подходе к научной политике на рубеже третьего тысячелетия?
16. Какова стратегия научного сообщества в отношениях с общественными движениями?
17. В чем экономический смысл развития малого и среднего научного бизнеса?
18. На чем основываются представления о конструи-руемости реальности в современной социологии знания?
В Литература
Авдулов А.Н., КулькинА.М. Власть, наука, общество. Система государственной поддержки научно-технической деятельности: опыт США. М., 1994.
Коммуникация в современной науке / Сб. перев. с англ. под ред. Э.М. Мирского и В.Н. Садовского. М.: Прогресс, 1976.
Лебедев СЛ. Современная философия науки. М., 2007.
Наука России на пороге XXI века: проблемы организации и управления/ Под общ. ред. С.А. Лебедева. М.: Университет,-гуманит. лицей, 2000.
Научная деятельность: структура и институты / Сб. пе-рев. с англ. и нем. под ред. Э.М. Мирского и Б.Г. Юдина. М.: Прогресс, 1980.
Пелъц Д., Эндрюс Ф. Ученые в организациях / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1973.
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Междунар. ежегодник. СПб., 1969 — 2002. Вып. 1 — 13.
Современная западная социология науки. Критический анализ / Отв. ред. В.Ж. Келле, Е.З. Мирская, А.А. Игнатьев. М.: Наука, 1988.
Социальная динамика современной науки / Отв. ред. В.Ж. Келле. М„ 1995.
Социология науки: Хрестоматия / Сост. Э.М. Мирский; Под ред. С.А. Лебедева www.courier.com.ru/top/cras.htm.
Философия науки: наука как деятельность / Под ред. С.А. Лебедевым.,2007.
Яблонски й AM. Модели и методы исследования науки. М.: ЭдиториалУРСС, 2001.
РАЗДЕЛ IV. ЭТИКА НАУКИ
В настоящем разделе речь пойдет об этике науки — о том, может ли наука быть объектом моральной оценки и если да, то какие именно ее стороны подлежат такой оценке. Острые споры по этому поводу происходили на протяжении всей истории развития науки. Особенностью же нашего времени является то, что наряду с этими спорами ускоренными темпами идет создание и совершенствование специальных структур и механизмов, задачей которых является этическое регулирование научной деятельности. И такому регулированию подвергаются не только те или иные приложения результатов научного познания, но и сами исследования, т. е. деятельность, направленная на получение новых знаний.
Необходимость такого регулирования обусловлена в первую очередь тем, что наука и порождаемые ею новые технологии оказывают все более глубокое и многообразное воздействие на жизнь человека и общества. Тем самым могущество и возможности человека неизмеримо расширяются. Вместе с тем сегодня уже для всех стало очевидным, что прогресс науки и техники дает людям отнюдь не одни только блага, что многие порождения научного гения несут с собой угрозы для существования и человечества, и всей жизни на Земле.
Истоки дискуссий вокруг моральной роли науки восходят еще ко временам Сократа, который две с половиной тысячи лет назад учил, что человек поступает дурно лишь по неведению и что познав, в чем состоит добро, он всегда будет стремиться к нему. Тем самым знание признавалось в качестве условия, и притом условия необходимого, для благой жизни. А вследствие этого и поиск знания заслуживал самой высокой оценки. Конечно, при этом не имелось в виду научное знание в нашем сегодняшнем понимании. Но поскольку и научное знание есть не что иное, как один из видов знания, эти рассуждения Сократа могут быть отнесены и к нему.
Далеко не все, однако, согласны с тем, что моральные суждения и оценки следует распространять на сферу науки. Считается, скажем, что процесс научного познания протекает либо в мышлении ученого — как взаимодействие между различными идеями и представлениями, либо посредством активности ученого, направленной вовне — когда он организует и наблюдает взаимодействие между объектами, явлениями и процессами природы. (В первом случае имеется в виду теоретическое исследование, во втором — эмпирическое.) Согласно этой точке зрения, коль скоро моральные суждения и оценки уместны лишь тогда, когда дело касается взаимоотношений между людьми, то в обоих этих случаях для них попросту нет оснований.
Действительно, если ученый исследует поведение математической функции, наблюдает перемещения небесных тел, пытается синтезировать новое полимерное соединение, то, казалось бы, какое отношение все это имеет к морали и этике? Утверждается, далее, что ученым во всех этих деяниях движет поиск истины, которая не зависит (во всяком случае, не должна зависеть) от суждений и оценок людей. Поэтому привнесение таких оценок — что, собственно, и характерно для этики, — может даже затруднить путь к истине. Ведь такие оценки не основываются на фактах, они всегда бывают субъективными, так что науке следует скорее остерегаться этики, чем ею руководствоваться.
Очевидно, этим рассуждениям нельзя отказать в логике. И тем не менее наука сегодня действительно является объектом этического регулирования. Но как же в таком случае следует понимать взаимоотношения между этикой и наукой? Для ответа на этот вопрос нам понадобится прежде всего разобраться с тем, что такое этика; после этого у нас появится возможность более обоснованно судить о том, какие именно стороны науки могут стать объектом моральной оценки и этического регулирования.
Глава 1
ЗТИКА КАК НАУКА D МОРАЛИ
Этика — это философская дисциплина, изучающая явления морали и нравственности. Существует, стало быть, мир явлений морали и нравственности и существует теория, его описывающая и изучающая. Это аналогично тому, как мы различаем явления жизни, с одной стороны, и биологию как науку о них, с другой, или явления психики, душевной жизни и науку психологию.
Следует, правда, отметить, что в обыденной речи термин «этика» часто употребляется в другом смысле. Часто он понимается как синоним термина «мораль». К примеру, мы говорим об «этичном поступке», имея в виду поступок морально оправданный, достойный.
Особой, и весьма непростой, проблемой является соотношение понятий «мораль» и «нравственность». Часто они используются как синонимы, однако между ними можно выявить и существенные различия. Так, существует традиция, в русле которой мораль понимается как совокупность (а точнее — система, то есть упорядоченная совокупность с определенными связями между элементами) норм — запретов, идеалов, требований, предписаний, — принятая и разделяемая в данном обществе. Эти нормы закреплены в его культуре и в достаточно стабильном виде передаются от поколения к поколению.
Нравственность же при таком понимании характеризует реальное поведение людей с точки зрения его соответствия этим нормам, так что безнравственным 311 будет назван тот человек или тот поступок, который отклоняется именно отданных, принятых в этом обществе норм, хотя он и может подчиняться некоторым другим нормам. Между прочим, как раз такая коллизия была скрыта за известным эпизодом с осуждением Сократа афинянами: человек, который для всех последующих поколений выступал и выступает как образец нравственности, был осужден за безнравственное — с точки зрения его судей, а значит, с точки зрения морали афинского общества — поведение.
Вообще же система норм морали — это идеал, который в реальности воплощается в большей или меньшей степени, но никогда — полностью. Собственно говоря, когда мы слышим сетования по поводу, скажем, упадка общественной морали, нравственной испорченности людей и т. п., то при этом обычно имеется в виду ощущение недопустимо большого разрыва между моральными идеалами и нормами и реальным поведением людей, т. е. такой ситуации, когда отступления от норм морали, их нарушения становятся массовым явлением.
Мир, изучаемый этикой, построен особым образом: он существует иначе, чем мир, изучаемый физикой, химией, биологией или психологией. Это различие отчетливо проявляется на уровне языка, которым мы пользуемся, говоря о явлениях физики, химии и пр., с одной стороны, и морали — с другой. Такие высказывания, как «вода — эгло химическое соединение кислорода и водорода» или «память есгль способность воспроизводить в сознании события и впечатления, имевшие место в прошлом», относятся к миру сущего. А вот высказывание, характерное для сферы морали: «Врач должен облегчать страдания больного» — в нем речь идет не столько о том, что есть, сколько о том, чему следует быть, о мире должного.
Если другие науки изучают (по крайней мере, стремятся изучать) объективно существующее, отвлекаясь от того, нравится нам оно или нет, считаем мы его плохим или хорошим, то для этики именно вопрос о том, является ли нечто плохим или хорошим, предосудительным или достойным, имеет первостепенное значение. Этика регистрирует, фиксирует, описывает, объясняет не столько сами явления, сколько то или иное отношение к ним, их оценку. Наряду с этикой такими оценочными дисциплинами можно считать гносеологию, которая исследует отношение наших суждений к явлениям действительности с точки зрения истинности или ложности этих суждений, и эстетику, в которой основными категориями оценки являются «прекрасное» и «безобразное». В этике же такие основные категории — это категории «добра» («блага») и «зла».
Необходимо, однако, иметь в виду следующее. Хотя этика и оперирует понятиями и представлениями о мире должного, из этого вовсе не следует, что она не дает нам никаких знаний о мире сущего. Человеческая жизнь отнюдь не ограничивается тем, что происходит в мире сущего — всеми своими действиями и поступками человек так или иначе постоянно изменяет мир вокруг себя. И делает он это, руководствуясь своими представлениями о должном. Таким образом, этика как изучение мира должного позволяет понять динамику взаимодействия человека с миром сущего и, стало быть, изменения этого мира. Соответственно, если говорить об этике науки, то есть все основания считать ее одним из направлений изучения того, как устроена и как развивается наука.
Оценочные отношения, изучаемые в этике, имеют определенную структуру. Вернемся в этой связи к высказыванию «врач должен облегчать страдания больного» и сравним его теперь с высказыванием «врач облегчает страдания больного». В обоих высказываниях фигурируют: а) некто (в данном примере — врач), который б) осуществляет (или не осуществляет) определенные поступки, действия (облегчает), направленные на в) некоторый объект (страдания больного).
Во втором случае высказывание лишь описывает определенное событие — и потому это высказывание называют дескриптивным (т. е. описательным). В первом же случае мы имеем дело с высказыванием, которое не относится к конкретному событию, а фиксирует предписание, или норму, соблюдаемую или не соблюдаемую в реальных ситуациях и являющуюся критерием, мерилом для оценки множества конкретных событий и действий. Такое высказывание называют нормативным (или прескриптивным, т. е. предписывающим).
Впрочем, далеко не все нормы или предписания имеют моральную природу. Свои особенности имеют правовые нормы; далее, помимо норм морали и права в науке, как и во всякой другой сфере человеческой деятельности, имеется и множество таких норм, которые носят специальный, технический характер. Следование этим нормам, как правило, обеспечивает успешное, эффективное решение тех задач, которые возникают в процессе деятельности. Характерно, однако, то, что нередко — и особенно там, где речь идет о действиях, непосредственно затрагивающих другого человека (или других людей), нарушение таких норм оценивается не только с точки зрения успеха или неуспеха этих действий, но и с точки зрения морали. Скажем, тот же врач, если он взялся облегчать страдания больного и нарушил при этом медицинские нормы, может только усилить эти страдания. Так что незнание или неумение выполнять эти нормы вполне правомерно будет подвергнуть моральному осуждению.
Продолжая анализ нашего примера, отметим также следующее. Очевидно, облегчение страдания есть благо для больного, так что в общей форме смысл рассматриваемого нормативного высказывания можно свести к тому, что врач должен нести благо больному (или делать добро для больного). Возникают, однако, такие вопросы; «а что значит должен?» и «что (или кто) обязывает его делать добро?». Здесь будут правомерными разные ответы.
Во-первых, эта обязанность, этот долг зафиксирован в нормах права (например, в законодательстве), так что невыполнение или ненадлежащее выполнение нормы будет караться юридическими, административными или дисциплинарными санкциями.
Во-вторых, долг и обязанность могут быть не правовой, а моральной природы. В этом случае иным будет и источник, из которого исходят санкции, и их характер. Если правовые санкции налагаются лицом или органом, имеющим на то специальные, четко зафиксированные полномочия, то источник моральных санкций обычно не бывает представлен столь определенно. В конечном счете вершить моральный суд и выносить моральную оценку может каждый, хотя оценка одних людей может быть более значимой, чем оценка других. Про первых говорят, что они обладают моральным авторитетом. Можно сказать, что за правовыми санкциями всегда в конце концов стоит власть государства, в то время как за моральными — авторитет общества.
Источником моральных санкций может быть, к примеру, профессиональная научная организация, если она выступает с неодобрением, осуждением какого-либо поступка одного из своих членов. Но таким источником может быть и отдельный ученый, даже если он не занимает административных постов, но при этом коллеги признают его своим неформальным лидером.
Что касается характера санкций, налагаемых за отступление от норм, то иногда говорят, что правовые санкции основываются на силе принуждения, а моральные — на силе осуждения (имеется в виду именно моральное осуждение, а не, скажем, осуждение по приговору суда). И действительно, только государство является тем институтом, который правомочен использовать средства принуждения — как через применяемые им законы, так и через уполномоченных на то лиц. Что касается моральных санкций, то существенным является их публичный характер — тот, против кого они направлены, в большей или меньшей мере теряет доверие своих коллег.
Подчас одно из различий между моралью и правом усматривают в том, что правовые нормы более строги и жестки, тогда как моральные требования можно нарушать относительно безнаказанно. С этим, однако, нельзя согласиться, ибо основное различие между моралью и правом — не в степени мягкости или жесткости санкций, а в принципиально разном механизме их действия.
В самом деле, сила моральных требований бывает чрезвычайно велика, а отклонение от них может осуждаться не только жестко, но и весьма жестоко. Если, например, суровое моральное осуждение исходит от особенно близких и дорогих для человека людей, оно может переживаться крайне болезненно. И напротив, подчас нарушение закона и даже вызванные им санкции могут переживаться легче, когда сам нарушитель оправдывает его для себя какими-либо высшими моральными соображениями. Это, между прочим, говорит и о том, что мораль и право не всегда только дополняют друг друга — порой бывают ситуации, когда их требования друг другу противоречат.
Оставаясь в пределах этика науки, мы, естественно, ограничиваемся рассмотрением моральных санкций. Однако следует иметь в виду, что некоторые из отступлений от норм науки, такие, как плагиат — присвоение себе результатов исследований, проведенных другими (т. е. в определенном смысле — чужой собственности), — могут караться и юридическими санкциями.
В обыденном словоупотреблении под санкциями принято понимать такие решения и действия, которые влекут за собой те или иные ущемления прав, ограничения возможностей, т. е. имеют негативный характер. До сих пор и у нас речь шла именно о таких санкциях. Это, однако, не совсем точно — в более широком смысле санкции могут быть и позитивными, как, например, моральное поощрение в форме, скажем, особого уважения ученого со стороны коллег.
Вообще говоря, в науке главной позитивной санкцией является признание со стороны коллег — как современников, так и особенно ученых последующих поколений. Это признание может выражаться в разных формах — от цитирования в научной статье до увенчания престижной научной премией, например, Нобелевской, — и даже до увековечения имени ученого в названии закона или теории: законы механики Ньютона, периодическая система элементов Менделеева, теория относительности Эйнштейна и т. п.
Напротив, того, кто допускает отклонения от принятых в науке норм (фальсификация результатов эксперимента, приписывание себе чужих достижений,
[лава 1. Этика как наука и морали
плагиат) ожидают негативные санкции вплоть до самых жестких — игнорирования всеми коллегами того, что делает данный ученый. Ведь если в научной литературе нет упоминаний — цитат или ссылок на его работы, то это значит, что для науки его попросту не существует.
Здесь, впрочем, необходимы некоторые уточнения и пояснения. Очень часто бывает так, что полученный ученым результат не цитируется его коллегами не из-за тех нарушений, о которых мы только что говорили, а из-за того, что он представляется им тривиальным, не несущим ничего нового. При более пристальном рассмотрении, однако, обнаруживается, что и в этом случае имеет место нарушение нормы, а именно, нормы, предписывающей ученому создание не просто знания, а нового знания. В соответствии с этой нормой простое воспроизведение того, что уже было сделано другими, не считается научным результатом.
Бывает и иное. Подчас коллеги-современники того или иного ученого бывают не в состоянии по достоинству оценить результат его исследований как раз из-за его чрезвычайной новизны, оригинальности, из-за того, что он резко расходится с устоявшимися в науке воззрениями. Таким образом, этот результат на долгое время оседает в архивах науки.
Один из наиболее известных примеров здесь — творчество биолога Г. Менделя. В 1866 г. он опубликовал свои «Опыты над растительными гибридами», в которых были впервые сформулированы законы наследственности. Однако в научный оборот эти законы вошли лишь спустя три с половиной десятилетия, после того, как их переоткрыли К. Корренс, Э. Чермак и X. де Фриз.
О чем же свидетельствует этот и другие подобные ему примеры? О том, что существующие в науке механизмы нормативного контроля не всегда срабатывают со стопроцентной эффективностью. С одной стороны, коллеги-современники подчас не обладают достаточной компетенцией или воображением для того, чтобы правильно оценить новый революционный результат. С другой стороны, признание, пусть временное, иногда получают не имеющие должного обоснования и не заслуживающие того идеи. Но таков, увы, удел всех нормативных систем, которыми пользуются люди, включая и системы моральных норм.
Механизм действия моральных норм, впрочем, не исчерпывается санкциями, налагаемыми извне. Этот внешний контроль является, по сути дела, продолжением того контроля, который исходит изнутри личности. Психологи и социологи в этом случае говорят о том, что моральные нормы бывают интернализованы (т. е. как бы вмонтированы, впаяны внутрь) личностью, становясь ее убеждениями и ценностями, в том числе самыми глубокими, во многом определяющими ее характер. Действовать вразрез с ними для человека бывает чрезвычайно сложно, а зачастую и вовсе невозможно. Этот внутренний контроль, самооценку собственного намерения или поступка с точки зрения его соответствия нормам морали принято называть совестью.
Таким образом, нормы морали представляют собой как бы среду, в которой происходит общение и взаимодействие между людьми. Благодаря им это общение и взаимодействие оказывается упорядоченным, организованным. Наличие разделяемых людьми норм, подобно наличию общего языка, обеспечивает, вообще говоря, взаимопонимание, позволяет заранее знать, чего ожидать от другого, т. е. от партнера по общению или взаимодействию, в той или иной ситуации. Без них нам было бы чрезвычайно сложно иметь дело с себе подобными. Следует, однако, иметь в виду, что далеко не все наши действия и поступки подлежат моральной или правовой оценке, но лишь те, которые так или иначе затрагивают интересы другого (или других).
щ Моральный выбор и моральная ответственность
Еще одно принципиальное ограничение области того, что подлежит моральной оценке, связано со следующим обстоятельством: этику интересуют только такие ситуации, когда у человека есть реальный и свободный выбор — действовать ему тем, иным или третьим образом либо вообще не действовать. (В таких случаях иногда говорят и о произвольных действиях или поступках.) Поэтому поступок, совершенный человеком по принуждению, когда меня, скажем, вопреки моей воле заставляют делать что-то, чего сам я сделать не захотел бы, — такой поступок не может считаться добрым или злым, моральным или аморальным — у него просто нет этического измерения. Ответственность за поступок будет тогда ложиться на того, кто принудил меня к нему.
Выбор, очевидно, предполагает наличие альтернатив, каждая из которых имеет собственный моральный смысл. (В том случае, когда приходится выбирать из двух альтернатив, говорят еще о дилемме выбора.) Если, например, я выбираю, измерять ли мне некоторое расстояние в сантиметрах или в дюймах, то здесь не возникает вопроса о моральной оценке альтернатив — задача является чисто технической. Нередко, впрочем, как мы уже отмечали, и за технической стороной дела кроется ситуация морального выбора. Допустим, некто сообщает результаты проведенных им измерений аудитории, в которой есть как люди, привыкшие к метрической системе мер, так и те, для кого привычна дюймовая система. В этой ситуации его выбор одной из систем может быть воспринят другой стороной как пренебрежение ее интересами.
Выбор будет реальным, если каждая из альтернатив находится в пределах моих возможностей. Я не могу выбрать, скажем, прыгать мне в высоту на 2,5 метра или нет. Далее, мой выбор будет свободным тогда, когда нет внешнего воздействия, заставляющего меня принять одну из альтернатив. Или если, например, я введен кем-то в заблуждение относительно последствий моего поступка, то выбор также нельзя считать свободным, даже если нет прямого принуждения. В этом случае принято говорить, что мной (или, точнее, моим выбором) манипулируют.
Наконец, выбор не будет действительно свободным и тогда, когда я не располагаю достаточной информацией об имеющихся альтернативах, даже если я знаю о самом их наличии.
Реальный, свободный, осознанный и информированный выбор, который делает человек, принимая одну из альтернатив, неразрывно связан с его ответственностью за совершаемый поступок. Именно те ситуации, когда у человека есть выбор и, следовательно, когда он принимает на себя ответственность за собственные действия (причем, напомним, так или иначе затрагивающие других людей) и их последствия, и являются объектом первостепенной важности для этики. Иногда эту мысль выражают иначе, говоря, что этику интересует автономный человек и автономный поступок.
Еще одно ограничение круга тех ситуаций, которыми занимается этика как наука, связано с тем, что во многих случаях выбор, даже если он и имеется, с моральной точки зрения бывает очевидным. К примеру, если одна из имеющихся альтернатив предполагает однозначно неприемлемый, предосудительный поступок, скажем, нарушение долга или вообще преступление, то здесь все обстоит тривиально, так что проблема, которая была бы интересна для этического обсуждения, попросту отсутствует. Очень часто, однако, жизнь ставит нас в такие положения, когда каждая альтернатива наряду с благом несет и определенные негативные элементы, так что любой выбор может быть подвергнут моральному осуждению.
Рассмотрим такой пример. Выдающийся отечественный генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский в 1925 г. был командирован для исследовательской работы в Германию, где условия для экспериментальных исследований были неизмеримо лучше, чем в Советской России. Впоследствии, в середине 30-х годов, советские власти потребовали от него вернуться назад. Он, однако, знал о том, что в Советском Союзе в это время происходили массовые репрессии, и у него было немало оснований полагать, что и он в случае возвращения немедленно окажется за решеткой. И хотя в Германии в это время усиливалось господство национал-социалистического режима, тем не менее там он мог продолжать заниматься своими научными исследованиями.
Тимофеев-Ресовский проработал в Германии до 1945 г., и за это время он внес огромный вклад в раз-
Глава 1. Этика как наука о морали
витие генетики. Он вернулся в СССР, будучи всемирно известным ученым, но в 1946 г. был осужден за измену Родине и провел несколько лет в тюрьмах и лагерях; долгое время он не только не мог заниматься исследованиями, но даже выжить ему удалось лишь благодаря чисто случайному счастливому стечению обстоятельств. Как видим, при получении распоряжения вернуться в СССР ему пришлось совершать акт морального выбора; при этом каждая из альтернатив была сопряжена с тяжелейшими моральными издержками. И хотя в 1992 г. он был посмертно реабилитирован, до сих пор этот его поступок у разных людей получает полярно противоположные оценки.
В наши дни в чем-то сходный, хотя и далеко не столь драматический, выбор делают многие российские ученые, альтернативой для которых является либо работа в России, либо — в какой-либо из западных стран. По поводу каждой из альтернатив нетрудно предложить множество обосновывающих ее аргументов, как, впрочем, и достаточно весомых контраргументов.
Вообще говоря, в подобных неоднозначных с моральной точки зрения ситуациях можно рассуждать по-разному. Одна из мыслимых позиций — считать, что коль скоро безупречной линии поведения нет, то будет допустимым любой выбор, пусть даже он делается на основании жребия. Такой способ рассуждения, однако, по сути дела представляет собой уход от острой моральной проблемы и, между прочим, он отнюдь не снимает возможности морального осуждения и моральных санкций за реально сделанный выбор.
Другая возможная позиция — попытаться найти дополнительные аргументы, обосновывающие тот или иной выбор. Поиск таких аргументов и контраргументов, укрепляющих одну из альтернатив и ослабляющих другую, и переводит нас непосредственно в область этики.
Таким образом, интересы этики обнаруживаются там, где не только есть ситуация морального выбора, но и возникает проблема рационального обоснования этого выбора. Отметим при этом, что, вопреки распространенному и, тем не менее, ошибочному мнению, этика, этический анализ доводов и контрдоводов в пользу той или иной позиции вовсе не имеет целью освободить от ответственности того, кто принимает решение и делает выбор. Смысл такого анализа совершенно другой — он позволяет делать выбор более свободно и осознанно, но именно поэтому и более ответственно.
Из сказанного вытекает и еще один вывод. Не следует, как это порой делают, смешивать этику, этический анализ с совершенно другим способом рассуждения, который принято называть морализаторством. Суть его — в стремлении не столько разобраться в ситуации, взвесить все «за» и «против», что свойственно этическому анализу, сколько сразу — и нередко в безапелляционной манере — высказать моральную оценку тех или иных решений и поступков. Ярчайшие образцы такого морального резонерства представили Н.Е. Салтыков-Щедрин в образе Иудушки Головлева и Ф.М. Достоевский в образе Фомы Фомича Опискина. В отличие от резонера специалист по этике прежде всего попытается понять и объяснить ситуацию в многообразии ее нередко весьма запутанных и противоречивых моральных аспектов, и только после этого — если таковое вообще случится — вынесет оценку.
щ Основания морали_________________________
Следует отметить, что в этике, история которой насчитывает более двух с половиной тысяч лет, нет какой-то единой, общепризнанной теории. Напротив, история этики — это история множества конкурирующих друг с другом теорий, причем самые древние из них, освященные именами Платона и Аристотеля (который, заметим, первым стал применять термин «этика» для обозначения особой области знания), нисколько не утратили своей актуальности, так что и сегодня их дополняют, развивают, оспаривают в самых современных исследованиях. Само отсутствие общепринятой этической теории, конечно, далеко не случайно — за ним кроется тот очевидный факт, что между людьми существуют серьезные расхождения как культурно-исторического, так и индивидуально-личностного плана, в том числе и по кардинальным этическим проблемам.
У некоторых такое положение дел вызывает тоску по единой и всеохватной теории, с которой были бы согласны все. Но это, хотим мы того или не хотим, — недостижимый идеал, чересчур упорное стремление к которому не всегда бывает безобидным, порождая своего рода этический догматизм и даже фанатизм. Такой фанатизм чреват не только неспособностью выслушать иное, альтернативное суждение, но и в конечном счете и отрицанием за другим права делать собственный свободный выбор. А это, напомним, в корне подрывает сами основания этики и морали.
Если, однако, мы признаем неизбежность существования различных, вплоть до конкурирующих, этических теорий, то здесь нас подстерегает другая опасность, имя которой —этический релятивизм (или даже нигилизм), то есть утверждение того, что любой, даже самый низменный, поступок может быть оправдан, стоит только выбрать подходящую для этого теорию. На самом деле это далеко не так. Все этические теории, которые сколько-нибудь продуманы и обоснованы (обоснованы в том числе и историческим опытом людей), а не являются всего лишь произвольной игрой ума, в большинстве случаев сходятся в конкретных оценках, которые в их рамках могут получать те или иные поступки, хотя и расходятся в обосновании, в оправдании этих оценок.
Один из первых вопросов, на который приходится отвечать каждой этической теории — это вопрос о происхождении, об истоках морали, о том, на что вообще опираются все моральные нормы. Подчеркнем, что речь в данном случае идет именно о тех основаниях, на которых зиждется реально существующая мораль, но не о том, чтобы заново изобретать правила и принципы морали и предписывать их людям.
В целом на этот вопрос дается три различных ответа.
Некоторые этические теории говорят о религиозном происхождении морали, основные нормы которой,
например, даны людям в форме специального текста, как бы продиктованы в божественном откровении (как десять заповедей, возвещенных Богом пророку Моисею). Иногда при религиозном обосновании морали исходят из того, что ее нормы даны не напрямую, а в форме притчи, иносказания, так что сами люди (или их духовные учителя) должны проделать специальную работу мысли и воображения, которая и позволит им выявить эти нормы.
Еще один путь связан с попытками людей открыть руководящие принципы, проникнув в замысел Творца всего сущего — при этом считается, что моральные нормы должны быть найдены, но уже не в текстах, а в тех данных Творцом законах, на которых держится и которым подчиняется сотворенный мир. Между прочим, это представление о законах мира, законах природы как о том, что исходит от Творца, сыграло важную роль в становлении науки в Новое время. Считалось, что Бог дал людям наряду с Библией и еще одну книгу — Книгу природы. Поэтому изучение природы понималось как занятие богоугодное, а значит — морально оправданное.
Другую большую группу составляют яаягуралисти-чеаше теории, усматривающие источник морали в естественном законе или естественном праве («морально то, что естественно, что находится в согласии с природой»), которые так или иначе могут быть раскрыты, познаны людьми. Это может быть, например, космический закон — поведение людей должно вписываться в космический порядок, и из этой посылки могут и должны быть выведены моральные нормы.
Вообще натуралистические теории являют собой особый вид взаимоотношений между этикой и наукой, когда не моральные категории применяются для оценки тех или иных сторон науки, а напротив, в основу этики кладутся принципы, заимствуемые из наук, прежде всего — наук естественных. Такие попытки вдохновляются стремлением найти строгие, обоснованные по канонам науки, общезначимые и обязательные для всех основания морали.
Натуралистические теории становятся тем более привлекательными, чем более высок в обществе авторитет естествознания. Характерный пример — множество концепций эволюционной этики, начавших развиваться после появления дарвиновского учения о происхождении видов. На этой основе предлагались прямо противоположные по смыслу теории — от социал-дарвинизма, основывавшего мораль на эгоистическом праве сильного, т. е. на модели естественного отбора и выживания наиболее приспособленных, до этики взаимопомощи П.А. Кропоткина, согласно которой, напротив, законы эволюции диктуют альтруистические нормы морали.
Некоторые современные натуралистические теории апеллируют к экологической тематике. Их авторы исходят из того, что наша планета сегодня находится на грани экологической катастрофы, так что сложившиеся формы и нормы взаимоотношений людей друг с другом и с природой должны быть радикально изменены. Поэтому предлагаются такие новые нормы морали, следование которым позволило бы предотвратить разрушение биосферы, а тем самым — и гибель человечества. Так, видный ученый-естественник, академик Н.Н. Моисеев говорил в этой связи о том, что во имя сохранения человечества, да и вообще жизни на Земле, люди должны подчинять свои помыслы и деяния требованиям экологического императива. Суть этого императива — в необходимости оценивать все наши действия с точки зрения того, как — позитивно или негативно — они влияют на окружающую среду и, соответственно, избегать всего того, что чревато негативными эффектами.
Еще один класс — это теории, так или иначе обосновывающие не надчеловеческую, а человеческую природу и источник морали. Считается, скажем, что у каждого человека есть присущее ему от рождения или от природы нравственное чувство — моральная интуиция, которая подсказывает ему выбор правильного решения. Хорошо известный пример — демон Сократа, который, по словам Сократа, предостерегал его от ошибочных действий; впрочем, в данном случае моральная интуиция принимала облик некоторого сверхъестественного начала. При таком подходе задачей этики становится лишь прояснение, очищение этой интуиции.
Одно время чрезвычайно популярными были теории, которые, подобно учению Ж.-Ж. Руссо, видели образец морали в поведении первобытного человека — «дикаря», не испорченного цивилизацией и поступающего так, как диктуют ему инстинкты. Эти инстинкты, укорененные в человеческой природе, и являются, с точки зрения данных теорий, последним основанием морали.
Другие теории утверждают, что обыденный здравый смысл содержит в себе все нормы морали и потому является наилучшим руководством при решении моральных коллизий — все, что выходит за пределы его разумения, либо не имеет существенного значения, либо вообще ведет к моральному вреду. Следует заметить, что соответствие здравому смыслу, моральному опыту обычных, рядовых людей, вообще говоря, считается в этике одним из критериев, применяемых для обсуждения достоинств той или иной теории. С этой точки зрения теория, которая по всем своим принципиальным положениям расходится с нашим моральным опытом, не может рассчитывать на признание. В данном случае, однако, этот критерий возводится в ранг единственного и решающего, что оборачивается некритическим отношением к обыденному моральному сознанию, которое нередко бывает противоречивым, непоследовательным и даже неспособным предложить удовлетворительное решение, столкнувшись со сложной морально-нравственной коллизией.
Существуют, далее, и такие теории, которые считают высшим моральным авторитетом ту или иную историческую личность — в этом случае ее поступки (нередко не столько реально имевшие место, сколько переосмысленные или просто вымышленные последующими толкователями) выступают в роли образца, коим надлежит руководствоваться при разрешении собственных моральных затруднений. В советские времена, к примеру, роль такого образца в нашей стране отводилась деяниям и высказываниям В.И. Ленина. Стоит заметить, что и в науке достаточно распространены случаи, когда в качестве аргумента при обсуждении моральных проблем используется апелляция к авторитету кого-либо из выдающихся ученых.
В современной этике особенно популярны теории, ставящие во главу утла социальную природу человека, его включенность в общество, в частности — теории социального контракта (общественного договора). В них предполагается ситуация — конечно, условная, гипотетическая, когда разумные люди, каждый из которых преследует свои собственные интересы, заключают между собой соглашение, позволяющее сдерживать эгоистические устремления каждого. Тем самым оказывается возможным предотвратить всеобщее истребление друг друга — ту «войну всех против всех», о которой как о естественном, т. е. в данном случае — дообщественном — состоянии говорил английский философ Т. Гоббс. Эти теории ставят во главу угла не чувственное, не интуитивное или инстинктивное, а рациональное начало.
Рациональное начало считается определяющим и в таких теориях обоснования морали, которые считают, что она должна базироваться на естественных законах разума. При этом предполагается, что идя рациональным путем, т. е. опираясь именно на законы разума, мы можем придти к таким основаниям, которые будут безусловно признаны всеми здравомыслящими людьми. Многочисленные теории, руководствующиеся такой посылкой, принято относить к весьма влиятельному течению, называемому этическим рационализмом.
Следует отметить, что перечисленные подходы к обоснованию морали далеко не всегда исключают друг друга, так что в конкретных этических теориях они встречаются в самых разнообразных сочетаниях. Например, теории, опирающиеся на естественный закон, нередко трактуют его как данный Творцом, тем самым комбинируя религиозный подход с натуралистическим.
Очевидно, далее, что различные теории могут расходиться в оценке одних и тех же поступков — скажем, одни будут порицать, тогда как другие считать естественным и одобрять поведение, диктуемое эгоистическими соображениями. Однако во многих случаях оказывается, что люди, исходя из разных теорий, приходят тем не менее к сходным, хотя и по иному обоснованным оценкам одних и тех же конкретных решений и поступков, правил и принципов. Это особенно важно учитывать в плюралистическом обществе, в котором нет одной безусловно доминирующей морально-ценностной системы, так что для взаимного согласования моральных критериев и конкретных оценок нередко приходится предпринимать специальные усилия.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНОГО
Таким образом, для того, чтобы осмысленно говорить об этическом измерении науки, необходимо выявить в ней то, что относится к взаимоотношениям и взаимодействиям между людьми, т. е. ее социальную составляющую. Обнаружить ее не составляет труда, коль скоро речь идет о науках, изучающих человека и общество. Что же касается естествознания, то и здесь в деятельности исследователя, изучающего природу, анализ позволяет найти то, что относится к межчеловеческим взаимоотношениям. Основные соображения по поводу социальной природы научного познания были представлены в главах, посвященных социологии науки. Здесь же мы будем затрагивать их лишь в той мере, в какой это необходимо для анализа этических проблем науки.
Действительно, в фокусе интересов исследователя — объекты, явления и процессы природы, которые ему надлежит описывать и объяснять; именно с ними он имеет дело, к ним относятся те научные проблемы, которые он ставит и решает. И от того, насколько успешно он это делает, зависит его признание...
Попробуем, впрочем, остановиться здесь и задуматься. Ведь признание — это оценка, которую выносит кто-то другой (или другие). А это значит: то, что делает ученый, даже если он действует в одиночку, так или иначе адресовано другим. Можно, впрочем, попытаться представить исследователя, который озабочен только получением новых знаний, но никак не тем, чтобы передать их другим. В этом случае, однако, тот результат, который он получит, не сможет стать научным знанием, поскольку не получит одобрения (и, между прочим, не пройдет критическую проверку) со стороны коллег.
Заметим, далее, что, как известно, учеными люди не рождаются, а становятся. Безусловно, для этого важно обладать определенными способностями и задатками. Как говорит современная генетика, многие из них являются врожденными. Тем не менее, помимо способностей любому одаренному человеку необходимо еще изучить ту область знания, в которой он намерен делать открытия. А это значит — приобщиться к тому, что было сделано его предшественниками. В свое время Ньютон говорил, что все его научные результаты были получены благодаря тому, что он стоял на плечах гигантов — своих предшественников. В этих словах не только констатируется то обстоятельство, что достижения предшественников являются той основой, вне которой невозможно получение нового знания; Ньютон вместе с тем высказывает и определенное моральное суждение, говоря о долге уважения по отношению к ним.
В то же время и научный результат, к получению которого стремится исследователь, всегда так или иначе адресован другим людям. В первую очередь это —■ его коллеги, которые будут знакомиться с научной статьей, излагающей этот результат — сначала в качестве рецензентов научного журнала, т. е. тех, кто оценивает статью как достойную быть опубликованной, затем читатели журнала, которые будут подвергать ее критическим проверкам и использовать как одно из оснований для дальнейших исследований.
Если же полученный результат обладает особой значимостью, круг его пользователей будет намного шире. Это могут быть те студенты, которые будут его осваивать, готовясь к самостоятельной научной деятельности. Это могут быть и инженеры, которые будут искать его технологические приложения. Это, наконец, может быть широкая публика, коль скоро новое знание касается вещей, важных для понимания человеком самого себя и для ориентации в окружающем мире.
Итак, получаемый в ходе исследования научный результат всегда должен быть выражен, изложен, сформулирован таким образом, чтобы он мог быть воспринят, понят, усвоен другими. Собственно говоря, каждый такой результат оформляется в виде некоторого утверждения, высказывания, которое строится при помощи языка — специализированного, профессионального языка, характерного для данной области знания, либо иногда — обыденного, общеупотребительного языка. Но это как раз и свидетельствует о его адресованное™ другому— слушателю либо читателю.
Важно иметь в виду, что эта адресованность, направленность научного результата на восприятие других имеет место независимо от того, осознает или нет данное обстоятельство сам исследователь. (Заметим, кстати, что часто ученые не только весьма четко осознают это, но и используют, теми или иными способами делая свои результаты более привлекательными с тем, чтобы обеспечить их более успешное продвижение в конкурентной борьбе с коллегами.) Ориентированность научного результата на то, чтобы он смог быть воспринят другими, выступает в качестве необходимой предпосылки той деятельности, которой занимается ученый. Поэтому, нисколько не ставя под сомнение тот факт, что научные достижения всегда имеют вполне конкретных авторов, мы можем сказать, что в них аккумулируются усилия многих предшественников и современников и что со всей полнотой их смысл раскрывается в том, что впоследствии, опираясь на них, делают другие. Как писал К. Маркс: «Но даже и тогда, когда я занимаюсь научной и т. п. деятельностью —деятельностью, которую я только в редких случаях могу осуществлять в непосредственном общении с другими, — даже и тогда я занят общественной деятельностью, потому что я действую как человек».
Итак, научная деятельность — в том числе и в тех ее формах, которые связаны с получением фундаментальных знаний — с неизбежностью включает в себя то, что касается социальных взаимодействий и взаимоотношений. И это обстоятельство позволяет сделать принципиальный вывод — научная деятельность вполне может быть объектом моральных суждений и оценок.
Можно, впрочем, не ограничиваться этим утверждением, а пойти дальше и говорить о том, что этическая составляющая не только допустима и возможна, — она, более того, представляет необходимое условие научной деятельности. Для того, чтобы обосновать это положение, необходимо отметить то обстоятельство, что взаимоотношения в научном сообществе во многом строятся на доверии между его членами.
Мы уже упоминали о том, что новый научный результат, после того, как он публикуется и становится достоянием научного сообщества, может подвергаться критической проверке со стороны коллег. Строго говоря, такой тщательной проверки требует каждый научный результат — только после этой проверки он может быть включен в существующий массив научного знания. Это условие, впрочем, нереалистично — если бы таким образом проверялся каждый результат, у исследователей попросту не оставалось бы времени ни на что другое, включая получение новых знаний. Поэтому у них нет другого выхода, кроме того, чтобы доверять данным, которые сообщают их коллеги.
Вообще-то говоря, у членов научного сообщества есть определенные средства, позволяющие приблизительно, в грубой форме, что называется, «навскидку», оценивать результаты, предлагаемые коллегами. С этой целью могут оцениваться, скажем, методы, которые были использованы при проведении данной работы; источники, на которые ссылается автор; может оцениваться правдоподобность предлагаемой гипотезы и т. д. Применение всех этих вспомогательных средств, впрочем, хотя и облегчает положение, но тем не менее не гарантирует достоверности данного результата. А значит, при отсутствии доверия к тем результатам, которые сообщают коллеги, было бы невозможно сколько-нибудь устойчивое существование и развитие науки.
Глава 2. Првпгонвнальвая ртввтстввннреть ученого
Таким образом, доверие — а это понятие, подчеркнем, принадлежит словарю этики — играет ключевую роль в научной деятельности, в организации и жизни научного сообщества. А следовательно, наука, будучи не только познавательной деятельностью, но и системой упорядоченных взаимоотношений и взаимодействий между людьми, т. е. социальным институтом, опирается, помимо всего прочего, и на некоторые моральные основания. Каждый член научного сообщества несет ответственность — перед своими коллегами, перед своей областью научного знания, наконец, перед наукой в целом прежде всего за достоверность, за качество тех результатов, которые он предлагает на суд научного сообщества. Эту ответственность принято называть профессиональной ответственностью (иногда говорят о когнитивной ответственности) ученого; изучением ее занимается внутренняя этика науки. Следует, впрочем, заметить, что она отнюдь не ограничивается проблематикой доверия во взаимоотношениях между учеными.
В Ролевая структура научной деятельности
Коль скоро мы ввели понятие внутренней этики науки, нетрудно догадаться, что наряду с ней существует и внешняя этика науки. Областью ее интересов являются взаимоотношения между наукой и обществом, а ключевой проблемой — проблема социальной ответственности как отдельного ученого, так и науки в целом. Об этих вопросах мы будем говорить позже; пока же остановимся на проблемах внутренней этики науки. Сразу же, впрочем, следует обратить внимание на то, что между внутренней и внешней этикой науки нет каких-то непроходимых границ. Очень часто реальные этические проблемы, возникающие в науке, имеют как внутри-, так и внешне-этическое измерение.
К сказанному по поводу этической стороны взаимодействий внутри научного сообщества в главах, посвященных социологии науки (при этом особое внимание следует обратить на то, что касается этоса науки), 413 необходимо добавить следующее. Помимо участия в проведении исследований современному ученому приходится выполнять много других ролей, каждая из которых требует соблюдения специфических этических норм. Предполагается, что при их осуществлении ученый должен опираться на ценности науки и руководствоваться интересами научного сообщества.
Так, после того как исследование (или его отдельный этап) завершено, результат должен быть представлен — в качестве статьи или доклада — коллегам, специализирующимся в той же области знаний. Изложение результатов проведенного исследования — одна из ролей, в которых приходится выступать ученому; при этом исследователь становится автором.
Непреложное требование к научной публикации — то, что в ней обязательно должны быть ссылки на те работы предшественников, в которых была поставлена решаемая в данном исследовании проблема, предложены используемые в нем методы и т. п. Это, как мы уже отмечали, является и выражением морального признания по отношению к предшественникам. Публикация результатов исследования представляет собой своего рода заявку, утверждающую приоритет авторов на открытие, излагаемое в статье или докладе1. Вместе
! Приоритет при этом понимается в моральном смысле; отметим, что некоторые споры о приоритете (как, скажем, спор о том, кто — Ньютон или Лейбниц — открыл дифференциальное исчисление) стали яркими страницами истории науки. В современной науке, впрочем, приоритет нередко получает и юридическое закрепление, когда, скажем, первооткрыватель закрепляет свое достижение патентом. Тем самым, к сожалению, уменьшается значимость публикации исследовательского результата в научном журнале. В результате коллеги не получают информации о важных научных достижениях, что ставит под угрозу выработанные в науке механизмы самоорганизации и затрудняет ее поступательное развитие.
Еще одной проблемой, порождающей немало дискуссий, является вопрос о том, допустимо ли патентование вновь открываемых генетических последовательностей: далеко не все соглашаются с распространением патентного права и патентной защиты на то, что уже существовало в природе до того, как было выявлено исследователем.
с тем исследователь, публикуя полученные им результаты, делает их достоянием научного сообщества. Тем самым он, помимо всего прочего, в буквальном смысле выносит их на суд критики, открывая своим коллегам возможности для опровержения того, что ему удалось достичь.
Иначе говоря, нормой, имеющей очевидный этический смысл, моральным обязательством является необходимость для ученого не просто быть готовым к критическому разбору того, что им сделано, но, более того, самому искать опровергающие аргументы и эксперименты. Эту особенность научной деятельности — свойственный ей дух критического отношения к достигнутому не только предшественниками, но и самим собой — принято рассматривать как выражение одной из ключевых ценностей науки. Между прочим, в известной концепции фальсификационизма, сформулированной К. Поппером, именно такая критическая установка выступает не только в качестве критерия, отличающего науку от всех других видов познавательной деятельности, но и в качестве одного из основных достоинств научного мышления.
Особые этические проблемы связаны с публикацией результатов исследований, завершившихся неудачно. С одной стороны, очевидно, что никто не вправе принуждать автора к публикации собственных результатов, тем более что такая публикация может отрицательно сказаться на его престиже. Но, с другой стороны, эта публикация принесет несомненную пользу его коллегам, поскольку покажет им, что поиск в данном направлении бесперспективен. Если же речь идет, скажем, о биомедицинском исследовании, в котором на испытуемых проверяется действие нового терапевтического или диагностического средства, то в этом случае честная публикация отрицательного результата представляется особенно важной, поскольку она позволит уберечь от риска новые группы испытуемых.
Отметим, далее, еще одну моральную проблему, связанную с публикацией исследовательских результатов. Для современной науки общим правилом стало то, что у научной публикации бывает не один автор, а целая группа, подчас весьма многочисленная, соавторов. Когда соавторов больше двух, при цитировании такой статьи обычно указывается фамилия первого из соавторов, после чего добавляется оборот «и др.». Между тем существующие методы измерения научной продуктивности исследователей широко используют такой метод, как подсчет количества ссылок, получаемых данной статьей или данным автором (так называемый индекс цитирования). В этой ситуации остальные соавторы оказываются обойденными, так что особую остроту обретает вопрос о том, в каком порядке должны перечисляться фамилии соавторов.
На практике используются такие способы: фамилии соавторов приводятся либо в алфавитном порядке, либо по степени вклада каждого в данное исследование (т. е. первым будет тот, кто внес наибольший вклад), либо по научному статусу соавторов. При первом способе, однако, незаслуженно обойденными систематически оказываются те, чьи фамилии начинаются с последних букв алфавита. При втором — возникает непростая проблема «взвешивания» вклада каждого из соавторов. При третьем способе существует реальная опасность того, что основная доля престижа достанется маститому ученому, фамилия которого в действительности была включена лишь для того, чтобы сделать статью более «проходимой».
Впрочем, еще до того как результат исследования будет представлен в научном журнале или на научной конференции, он обычно проходит экспертизу, или рецензирование, специалистов — тех, кто считаются наиболее авторитетными в данной области знания. Более того, в современной науке стало правилом, что такому рецензированию подвергаются не только результаты уже проведенного исследования: очень часто финансирование исследовательских проектов осуществляется на конкурсной основе. При этом решающую роль в определении победителей играет мнение, высказываемое экспертами.
Эта экспертиза (рецензирование) того, что делается коллегами — еще одна роль, выполняемая ученым и имеющая особое значение для самоорганизации научного сообщества. Такие экспертные оценки — один из основных механизмов, посредством которых сообщество определяет приоритеты развития соответствующей отрасли научного познания. Очевидно, на плечи тех, кто выступает в качестве рецензентов-экспертов, ложится бремя моральной ответственности за будущее своей области знания.
Бывают, однако, ситуации, когда рецензенты научных журналов отвергают статьи достаточно высокого качества — то ли в силу того, что оказываются не в состоянии по достоинству оценить революционную идею, то ли из-за того, что автор и рецензент принадлежат к конкурирующим и даже враждующим научным школам. (Последнее, заметим, следует считать морально предосудительным.) Поэтому нередко раздаются голоса, призывающие отказаться от института рецензентов в научных журналах. Сегодня, в эпоху электронных средств коммуникации, появляются реальные возможности создавать в Интернете любые научные (или, точнее, претендующие быть научными) тексты. Однако научный уровень таких публикаций, естественно, не гарантируется никем, и прежде всего — научным сообществом.
Следующая роль, в которой приходится выступать ученому— это роль преподавателя. Сточки зрения интересов и потребностей науки преподавательская деятельность есть не что иное как участие в подготовке нового пополнения тех, кто впоследствии сам будет профессионально заниматься научной деятельностью.
Необходимо особо подчеркнуть, что процесс преподавания отнюдь не сводится к передаче студенту или аспиранту какого-то объема знаний и умений. Наряду с этим в ходе длительных непосредственных контактов студенты (аспиранты) усваивают и то, что принято обозначать такими не поддающимися строгому определению терминами, как дух науки, традиции науки и т. п. Прежде всего сюда относятся те специфические ценности и моральные нормы, которые характерны как для науки в целом, так и для данной области знания. И если знания учащийся может, вообще говоря, почерпнуть из учебной и справочной литературы, то в этой роли носителя и выразителя традиций и ценностей науки никто и ничто не может заменить ученого-преподавателя (здесь вполне уместным будет и звучащее сегодня несколько старомодно слово «учитель»). Именно на нем лежит моральная ответственность за их сохранение и воспроизводство в последующих поколениях.
Возможны, вообще говоря, два способа передачи новичкам и усвоения ими принципов нормативно-ценностной системы. Первый — формальный — характеризуется тем, что ценности и нормы зафиксированы в виде некоторого устного или письменного кодекса. Удостоверив свою приверженность основополагающим ценностям и нормам, новичок получает право самостоятельно заниматься соответствующими видами деятельности. Характерный пример здесь — клятва или присяга врача, которую должен дать каждый выпускник медицинского института, чтобы получить право заниматься медицинской деятельностью (общеизвестна, в частности, клятва Гиппократа). В этой клятве или присяге зафиксированы основные моральные нормы и требования, которыми ему надлежит руководствоваться в своих действиях и взаимоотношениях как с пациентами, так и с коллегами.
Второй способ не предполагает такого формально выраженного кодекса. В этом случае ключевым оказывается неформальное личностное общение учителя и ученика-новичка, в ходе которого первый самим своим поведением демонстрирует образцы следования ценностям и нормам соответствующего сообщества, а второй непосредственно их усваивает. Именно таким образом осуществляется передача от поколения к поколению принципов нормативно-ценностной системы научного сообщества.
Сходную функцию демонстрации образцов достойного поведения выполняет и обращение в процессе преподавания к конкретным эпизодам из истории науки, повествующим о деяниях и изречениях признанных лидеров научного сообщества в критических ситуациях. Такие освященные традицией образцы выступают как примеры для подражания, помогающие определять достойную линию собственного поведения. Следует только иметь в виду, что выбор этих исторических образцов в значительной степени определяется не столько самой по себе историей науки, сколько существующими в данное время приоритетами исторически изменяющейся нормативно-ценностной системы науки.
Очевидно, выполнение каждой из рассматриваемых нами ролей требует от ученого больших или меньших затрат времени и сил. Эти ресурсы приходится отвлекать от собственно исследовательской деятельности, так что выполнение таких ролей может восприниматься как какая-то дополнительная обуза. Дело, однако, в том, что деятельность ученого в этих качествах необходима для существования и воспроизводства самой же науки. Поэтому ученый, выступая в этих ролях, выполняет свой моральный долг перед научным сообществом. Важно подчеркнуть и следующее обстоятельство: никто иной помимо самих же ученых не обладает ни той квалификацией, ни той компетенцией, которые необходимы для сколько-нибудь успешного выполнения этих ролей.
Еще одна роль, в которой сегодня все чаще приходится выступать ученому— это роль консультанта, к которому обращаются при подготовке ответственных решений, когда требуется дать прогноз и оценку возможных последствий того или иного курса действий. Такого рода деятельность принято называть экспертизой, например, экологической, гуманитарной и т. п. Отметим, что ее появление и широкое распространение — свидетельство очень высокого общественного авторитета науки в современном мире.
Следует подчеркнуть важное различие между той ролью эксперта-рецензента, о которой мы говорили ранее, и ролью эксперта-консультанта в данном случае. Если эксперт-рецензент осуществляет свою функцию в пределах научного сообщества, то эксперт-консультант привлекается как представитель этого сообщества для участия в решении не собственно научных, а важных социальных, политических, народно-хозяйственных и т. п. проблем. Впрочем, нередко для подготовки экспертного заключения приходится проводить и научные исследования.
Существенной особенностью такого рода экспертизы является ее междисциплинарный характер. Междисциплинарный состав экспертных комиссий (комитетов) имеет принципиальное значение — во многом именно в междисциплинарном подходе и заключается смысл экспертизы, которая призвана сформировать многомерную картину анализируемой ситуации, многостороннее представление о ней.
Каждый из экспертов, участвуя в работе комиссии, высказывает те суждения и воззрения, которые считаются обоснованными и достоверными в рамках представляемой им области знания. Особую трудность при проведении такой междисциплинарной экспертизы представляет поэтому подготовка единого заключения на основе столь разнородных и зачастую противоречивых знаний, предположений и оценок. Сами по себе дисциплинарные пристрастия экспертов вполне естественны и объяснимы; существуют и методики, позволяющие минимизировать их влияние. Однако в деятельности экспертов-консультантов есть и такие составляющие, которые порождают сложности морального порядка.
Так, эксперт-рецензент выполняет свою роль, действуя в окружении коллег и подвергаясь с их стороны своеобразному контролю. Механизмы такой экспертизы позволяют в значительной мере сглаживать влияние крайних, необъективных точек зрения — например, за счет того, что рецензирование проводят независимо друг от друга несколько экспертов. В отличие от этого эксперт, выступающий в роли консультанта, не контролируется коллегами, так что его субъективные предпочтения приобретают значительно больший вес.
Другая проблема, имеющая очевидное моральное измерение, заключается в том, что выводы, к которым приходит комиссия, всегда носят вероятностный характер и не должны восприниматься как однозначные предписания. Однако авторитет комиссий бывает настолько высок, что эта вероятностная природа зачастую упускается из виду; в результате же смысл заключения экспертов искажается — оно понимается излишне категорично. А это, в свою очередь, может послужить основанием для серьезных ошибок при принятии ответственных решений. В такой ситуации моральной обязанностью эксперта-консультанта является четкое указание на то, что его предложения и рекомендации имеют ограниченную применимость. Но дело в том, что такого рода указания, отмечающие пределы компетенции эксперта, могут быть без достаточных на то оснований истолкованы как свидетельство его недостаточной квалификации.
Здесь мы затронули одну из множества проблем, с которыми приходится сталкиваться ученому, когда он выступает в еще одной роли — роли популяризатора научных знаний и достижений. Подобно предыдущей, эта роль связана с активностью ученого за пределами научного сообщества. Деятельность ученого на этом поприще сопряжена со множеством проблем морального характера. То, что он может восприниматься аудиторией, состоящей из неспециалистов, как оракул, который призван изрекать неопровержимые истины, — лишь одна из них, И поскольку таковы ожидания аудитории, от него могут потребоваться специальные усилия для их нейтрализации. Эффект этих усилий, однако, может оказаться чрезмерным, так что аудитория будет попросту разочарована недостаточной определенностью информации, которая излагается от лица науки.
Ученые нередко с чрезвычайной неохотой относятся к выполнению этой функции. Действительно, она требует специфических способностей, развитием которых, заметим, не занимается существующая система подготовки научных кадров. Отметим также, что ученому, выступающему в роли популяризатора науки, приходится взаимодействовать не только с аудиторией, но и с посредниками — журналистами, которые далеко не всегда бывают настроены доброжелательно. В целом взаимодействие ученых с представителями СМИ — это отдельная и притом весьма болезненная тема. Один из главных камней преткновения во взаимоотношениях между ними — это то, что ученый обыч-
Раздел IV. Этика парии
но стремится как можно точнее выразить свою мысль, сопровождая каждый тезис уточнениями и оговорками, тогда как с точки зрения журналиста главное — доходчивость и, более того, сенсационность и даже скандальность сообщаемой информации. И для достижения такого эффекта журналист зачастую легко жертвует точностью и достоверностью. В результате же бывает так, что ученого охватывает ужас, когда он видит то, в каком виде изложил его соображения журналист.
И все же деятельность ученых, направленная на ознакомление широкой общественности с тем, чем они занимаются в лабораториях, становится сегодня все более и более важной и необходимой. Дело в том, что возможность получения ресурсов, необходимых для развития науки, во многом определяется уровнем доверия общества к науке. В свою очередь, и та информация о результатах и перспективах исследований, которую сообщают ученые, привлекает все более широкое внимание, особенно в тех случаях, когда исследования касаются вопросов здоровья и безопасности людей.
Учитывая это обстоятельство, некоторые исследователи, а также и научные учреждения уделяют все более серьезное внимание популяризации своей научной деятельности и в целом тому, что можно назвать «работой с общественностью». Порой для этого внутри научных учреждений создаются даже специальные подразделения.
И эта активность исследователей порождает определенные этические проблемы. Скажем, научные традиции предписывают, чтобы те сведения, которые адресуются широкой аудитории, предварительно были удостоверены научным сообществом. На практике это обычно достигается тем, что такие сведения первоначально публикуются в научных журналах — напомним, что сам факт такой публикации означает определенную степень признания сообществом исследовательского результата. В наши дни, однако, эта норма действует не так уж непреложно — подчас СМИ сообщают о новых научных достижениях одновременно или даже раньше, чем специализированные научные издания. И, следовательно, широкая аудитория получает такую информацию, которая еще не прошла экспертизу научного сообщества. Это бывает особенно опасно, когда речь идет, к примеру, о новых методах лечения серьезных болезней или о возможных негативных экологических, токсических, генетических и т. п. последствиях тех или иных широко распространенных в быту материалов, технологий, продуктов питания, медикаментов и пр. Такая информация, с одной стороны, вызывает повышенный интерес аудитории, и, с другой стороны, может провоцировать в обществе необоснованные ожидания либо опасения.
Другая проблема состоит в том, что в контактах с широкой аудиторией наиболее успешными зачастую оказываются те, кто, хотя и не пользуется авторитетом в научном сообществе, тем не менее берется выступать с сенсационными заявлениями якобы от лица науки. В итоге получается, что людям более известны имена шарлатанов, будоражащих общественность, чем тех, кто ведет серьезные и ответственные исследования в этой области.
Учитывая нарастающую остроту проблем, связанных с информированием общественности о результатах научных исследований, английское Королевское общество — одна из самых авторитетных в мире научных организаций — опубликовало в 2000 г. специальное руководство, посвященное взаимодействию ученых с прессой. Вскоре Комитет по науке и технике Палаты лордов Великобритании поддержал эти рекомендации и призвал редакторов СМИ следовать им.
В рекомендациях отмечается важность того, чтобы исследователи сообщали о своих результатах широкой публике, поскольку это позволяет показывать обществу потенциальную ценность их работы, а также способствует росту репутации и их профессии, и учреждений, в которых они работают. Вместе с тем сообщение результатов исследований налагает на исследователей обязательство излагать эти результаты точно и таким образом, чтобы свести к минимуму возможность искаженных или необоснованных выводов. Это обязательство особенно важно для биомедицинских наук, поскольку люди могут связывать получаемую информацию с собственным состоянием здоровья или образом жизни.
Далее речь в рекомендациях идет о том, что многие ученые бывают недостаточно искушенными в качестве интервьюируемых. Хотя для них не составляет труда обсуждать свою работу с коллегами на семинарах и конференциях, однако информирование о ней широкой публики требует иного взгляда на вещи, хотя бы потому, что журналисты используют иные критерии, когда судят, насколько интересны и важны новые открытия. Научное сообщество и его организации должны поощрять исследователей к открытому и ответственному обсуждению своей работы с тем, чтобы соблюдалось равновесие между необходимостью поддерживать научную строгость с требованием излагать результаты исследований в форме, доступной для понимания широкой аудитории.
Особые требования предъявляются к четкому определению того, каков статус сообщения о проведенном исследовании. В частности, если результат еще не был опубликован в научном журнале, исследователь обязан указать это. Кроме того, необходимо учитывать следующие обстоятельства: I. полученные в исследовании результаты могут носить предварительный характер, а значит, не позволяют делать обоснованных обобщений; П. еще не было проведено повторных подтверждающих исследований;
III. полученные результаты могут резко отличаться от предыдущих результатов в данной области;
IV. они получены на малой или нерепрезентативной выборке;
V. они могут быть основаны только на изучении животных;
VI. они могут опираться только на корреляционную связь.
Если в наличии сразу несколько из этих условий, то исследователю имеет смысл задержать сообщение о своих результатах до тех пор, пока не будут получены новые подтверждения, и попытаться убедить в необходимости такой отсрочки журналиста, готовящего информацию для широкой прессы.
Следующее положение рекомендаций касается точности сообщаемой информации, в частности, тех выводов и следствий из выполненной работы, которые обычно больше всего привлекают внимание журналистов. Отмечается, что хотя ученый должен быть готов выделить наиболее интересные для широкой публики аспекты своего исследования, он тем не менее не должен преувеличивать его важность. Если, например, полученные данные допускают несколько различных интерпретаций, необходимо представить каждую из них. Необходимо также по возможности показывать свою собственную работу в контексте сходных открытий в данной области; следует избегать спекуляций, опирающихся на мнения и взгляды, которые не имеют отношения к данному исследованию.
С особой ответственностью следует подходить к сообщению таких результатов, которые заставляют пересматривать вероятностные оценки заболеваемости, смертности или риска для окружающей среды. Долг ученых и медиков состоит в том, чтобы предупреждать общественность о потенциальных опасностях и вместе с тем ставить ее в известность относительно новых возможностей улучшения здоровья и повышения безопасности. В то же время важно не вызывать необоснованного оптимизма, когда найденное в ходе исследования представляется как «прорыв» или «чудодейственное средство», но и не возбуждать страхи и опасения, которые не обоснованы имеющимися данными.
Далее в рекомендациях речь идет о том, что при обсуждении вопросов риска и безопасности ученые, выступая перед СМИ, обычно не склонны говорить об «абсолютной безопасности», поскольку учитывают наличие существенных неопределенностей. Аудитория же может истолковать такую позицию как «увиливание от ответа» или недостаточную уверенность. Ученым следует предвидеть возможность таких реакций, в то же самое время не отказываясь от строгого еледования принципам научности. В подобных случаях рекомендуется, в частности, пользоваться сравнениями, например, указывая, что риск, связанный с х, эмпирически не больше, чем риск, связанный с у, где у — это то, что люди обычно считают безопасным.
Несомненный интерес представляет заключительная рекомендация, которая касается того, как следует реагировать ученому, если журналист допустил неточности или искажения. Ученый, — говорится в рекомендациях, — должен без колебаний высказывать свой протест как самому журналисту, так и редактору издания, предпочтительно — в форме письма, имея в виду, что оно должно быть опубликовано. Даже если такой протест не станет достаточной компенсацией того вреда, который нанесен вследствие искажения, то по крайней мере он может сделать редактора более осторожным в будущем. При отсутствии надлежащей реакции исследователю рекомендуется обращаться в специально занимающиеся подобными вопросами комиссии, которые существуют в Великобритании, но которых, к сожалению, пока что нет в России.
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ АВТОРИТЕТ НАУКИ: НАУКА КАК ИСТОЧНИК БЛАГА
Наше рассмотрение тех разнообразных ролей, в которых приходится выступать современному ученому, уже привело к необходимости выйти за рамки внутренней этики и наряду с проблемами ответственности ученого перед своими коллегами затронуть проблемы социальной ответственности науки. Для систематического рассмотрения этой проблематики нам потребуется теперь обратиться к функциям науки как социального института. Учитывая то, что было сказано в разделе, посвященном социологии науки, мы можем представить исторический процесс институционализа-ции науки как последовательное расширение спектра ее социальных функций.
От других социальных институтов науку отличает то, что это — институт по историческим меркам молодой, еще, видимо, не завершивший процесс своего окончательного формирования. Его зарождение принято относить к XVI — XVII вв., а в географическом отношении — к региону Западной Европы, прежде всего — к Италии, Англии, Франции. Этот процесс инсти-туционализации науки включает в себя несколько взаимосвязанных сторон.
Во-первых, формируется социальный институт науки со специфической системой ценностей и норм.
Во-вторых, устанавливается соответствие между этой системой и нормативно-ценностной системой, характерной для общества в целом, для всей той сети социальных институтов, в которую теперь встраивается новый институт. Соответствие это, как показывает исторический опыт, никогда не бывает полным, так что отношения между наукой и обществом всегда бывают более или менее напряженными. Это может выражаться в том, например, что господствующие в обществе ценности не позволяют развивать некоторые направления исследований, осуществимые с точки зрения имеющихся у ученых знаний, средств и методов.
В-третьих, взаимоотношения между обществом и социальным институтом науки, коль скоро он в этом обществе сформирован, можно представить как взаимообмен различного рода ресурсами. Наука получает поддержку со стороны общества, а именно, финансовые, материальные, интеллектуальные и моральные ресурсы. Под моральным ресурсом имеется в виду общественный статус, престиж науки, необходимость существования в обществе некоторого уровня согласия по поводу того, что занятия наукой — дело по меньшей мере небесполезное. Иначе говоря, общество должно признавать ценность науки как таковой, а не только как источника каких-либо конкретных социальных благ. Формирование такого отношения к науке и есть один из решающих моментов процесса ее институци-онализации.
В свою очередь, наука в ходе взаимообмена дает обществу то, что общество считает важным, полезным и даже необходимым. Предоставление обществу каждого вида ресурсов, обеспечиваемых наукой, можно характеризовать как осуществление наукой соответствующей социальной функции. Оформление и закрепление каждой из этих функций означает, что данная функция институционализировалась, т. е. что в обществе сложилась устойчивая система связанных с ней ожиданий.
Среди этих функций первой по времени возникновения следует считать культурно-мировоззренческую. Принципиальное значение с этой точки зрения имело возникновение и утверждение гелиоцентрической системы Коперника. Она послужила поводом для резкого столкновения науки с теологией, которая в те времена занимала господствующие позиции в формировании мировоззрения людей. Случилось так, что одним из опорных пунктов теологической картины мира оказался геоцентризм, так что острый конфликт между нарождавшейся наукой и теологией произошел на почве астрономии, хотя, наверно, он мог произойти и во многих других областях. Как бы то ни было, ко-перниканской революцией наука впервые заявила о своих претензиях на роль силы, предлагающей собственные решения серьезнейших мировоззренческих вопросов.
Занятия наукой, до тех пор казавшиеся (а в известной мере и действительно бывшие) чем-то сродни магии, алхимии или оккультизму, являвшиеся по большей части уделом отшельников-одиночек, вдруг стали вызывать живой общественный интерес. А это, в свою очередь, открыло возможность воспринимать занятия наукой как достойное поприще для приложения собственных сил и возможностей. Признание за научной деятельностью самоценного характера и стало началом социальной институционализации науки.
Конечно, коперниканский переворот стал хотя и важным, но лишь одним из первых шагов в процессе утверждения ведущих позиций науки в формировании мировоззрения. Должно было пройти немало времени, вобравшего в себя такие драматические события, как отречение Галилея под давлением инквизиции от идей Коперника, острые идейные конфликты вокруг эволюционного учения Дарвина и многое другое, прежде чем общественный авторитет науки позволил ей стать ведущей силой в решении первостепенных мировоззренческих вопросов, таких, как структура материи и эволюция Вселенной, возникновение и сущность жизни, происхождение человека и т. д. Еще больше времени потребовалось для того, чтобы предлагаемые наукой ответы на эти вопросы стали ключевыми элементами того объема знаний, усвоение которого считается необходимым для каждого и который поэтому преподается в системе общего образования.
По мере того, как утверждалась ценность науки в качестве авторитетной культурно-мировоззренческой силы, в общественном сознании формировалось новое отношение к ней. Вместе с тем эволюционировало и самосознание научного сообщества, воззрения ученых на смысл и задачи научной деятельности, на ее общественную значимость.
Наиболее отчетливо это выразилось в представлениях, сложившихся в XVIII столетии, в эпоху Просвещения. Если прежде господствовал взгляд на научные знания как на то, что доступно только избранным и открывает им путь к благу, то просветители существенно раздвинули рамки социального воздействия науки. Видя в невежестве и суевериях основной источник всех пороков и зол в обществе, они считали распространение научных знаний среди широких слоев населения решающим средством достижения социальной справедливости и разумного общественного устройства.
В начале XIX века в связи с общим разочарованием в итогах Великой Французской революции идеи Просвещения стали терять свои ведущие позиции. Однако укоренившееся благодаря ним понимание научного знания как самоценного и общественно значимого блага надолго осталось широко разделяемой предпосылкой, исходя из которой обсуждалась социальная роль науки.
Иначе говоря, расширение объема научного знания представлялось целью, не требовавшей какого бы то ни было внешнего оправдания. В качестве одной из ключевых социальных ценностей стал выступать и принцип свободы научных исследований. Всякое выступление против этих установок воспринималось как проявление обскурантизма.
С течением времени культурно-мировоззренческая роль науки становилась все более значимой, и в наши дни она весьма внушительна. Вместе с тем сегодня с предельной ясностью обнаружилась и ущербность односторонней ориентации на науку в мировоззренческом плане, необходимость единства науки с другими формами культуры, хотя реальное достижение такого единства — далеко не простая задача. Важно также иметь в виду, что в современных условиях осуществление культурно-мировоззренческой функции лишь один из каналов воздействия науки на общество.
| Ценностные и моральные установки «большой науки»
Следующий этап социальной институционализа-ции науки приходится на вторую половину XIX — начало XX в. Принципиальное значение при этом имели два момента: осознание и обществом, и научным сообществом экономического эффекта, который могут приносить научные исследования, и начавшаяся в этот же период профессионализация научной деятельности.
При этом в корне меняется само понятие о результативности научных исследований. Прежде в качестве законченного результата мыслилась главным образом теория, описывающая и объясняющая некоторую область явлений. Для достижения этой цели ученые создавали новые средства — будь то математический аппарат, физический прибор или устройство, позволяющее контролировать какие-либо химические превращения.
Теперь же все чаще осознается, что многие из этих средств можно использовать не только в научной лаборатории, но и, скажем, в индустрии для получения новых материалов, новых продуктов и пр. Создание такого средства, а не только законченной теории, выступает как самостоятельный научный результат. Его могут оценить и признать не одни лишь коллеги по научному сообществу, но и предприниматели, и все те, кто связан с техникой и производством. А это, в свою очередь, не могло не сказаться и на системе ценностей научного сообщества.
В результате этих трансформаций достаточно быстро выяснилось, что, казалось бы, абстрактные научные исследования могут приносить вполне конкретный, осязаемый и даже исчисляемый практический эффект. Таким образом, наука выявляет свои потенции силы, способной революционизировать технику и технологию.
Эта вновь возникшая социальная роль науки получает соответствующее оформление и закрепление: наряду с той наукой, которая существовала прежде и которую иногда называют «малой наукой», возникает «большая наука» - - i тая обширная сфера прикладных исследований и разработок. Массовый характер приобретает привлечение ученых в лаборатории и конструкторские отделы производственных предприятий и фирм. Деятельность ученого здесь строится на индустриальной основе: он решает вполне конкретные задачи, диктуемые не логикой развития той или иной области знания, а потребностями совершенствования, обновления техники и технологии. Соответствующим образом меняется и мотивация ученого, работающего в этой сфере: в ее основе оказываются не столько ценности искания истинного знания, сколько ценности получения нового практически полезного эффекта.
Это, между прочим, становится источником моральной напряженности и даже конфликтов внутри научного сообщества, приобретающих особую остроту уже в наши дни, в связи с резко усиливающейся коммерциализацией научных исследований. В начале XX в. конфликт зачастую осознавался как противостояние идеалов и ценностей «чистой науки», аристократической по своему духу, не отягченной мирскими заботами, и «плебейских» ценностей коммерциализированной науки, доступных технико-экономической калькуляции.
Так, английский ученый и писатель Ч. Сноу, вспоминая о своей работе в Кембридже в 1920— 1930-х гг. прошлого столетия, следующим образом характеризовал атмосферу того времени: «Больше всего мы гордились тем, что наша научная деятельность ни при каких мыслимых обстоятельствах не может иметь практического смысла. Чем громче это удавалось провозгласить, тем величественнее мы держались». При сравнении этих установок с теми, которые преобладают в наши дни, бросается в глаза резкий контраст. Сегодня ученым, исследования которых не дают непосредственного практического эффекта, а стало быть, не получают щедрого финансирования, чаще приходится принимать не горделивую, а оправдывающуюся позицию, доказывая, что наука может быть важной и полезной не только в качестве бизнеса, приносящего прибыль.
Как бы то ни было, создание постоянных каналов для практического использования научных знаний имело значительные последствия как для науки, так и для ее социального окружения. Если говорить о науке, то наряду с тем, что она получила новый мощный импульс для своего развития и для упрочения своего социального статуса, она обрела и такие формы организации, которые намного облегчают непрерывный ток ее результатов в сферы индустрии и бизнеса. Со своей стороны, и общество все более явно ориентируется на устойчивую и непрерывно расширяющуюся связь с наукой. Для современной индустрии, и далеко не только для нее, новые научные знания и методы, повышающие ее эффективность, становятся не просто желательными. Все более широкое их применение выступает теперь как обязательное условие существования и воспроизводства многих видов деятельности, осуществлявшихся прежде вне всякой связи с наукой, не говоря уже о тех, которые порождены самим прогрессом науки и техники.
В целом для этого этапа можно считать характерным то, что все более ощутимым становится инструментальное понимание социальной роли науки. Если на предыдущем этапе наука воспринималась как безусловное благо, то теперь широкое распространение и поддержку получает идея ценностной нейтральности науки.
Такая трансформация оказалась тесно связанной с бурно протекавшим в то же самое время процессом профессионализации научной деятельности. Профессионализация и сопровождавшая ее нарастающая специализация в науке влияли на ценностные ориентации ученых по двум линиям. С одной стороны, ученые-профессионалы в сфере своей компетенции склонны осуществлять строгий контроль, резко ограничивая возможности высказывания некомпетентных, дилетантских суждений. С другой стороны, в общем и целом они и сами вовсе не расположены высказываться по вопросам, выходящим за рамки их компетенции (которая, заметим, в ходе прогрессирующей специализации становится все более узкой).
Дилетант-любитель, основное действующее лицо предшествующей науки, считал себя вправе с более или менее одинаковой уверенностью выносить суждения по довольно широкому кругу вопросов. Профессионал же и в своих глазах, и в глазах окружающих — не только коллег, но и общественного мнения — признается компетентным лишь в ограниченной сфере, а именно в той, в которой оплачиваются его знания и квалификация.
Профессионализация сопровождается формированием установки на резкое разграничение нормативных, ценностных суждений, с одной стороны, и фактических, свободных от ценностей — с другой. Профессионал рассматривает себя и рассматривается окружающими как поставщик средств — объективных, достоверных и обоснованных знаний — для достижения целей, поставленных не им, а теми, кто в обмен на его услуги дает ему средства, обеспечивающие существование.
С предельной четкостью эта позиция была выражена немецким социологом М. Вебером, который в начале прошлого столетия говорил: «Сегодня наука — это профессия, осуществляемая как социальная дисциплина и служащая делу самосознания и познания фактических связей, а вовсе не милостивый дар провидцев и пророков, приносящий спасение и откровение, и не составная часть размышления мудрецов и философов о смысле мира. Это, несомненно, неизбежная данность в нашей исторической ситуации, из которой мы не можем выйти, пока остаемся верными самим себе».
Установка на нормативно-ценностную нейтральность науки получила наибольшее распространение в научном сообществе в 30 — 40-е гг. прошлого столетия, когда многие воспринимали ее как выражение подлинной сущности науки. Именно на эту установку в значительной мере опиралась, в то же время давая ей понятийное оформление, философия неопозитивизма, в рамках которой развивались соответствующие представления о природе и содержании научной деятельности.
В ходе последующего развития науки, впрочем, выяснилось, что такие представления отнюдь не являются прямым и неискаженным отражением духа и ценностей науки. Скорее они характеризовали специфическую линию поведения, которой считали необходимым придерживаться научное сообщество и его лидеры во взаимоотношениях с теми социальными силами, от коих зависели возможности прогрессивного развития науки.
Такое узкое понимание социальной роли ученого как всего лишь носителя специализированного знания, которому закрыт доступ в сферу ценностей (исключая, конечно, специфические ценности самой научной профессии), возникает только на определенном этапе развития и социальной институционализации науки в соответствующих социально-исторических условиях. В чем-то такая трактовка являлась продолжением и развитием сложившейся ранее системы ценностей ученого; в других отношениях, однако, она вступала в противоречие — сначала скрытое, но с течением времени становившееся все более явным — с этой более широкой системой.
В допрофессиональной науке ученый считал себя вправе высказываться по достаточно широкому кругу вопросов, и это было обусловлено тем, как он понимал свое предназначение, свою роль в обществе. В частности, в его самосознании заметное место занимали просветительские мотивы — он воспринимал себя как носитель столь необходимого людям света истинного знания, способного развеять тьму невежества и предрассудков. Он не боялся браться за обсуждение самых серьезных мировоззренческих вопросов, хотя, быть может, порой делал это поспешно, далеко отрываясь от фундамента достоверных научных знаний. Он, наконец, видел в науке великую гуманизирующую силу и едва ли согласился бы считать плоды своей деятельности — знания — всего лишь средством для достижения каких-то внешних по отношению к науке, сугубо утилитарных целей. В условиях бурной профессионализации эта система ценностей «малой науки» на какое-то время отступила на второй план, но все же ее влияние продолжало сохраняться.
| Ценности науки и проблема социальной ответственности
Следующий этап социальной институционализации науки можно отсчитывать со времени окончания Второй мировой войны. Он продолжается и в наши дни. Для этого этапа характерно новое изменение и расширение социальных функций науки; соответственно изменяются и нормативно-ценностные ориентиры научной деятельности.
На предыдущем этапе, как мы видели, особенно интенсивным стало применение научных знаний в качестве технико-технологических, организационных и т. п. средств человеческой деятельности. При этом широкое распространение получили воззрения, согласно которым наука ограничивается сферой средств, а потому непричастна к целям, которые ставят перед собой люди и ради достижения которых они применяют эти средства.
Однако дальнейшие события показали, что это не так. Действительно, реальное соотношение целей и средств в деятельности человека и общества не допускает столь жесткого разграничения. Цели, которые преследуют люди, определяются не только их желаниями, стремлениями и интересами, но также и тем, какими средствами они располагают. Ставя перед собой те или иные цели, если эти цели — не просто плод безудержной фантазии, люди обычно ориентируются на уже имеющиеся или реально доступные средства деятельности.
Таким образом, характер и масштабы человеческой деятельности, ее цели и задачи в самой существенной степени зависят от тех средств, которые созданы человечеством. И если поставленная цель обусловливает выбор средств для ее достижения, то и наоборот, совокупность доступных средств деятельности предопределяет горизонт реально достижимых в данных условиях целей.
В этой связи можно привести такой пример. Компьютеры первоначально создавались как средство для ускорения и автоматизации громоздких рутинных расчетов. Однако по мере того, как они усложнялись и совершенствовались методы работы с ними, круг целей и задач, решаемых с помощью этого средства, непрерывно расширялся. И, что особенно важно, стало возможным ставить такие цели — скажем, машинный перевод с одного языка на другой, управление транспортными средствами, диагностика различных заболеваний и многое другое, что в докомпьютерную эпоху невозможно было и помыслить.
Если же принять во внимание, что наука стала источником поистине безбрежного и неуклонно расширяющегося многообразия новых средств деятельности, то станет ясно, что уже в силу одного этого она существенным образом участвует и в определении тех целей, которые люди ставят перед собой и считают достижимыми. Скажем, сегодня, после серии ярких открытий в области молекулярной генетики, люди уже не только в порывах безудержной фантазии, а вполне серьезно начинают задумываться о возможности продления человеческой жизни до двухсот, трехсот и более лет!
Таким образом, в современном обществе наука, наряду с рассмотренными ранее функциями, все более активно вовлекается в функцию целеполагания. Это вовсе не значит, что наука начинает диктовать человеку цели — речь идет о том, что ныне человек и общество, ставя перед собой цели, вполне могут опираться, а очень часто и действительно опираются, на те возможности, которых имеет смысл ожидать именно от науки.
Но развитие науки не только создает новые средства и позволяет ставить новые цели, расширяя тем самым возможности человека. Наряду с этим в последние десятилетия человечество все чаще сталкивается с новыми, часто чрезвычайно масштабными и серьезными, вплоть до глобальных, проблемами, которые порождает прогресс науки и техники. Парадоксальным образом этот прогресс усиливает не только могущество, но и уязвимость как самого человека, так и мира, в котором он живет.
В этой связи можно сослаться на три примера. Первый из них относится к периоду Второй мировой войны. Это —- серия достижений в области физики, приведшая к созданию оружия массового уничтожения — сначала атомной, а потом водородной бомбы. Первое же применение атомного оружия в августе 1945 г., когда США подвергли бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки, привело к колоссальным жертвам среди мирного населения. Впоследствии испытания ядерного оружия сопровождались радиоактивным поражением людей, оказывавшихся поблизости от места взрыва (причем порой это делалось намеренно), а также заражением огромных территорий и значительным экологическим ущербом.
Последующее развитие событий поставило перед человечеством такие проблемы, как необходимость ограничения испытаний ядерного оружия и его распространения, а также и контроля за использованием атомной энергии в мирных целях. Стало ясно, что не только применение и испытания ядерного оружия, но и неосторожное, бесконтрольное применение энергии атома в мирных целях ставят под вопрос сохранение человечества и всего живого на планете. Осуществление такого контроля потребовало формирования новых сфер человеческой деятельности.
Другой пример — примерно в те же годы, вскоре после окончания Второй мировой войны, мир узнал о жестоких научных экспериментах над узниками концентрационных лагерей, которые проводились нацистской Германией и фашистской Японией. При этом на Нюрнбергском процессе, на котором подсудимыми стали немецкие биологи и медики, руководившие проведением таких исследований, один из основных аргументов защиты состоял в том, что исследования проводились во имя прогресса науки. В результате со всей остротой встала проблема: насколько далеко могут идти исследователи, преследуя интересы науки, и существуют ли на этом пути какие-нибудь моральные барьеры?
Составной частью судебного вердикта Нюрнбергского трибунала стал документ, получивший известность как Нюрнбергский кодекс. Он стал первым, но далеко не последним международным документом, зафиксировавшим этические нормы проведения исследований с участием человека в качестве испытуемого. Сегодня этический и юридический контроль такого рода исследований также стал самостоятельным и весьма разветвленным видом деятельности.
И еще один пример. Хорошо известно, что бурный научно-технический прогресс составляет одну из главных причин таких опасных явлений, как вызывающее тревогу истощение природных ресурсов планеты, растущее загрязнение воздуха, воды, почв. Следовательно, наука весьма причастна к тем радикальным и далеко не безобидным изменениям, которые происходят сегодня в среде обитания человека.
И сами ученые отнюдь не скрывают этого. Больше того, именно они были в числе тех, кто стал первым подавать сигналы тревоги, именно они первыми увидели симптомы надвигающегося кризиса и привлекли к этой теме внимание политических и государственных деятелей, хозяйственных руководителей, общественного мнения. Научным данным, далее, отводится ведущая роль в определении масштабов экологической опасности.
Наука, таким образом, не только обслуживает человека плодами своих открытий и привлекает своими перспективами, но и заставляет его беспокоиться за свое будущее, требует от него решений и действий. Возникновение экологической опасности и ее обнаружение; первые формулировки проблемы и последующие ее уточнения; выдвижение целей перед обществом и создание средств для их достижения — все здесь оказывается замкнутым на научную деятельность.
Таким образом, пронизав сначала сферу средств деятельности и укоренившись здесь, наука затем стала затрагивать и самые основания человеческой деятельности. Ее участие отныне далеко не ограничивается той стадией, когда смысл и цели деятельности уже заданы, очерчены и определены и надо лишь найти надлежащие средства. Напротив, она заявляет о себе и в момент определения смысла и выбора цели.
Но если признать, что научное знание причастно к определению смысла и целей человеческой деятельности, то отсюда с неизбежностью следует, что и тезис о ценностной и моральной нейтральности науки вовсе не безупречен. Ведь людские ценности с наибольшей полнотой проявляются именно тогда, когда люди определяют смысл и цели того, что они делают.
Ущербность позиции, утверждающей ценностную нейтральность науки, с особой остротой обнаруживается тогда, когда плоды научного прогресса несут людям зло. Подобное случилось, например, после уже упоминавшихся событий — атомной бомбардировки японских городов. Эхо этих взрывов достигло и сообщества физиков, поставив их перед сложным моральным выбором.
Ценности и установки профессиональной науки подсказывали им путь, позволявший снять с себя бремя социальной ответственности. Для этого достаточно было прибегнуть к спасительной мысли о том, что ученые — лишь поставщики средств, и их не касается то, как эти средства используются. Однако тогдашняя критическая ситуация обнаружила, что на деле власть этих нормативных стандартов далеко не безгранична и что идеалы «малой науки» прошлого вовсе не выветрились под напором приземленных ценностей «большой науки».
Как сообщество физиков в целом, так и его признанные лидеры заняли тогда социально ответственную позицию. Им, правда, не удалось, несмотря на все их усилия, на обращение к политикам с призывом не применять ядерное оружие против мирных жителей, предотвратить катастрофу. Но у событий тех дней был и еще один итог — ценностные установки профессиональной науки продемонстрировали свою ограниченность, неадекватность реальной роли науки и ученых в обществе, в то время как проблематика их социальной ответственности стала неотъемлемой составной частью существования и развития науки. И именно активность мирового сообщества физиков в конечном счете привела к тому, что в 1960-е гг. был заключен международный договор о запрещении ядерных испытаний на земле, в воздухе и под водой.
Нежелание ученых брать на себя бремя социальной ответственности за последствия того, что ими порождено, — не такая уж редкость. Важно, однако, то, что подобная позиция воспринимается отнюдь не как естественная и единственно возможная.
Одно из оснований социальной ответственности ученого состоит в следующем. Сегодня уже ни для кого не секрет, что достижения науки далеко не всегда несут благо людям. Довольно часто они порождают новые проблемы и трудности, порой весьма серьезные. Между тем никто не в состоянии настолько глубоко и полно предвидеть эти негативные последствия, насколько это доступно ученым.
Принято считать, что последствия исследований, особенно фундаментальных, часто непредсказуемы. Это действительно так, но в современных условиях специальные усилия, направленные на то, чтобы заранее предвидеть возможные последствия применения научных достижений, стали социально необходимыми. И именно ученые могут раньше и более серьезно, чем кто-либо другой, эффективно приложить эти усилия. Большая информированность, осведомленность ученых накладывает на них особую социальную ответственность.
В целом же нынешний этап институционализации науки можно охарактеризовать как этап, на котором проблемы социальной ответственности науки занимают все более заметное место. Ушли в прошлое как те времена, когда научную деятельность как таковую можно было считать безусловным благом, так и те, когда она могла представляться ценностно-нейтральной, лежащей «по ту сторону добра и зла». Научное сообщество, получающее сегодня солидную долю ресурсов общества, поставлено перед необходимостью постоянно, снова и снова демонстрировать обществу и то, что блага, которые несет людям прогресс науки, перевешивают его негативные последствия, и то, что оно, сообщество, озабочено возможностью таких последствий и стремится предупредить их либо, если они уже стали реальностью, нейтрализовать их негативные эффекты.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ЕГО МОРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Интерес к проблемам социальной ответственности науки возник, конечно, отнюдь не сегодня, однако в последние десятилетия эта область изучения науки предстала в совершенно новом свете.
Говоря об общей направленности этих сдвигов, отметим, что вплоть до середины прошлого столетия проблемы социальной ответственности науки и ученых не были, вообще говоря, объектом систематического изучения. Их обсуждение часто носило оттенок необязательности, порой сбивалось в морализирование и потому нередко представлялось плодом досужих рассуждений. Такие рассуждения могли быть ярким выражением гуманистического пафоса и озабоченности автора, но они, как правило, мало соотносились с реальной практикой научных исследований.
Этические вопросы и этические оценки при этом касались науки в целом, а потому не могли оказывать прямого влияния на деятельность конкретного исследователя, на формирование и направленность его научных интересов. Было бы, впрочем, ошибкой считать, что они не имели значения — их роль в процессе становления современной науки несомненна. Ведь в ходе этого процесса наука, помимо всего прочего, должна была получить и моральную санкцию — обоснование и оправдание перед лицом культуры и общества.
И сегодня, когда спектр социальных воздействий науки быстро расширяется, когда непрерывно увеличивается число каналов, связывающих науку с жизнью общества, обсуждение ее этических проблем остается одним из важных способов выявления ее изменяющихся социальных и ценностных характеристик. Однако ныне попытки дать недифференцированную, суммарную этическую оценку науке как целому оказываются — независимо от того, какой будет эта оценка, положительной или отрицательной, — все менее достаточными и конструктивными. Те стадии развития науки и социально-культурного развития, когда можно было оспаривать необходимость самого существования науки как социального института, ушли в прошлое.
Из этого отнюдь не следует, что наука больше вообще не может быть объектом этической оценки, что единственная оставшаяся перед людьми перспектива — это слепо поклоняться научно-техническому прогрессу, но возможности адаптируясь к его многочисленным и не всегда благоприятным последствиям. Просто такая оценка должна быть более дифференцированной, относящейся не столько к науке в целом, сколько к отдельным направлениям научного познания. Именно здесь морально-этические суждения и оценки не только могут, но и действительно играют вполне серьезную роль.
Таким образом, по мере прогресса науки и появления все новых технологий этические проблемы науки становятся все более конкретными и резко очерченными. В то же время имеет место и противоположная тенденция — проблемы социальной ответственности науки и ученых не только конкретизируются, но и в определенном смысле универсализируются. Они возникают в самых разных сферах познания, а следовательно, едва ли можно считать, что какая-либо область науки в принципе и на все времена гарантирована от столкновения с этими проблемами.
Мы уже отмечали, что фундаментальные научные открытия непредсказуемы, а спектр их потенциальных приложений чрезвычайно широк и едва ли обозрим. Уже в силу одного этого нет оснований говорить о том, что этические проблемы являются достоянием лишь некоторых областей науки, что их возникновение есть нечто исключительное и преходящее, внешнее и случайное для развития науки.
Вместе с тем было бы неверно видеть в них следствие изначальной, но обнаружившейся только теперь «греховности» науки по отношению к человеку. Такой мотив, заметим, достаточно распространен в современных общественных настроениях, в которых определенное место занимает резко критическое отношение к науке. В целом, однако, тот факт, что эти проблемы становятся неотъемлемой и весьма заметной стороной современной научной деятельности, является, помимо всего прочего, одним из свидетельств развития самой науки как социального института, ее все более возрастающей и многогранной роли в жизни общества.
Ценностные и этические основания всегда были необходимы для научной деятельности. Однако до тех пор, пока ее результаты лишь спорадически оказывали влияние на жизнь человека и общества, можно было удовольствоваться представлением о том, что знание вообще есть благо, а потому сами по себе занятия наукой, имеющие целью приращение знаний, представляют собой этически оправданный вид деятельности.
В современных же условиях достаточно отчетливо обнаруживается односторонность этой позиции, как и вообще бессмысленность обсуждения вопроса о том, является ли наука изначально невинной или изначально греховной. К этому стоит еще добавить, что сам прогресс науки расширяет диапазон таких проблемных ситуаций, в которых предшествующий нравственный опыт человечества оказывается недостаточным.
Например, в связи с успехами реаниматологии появилась возможность возвращать к жизни людей, состояние которых прежде считалось безнадежным. Но при этом особую остроту приобрел вопрос о том, когда человеческое существо следует считать умершим. В 1960-е гг. XX в. был предложен новый критерий смерти, определяющий ее не по необратимой остановке дыхания или кровообращения, а по прекращению фиксируемой энцефалографом мозговой активности.
Необходимость такого критерия была обусловлена тем, что появились возможности с помощью искусственных средств достаточно долго поддерживать дыхание и кровообращение у человеческого организма, необратимо утратившего не только сознание, но и большинство других функций. Однако при этом возник целый веер новых проблем.
Так, родственникам пациентов, оказавшихся в таком состоянии, бывает чрезвычайно тяжело видеть близкого им человека пребывающим в таком состоянии, и потому некоторые из них стали настаивать, вплоть до обращения в суд, на отключении аппаратов жизнеподдерживающего лечения. Кроме того, для проведения таких жизнеподдерживающих мероприятий приходится занимать весьма сложную и дефицитную аппаратуру, которую вследствие этого не удается использовать для того, чтобы вернуть к сознательной и активной жизни других пациентов.
Наконец, примерно в те же годы произошел научный прорыв в еще одном направлении: были достигнуты первые впечатляющие успехи в области трансплантации сердца. Но для проведения этой операции требуется донор, т. е. человеческое существо, сердце у которого живое, но само оно тем не менее является мертвым. Такого рода доноров и позволяет получить упомянутый новый критерий — критерий смерти мозга. С этИхМ критерием, впрочем, далеко не все соглашаются, поскольку он позволяет признавать умершим человеческое существо, у которого поддерживается не только дыхание и кровообращение, но и осуществляются многие другие органические функции и отправления. К тому же высказываются опасения, что с целью получения органов для трансплантации медики могут преждевременно прекращать борьбу за продление жизни умирающего пациента.
Обсуждение возникающих в этой связи острейших моральных проблем продолжается уже многие десятилетия. Дело, однако, не ограничивается одними лишь дискуссиями — в ходе них и во многом благодаря ним разрабатываются и уточняются этические и юридические нормы, регулирующие как жизнеподдерживающее лечение и его прекращение, так и изъятие и использование донорских органов и тканей.
Раздел IV. Этика пари
Начиная с 1970-х гг. не менее острым стало обсуждение того, с какого момента эмбрионального (или постэмбрионального) развития развивающееся существо следует признавать человеком со всеми вытекающими отсюда последствиями. И опять-таки эти дискуссии вспыхнули вследствие научных достижений — на сей раз в области эмбриологии и появления технологий искусственного воспроизводства человеческой жизни.
1 Логика развитии науки и проблемы социальной ответственности
Примечательная особенность развития этики науки в последние десятилетия состоит в том, что это развитие не просто сопровождается острейшими дискуссиями, но, более того, можно сказать, что такие дискуссии являются формой ее существования. Одна из таких дискуссионных тем — основания и границы социальной ответственности ученых. Следует подчеркнуть, что то или иное толкование проблем социальной ответственности в существенной мере определяется пониманием природы науки и научного познания.
Например, наука может рассматриваться только как сложившаяся к данному моменту система соответствующим образом обоснованных знаний без учета всех тех человеческих и социальных взаимодействий, в которые вступают люди по поводу создания и применения этих знаний. В таком случае отдельный ученый выступает лишь как безликий агент, через посредство которого действует объективная логика развития науки. Этот агент — познающий субъект -— осуществляет познавательное отношение к действительности, что предполагает с его стороны «чистое», совершенно не заинтересованное и бесстрастное изучение познаваемого объекта. Всякое же проявление личностных, субъективных качеств исследователя понимается при этом исключительно как источник помех и ошибок.
Понятие «чистого» познавательного отношения, однако, является абстракцией, позволяющей выделять и изучать отдельные стороны научного познания, и, как
Глава ч. Научнп-твкничвский прогресс и его моральные проблемы
всякая абстракция, оно может давать лишь одностороннее представление о рассматриваемом объекте. Смысл этой абстракции и состоит в том, что она позволяет при анализе познавательной деятельности отвлечься от ценностных, и в том числе от этических, моментов этой деятельности. Благодаря этому мы получаем упрощенную картину науки, которую можно сравнить с проекцией объемной фигуры на плоскость.
Если, однако, абстракция познавательного отношения начинает применяться за пределами сферы своей обоснованности, если она мыслится по сути дела как выражение специфики научного познания, то мы, естественно, лишаемся оснований апеллировать при рассмотрении науки к моральным критериям. Очевидно, при таком понимании науки вопрос о социальной ответственности ученого в значительной степени снимается — место социальной ответственности занимает та самая объективная логика развития, т. е. развертывания безличного познавательного отношения.
Эта логика — которая, заметим, в реальных исследованиях науки всегда реконструируется задним числом — оказывается неким неумолимым и слепым механизмом, однозначно детерминирующим познавательную деятельность ученого. На нее, а не на него в таком случае возлагается и вся ответственность.
Сказанное не следует понимать как отрицание того, что процесс развития науки обладает своей внутренней логикой, или того, что получение объективного знания о мире является одной из главных ценностей, ориентирующих познавательную деятельность ученого. Речь идет о том, что эта логика реализуется не вне ученого, не где-то над ним, а именно в его деятельности.
Каждое значительное научное достижение, как правило, открывает целый спектр новых путей исследования, о которых до него едва ли можно было догадываться. А это значит, что логика науки не так прямолинейна и однозначна, и уж во всяком случае она не является однозначной. Она задает предпосылки и условия протекания творческой деятельности ученого, но никоим образом не отменяет последней. В конце концов, научное знание порождается вполне конкретной научной деятельностью, которую осуществляют реальные исследователи и исследовательские коллективы. А эта деятельность, будучи деятельностью человеческой, является тем самым и законным объектом этической оценки.
Таким образом, дилемма «объективная логика развития науки или социальная ответственность ученого» оказывается некорректной — ни один из членов этой оппозиции не отменяет другого. Аргументы, при помощи которых они противопоставляются друг другу, при всей их видимой естественности опираются не столько на само по себе объективное положение дел, сколько на определенное — и притом, как мы видели, одностороннее — истолкование науки и научного познания.
Но тем самым теряют убедительность и основанные на этой оппозиции доводы такого, например, характера: «Если этого не сделаю я, то сделает кто-то другой — ведь если все-таки это сделаю я, то именно я (а не объективная логика и не кто-то другой) буду и ответственным за это». Характерно, кстати, что подобные доводы едва ли будут сочтены оправданиехМ в том случае, когда речь идет об ошибках при проведении эксперимента или в доказательстве. Конечно, всегда существует возможность ошибок. Но это не освобождает от критики того, кто совершает ошибку.
Более того, нормы, действующие внутри научного сообщества и определяющие профессиональные взаимоотношения между учеными, идут в этом смысле еще дальше. Ученый, по словам американских социологов Т. Парсонса и Н. Сторера, «не может оправдать ошибку в своей работе, сославшись на то, что позаимствовал ее у другого, поскольку с самого начала он должен был быть скептически настроен по отношению к чужой работе».
В Использование научных достижений и проблема, социальной ответственности
В современных дискуссиях по проблемам социальной ответственности науки часто встречается и другая дилемма. В этом случае место объективной логики науки занихмают столь же анонимные социальные силы. Утверждается, что наука сама по себе этически нейтральна, а антигуманное использование ее достижений целиком и полностью обусловлено теми социальными силами (скажем, политическими властями или бизнесом), которые контролируют практическое применение результатов научных исследований. Интересно отметить, что в тех случаях, когда речь идет о позитивных последствиях использования научных достижений, проводить такую линию рассуждений обычно забывают — здесь-то уж ответственной оказывается именно наука.
Конечно, в значительной мере аргументация, отсылающая к тем силам, которые в состоянии контролировать использование результатов научных исследований, справедлива. Однако и в этом случае вопрос о социальной ответственности науки и ученого нельзя сбрасывать со счетов. Отказ рассматривать вопрос о социальной ответственности, ссылаясь на действие внешних социальных сил, не является достаточным основанием для того, чтобы переложить бремя морального выбора и ответственности за выбор на эти силы. Ведь сам такой отказ уже является актом выбора, и этот акт выбора и подлежит этической оценке.
В конечном счете, каждый научный результат независимо от того, какое практическое применение он получает, представляет собой индивидуальный вклад конкретного ученого либо конкретного научного коллектива, да и сами социальные силы действуют через посредство людей. Напомним, что Нюрнбергский трибунал признал ответственными тех биологов и медиков, которые «во имя прогресса науки» проводили бесчеловечные эксперименты над узниками. Не освободило их от ответственности и то, что они называли себя только орудием в руках нацистского режима. Разумеется, в данном случае речь шла о юридической, а не моральной ответственности. Но значит ли это, что их эксперименты были нейтральными с этической точки зрения?
Обратим внимание на то, что и в рамках этой дилеммы познавательные моменты научной деятельности обособляются от ценностно-этических и противопоставляются им, хотя здесь подчеркивается скорее инструментальная, чем содержательная сторона научного познания. Результатом же — если эту линию рассуждений проводить последовательно — оказывается то, что научная деятельность выступает как деятельность несамостоятельная, служебная, вторичная. Что касается ученого, то в этой ситуации он не может быть ответственной и суверенной в своих действиях личностью, а превращается в интеллектуальное орудие социальных сил.
Впрочем, до такого вывода сторонники этой позиции обычно не доходят, поскольку он вступает в очевидное противоречие не только с внешней, но и с внутренней этикой науки. Действительно, статус и авторитет ученого в пределах научного сообщества определяется прежде всего именно его личным вкладом в развитие той или иной научной дисциплины — он, стало быть, оказывается ответственным за то, что им сделано. И эта норма является мощным стимулом в деятельности ученого.
Аргументация в пользу того, что перспективы практического применения научных достижений определяются не самими учеными, а исключительно внешними социальными силами, очень часто выражается в форме так называемого «технологического императива». Согласно этому императиву все то, что становится для человечества технически возможным, непременно реализуется практически. Порой его смысл передается и утверждением о том, что прогресс науки остановить невозможно, так что всегда найдутся силы, готовые реализовать любые, даже самые рискованные и опасные, научные проекты. При этом явно или неявно предполагается, что уделом людей остается лишь приспособление, насколько оно вообще достижимо, к тому, что порождают все новые и новые джинны, выпускаемые учеными из своих пробирок.
Этот технологический императив наделе есть всего лишь предубеждение, хотя и весьма распространенное, но тем не менее не опирающееся на какое бы то ни было фактическое обоснование. Существует нема-
Глава 4. Нзучнр -твхннчвЕкий прогресс н егв моральные проблемы
ло такого, что осуществимо технически и тем не менее не реализуется, в том числе по моральным соображениям.
Общество в целом вовсе не склонно фаталистически соглашаться с «технологическим императивом», так что уже достаточно давно предпринимаются попытки так или иначе воздействовать на процессы принятия новых технологий. В этой связи имеет смысл сказать о деятельности по оценке технологий, которая достаточно эффективно развивается на протяжении последних десятилетий. При этом речь идет не столько о прямом запрете опасных технологий, сколько о том, чтобы по возможности постараться заранее предусмотреть возможность негативных эффектов и минимизировать, если не вовсе элиминировать, их.
Итак, мы можем сделать вывод о том, что и в оппозиции «социальные силы или ответственность ученого» оба ее члена не исключают друг друга. И в этом случае их резкое противопоставление опирается на вполне определенное —- и опять-таки одностороннее — истолкование науки и научного познания. Говоря об этом, необходимо подчеркнуть, что было бы ошибкой абсолютизировать и считать всемогущим мотив социальной ответственности ученых, поскольку такая абсолютизация чревата той же самой односторонностью и опасностью неадекватного восприятия науки. Речь идет лишь о том, что социальная ответственность представляет собой одну из неотъемлемых сторон мира науки.
В этой связи имеет смысл привести слова выдающегося отечественного биолога В.А. Энгельгардта. «Нет сомнения, — отмечал он, — что в случае глобальных проблем, кризисов ученым не раз придется обращаться к своей совести, призывать чувство ответственности, чтобы найти правильный путь преодоления возникающих угроз. И, разумеется, дело общественной совести ученых мира, общей ответственности — всемерно бороться с причинами, вызывающими вредные, губительные последствия, направлять научные поиски на исправление вреда, который сама наука, не взвесив и не учтя возможных последствий, могла принести».
| Свобода исследований и социальная ответственность
Одной из весьма острых тем, обсуждаемых в дискуссиях по вопросам социальной ответственности, является свобода научных исследований. В частности, нередко высказывается мнение, будто вопрос о социальной ответственности касается только прикладных исследований и не распространяется на исследования фундаментальные.
В пользу этой точки зрения приводятся такие аргументы: во-первых, результаты, а тем более возможные области и направления практического приложения фундаментальных исследований непредсказуемы; во-вторых, всякое вмешательство, затрагивающее направление и методы фундаментальных исследований, нарушает принцип свободы научного поиска.
Действительно, результаты и приложения фундаментальных исследований очень часто непредсказуемы. Тем не менее мы с большой долей уверенности можем предполагать, что результаты сегодняшних фундаментальных исследований довольно быстро найдут самые разнообразные применения, причем эти применения, вполне вероятно, будут иметь и негативные стороны,
И хотя ученые могут не знать, каковы будут практические последствия того или иного открытия, они слишком хорошо знают, что «знание— это сила», и притом далеко не всегда добрая, а потому должны стремиться к тому, чтобы предвидеть, что принесет людям то или иное открытие. Ведь при наличии такого стремления больше шансов своевременно распознать возможные нежелательные эффекты.
Наученное горьким опытом, человечество постепенно усваивает ту истину, что гораздо более эффективный и безопасный путь — стараться предотвратить негативные последствия новых технологий, чем тратить ресурсы на минимизацию таких последствий тогда, когда они в полной мере проявятся. В последние годы активность, направленная на такое упреждающее реагирование, приобретает систематический характер.
Широкое признание, в частности, получает «принцип предосторожности».
В соответствии с этим принципом, коль скоро предлагается использование новой технологии, и при этом у кого-то возникают разумные сомнения в ее безопасности, то бремя доказательства ее безопасности ложится на того, кто предлагает ее ввести. Конечно, абсолютно безопасных технологий не существует, так что на практике достаточно будет показать, что риск пренебрежимо мал по сравнению с предполагаемыми положительными эффектами новой технологии.
Таким образом, принцип предосторожности становится платформой для предварительной оценки новых технологий. Следует еще раз обратить особое внимание на то, чего не было 30 и даже 20 лет назад: сегодня вопрос о безопасности новой технологии ставится не задним числом, не тогда, когда ее применение уже привело к негативным эффектам, которые приходится так или иначе исправлять. Конечно, такого рода деятельностью человечеству приходится много заниматься сейчас, да и в будущем исправление сделанных ранее ошибок будет требовать немало сил и средств. Тем не менее сегодня акцент ставится на том, чтобы предупредить негативное развитие событий, в чем и состоит смысл принципа предосторожности. Наряду с этим можно зафиксировать и следующую тенденцию: предварительная оценка безопасности новых технологий, их экспертиза проводится не от случая к случаю, она обретает черты специально организованной и регулярно осуществляемой деятельности.
Что касается вопроса о свободе исследований, то здесь необходимо отметить следующее. Прежде всего , подчеркнем, что эта свобода — одна из очень значимых ценностей современной цивилизации, утвердившаяся в таком высоком статусе в ходе длительного и трудного процесса институционализации науки, о котором мы уже подробно говорили. Отметим также и то, что отечественные ученые чрезвычайно болезненно реагируют на попытки ограничения этой свободы. И тому есть основания: в советское время, как известно, развитие многих в высшей степени перспективных областей исследований тормозилось и даже запрещалось по идеологическим соображениям. При этом те, кто работал в таких областях, нередко подвергались жесточайшим репрессиям. Особенно большой урон претерпели такие области науки, как генетика и кибернетика.
И хотя с тех пор прошло несколько десятилетий, в научном сообществе жива память об этом идеологическом диктате. Поэтому принципиально важно, что в Конституции России содержится норма, гарантирующая свободу научного поиска. Это значит, что свобода научного поиска имеет в нашей стране высокую степень законодательной защищенности. Говоря более конкретно, ограничение этой свободы в каждом случае должно не только специально обосновываться, но и вводиться законодательным путем.
К примеру, в российской Конституции содержится и такая норма, согласно которой «никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам». Данная норма ограничивает возможность проведения исследований с участием человека в качестве испытуемого такими случаями, когда сам испытуемый (или его законный представитель) дает на то согласие.
Еще один пример: в 2002 г. был принят закон о временном (сроком на 5 лет) запрещении клонирования человека. Принятие этого запрета законодательным путем потребовалось именно потому, что он опять-таки ограничивает свободу исследований. При этом закон о запрете клонирования четко и определенно фиксирует, какие именно исследования в области клонирования подлежат запрету.
Отметим, далее, следующее. Современные фундаментальные исследования, как правило, требуют совместного труда больших научных коллективов, и сопряжены со значительными материальными затратами. И это — хотим мы того или не хотим — накладывает неизбежные ограничения на свободу исследования.
Не менее существенно и то, что нынешняя наука — это не просто любознательность одиночек, но достаточно сложный социальный институт, оказывающий серьезное воздействие на жизнь человека и общества. Поэтому идея неограниченной свободы, некогда бывшая безусловно прогрессивной, ныне уже не может приниматься без учета той социальной ответственности, с которой должна быть неразрывно связана эта свобода.
Вообще же говоря, само противопоставление свободы исследования как требования, идущего изнутри научной деятельности, и социальной ответственности как того, что налагается на эту деятельность извне, опирается на весьма узкое понимание научной деятельности, ее мотивов и способов осуществления. Конечно, наука есть поиск истины. Но это именно искание, процесс, требующий усилий, напряжения, а не созерцание где-то вне мира бытующей истины. Поэтому и путь к истине есть научная, но вместе с тем и человеческая деятельность, которую осуществляет человек как целое, а не какие-то абстрагированные от него способности или интересы.
Вопрос о свободе исследований, о том, как она должна пониматься, был одним из центральных в ходе развернувшихся в середине 70-х гг. прошлого столетия дискуссий вокруг экспериментов в области генной инженерии, в частности — работ с рекомбинантной ДНК. Кульминационным моментом стал призыв группы молекулярных биологов и генетиков во главе с П. Бергом (США) объявить добровольный мораторий на такие эксперименты в этой области, которые могут представлять потенциальную опасность для генетической конституции живущих ныне организмов. Высказывались опасения относительно того, что созданные в лаборатории рекомбинантные (гибридные) молекулы ДНК, способные встроиться в гены какого-либо организма и начать действовать, могут породить совершенно невиданные и, возможно, потенциально опасные для существующих видов формы жизни.
Объявление моратория явилось беспрецедентным событием для науки: впервые ученые по собственной инициативе решили, ограничив собственную свободу, приостановить исследования, сулившие им колоссальные успехи. После того, как мораторий был объявлен, ведущие ученые в этой области разработали целую систему мер предосторожности, обеспечивающих безопасное проведение исследований.
Этот пример показателен в том смысле, что ученые, обращаясь с призывом к коллегам и к общественному мнению, впервые пытались привлечь внимание не обещанием тех благ, которые можно ожидать от данной сферы исследований, а предупреждением о возможных опасностях. Таким образом, проявление обеспокоенности и социальной ответственности оказалось не только общественно приемлемой, но и общественно признаваемой и, более того, общественно стимулируемой формой поведения ученых.
Впоследствии выяснилось, что потенциальные опасности экспериментов в целом были преувеличены. Однако это вовсе не было очевидным тогда, когда выдвигалось предложение о моратории. И те знания о безопасности одних экспериментов и об опасности других, которыми располагает ныне наука, сами явились результатом научных исследований, проведенных для оценки риска именно вследствие моратория. Благодаря мораторию были получены новые научные данные, новые знания, новые методы экспериментирования, позволившие разделить эксперименты на классы по степени их потенциальной опасности, а также разработать методы получения ослабленных вирусов, способных существовать только в искусственной среде лаборатории.
В ходе дискуссий вокруг моратория высказывались самые различные точки зрения. Наряду с защитой абсолютно ничем не ограничиваемой свободы исследований была представлена и диаметрально противоположная точка зрения — предлагалось регулировать науку так же, как регулируются железные дороги. Между этидми крайними позициями находится широкий диапазон мнений о возможности и желательности регулирования исследований с тем, чтобы при их проведении соблюдались определенные этические нормы.
Таким образом, свобода исследований рассматривается не как абсолютное право, а как то, что должно быть связано с определенными ограничениями и с ответственностью ученых перед обществом. А это значит, что и дилемма «свобода исследований или социальная ответственность» оказывается некорректной — ни один из членов оппозиции не исключает другого. Само существование и развитие науки сегодня попросту невозможно без тех или иных форм и норм регулирования (в том числе этического) исследований и вообще научной деятельности.
| Этическое регулирование научных исследований
Одной из примечательных особенностей современной науки является то, что тем, кто связан с нею, приходится все чаще и все основательней заниматься этическими проблемами. Никогда в прошлом не было такого, чтобы исследователям и администраторам науки в своей повседневной деятельности приходилось тратить столько внимания, времени и сил не только на обсуждение этих проблем, но и на попытки найти то или иное их решение. Никогда в прошлом не было и такого, чтобы научные исследования и их приложения оказывались объектом столь интенсивного и детального регулирования — не только этического, но и юридического. Сегодня принимается несметное количество нормативных актов — как внутри-, так и межведомственных, как национальных, так и международных, призванных обеспечить такое регулирование.
Средоточием наиболее острых этических проблем при этом оказывается биомедицина. Сегодня она является одной из фокальных точек развития науки — тех точек, в которых раньше или же более рельефно, чем во всех других, проявляются многие глобальные тенденции, значимые для науки в целом.
В частности, нынешний бурный прогресс биомедицины в концентрированном виде отражает важную тенденцию в развитии науки (да и техники) в последние десятилетия — ее неуклонное приближение к человеку, к его потребностям, устремлениям, чаяниям. В результате происходит, если можно так выразиться, все более плотное «обволакивание» человека наукой, его погружение в мир, проектируемый и обустраиваемый для него наукой и техникой. Конечно, дело при этом вовсе не ограничивается одним лишь «обслуживанием» человека — наука и техника приближаются к нему не только извне, но и как бы изнутри, в известном смысле делая и его своим произведением, проектируя не только для него, но и самого же его. В самом буквальном смысле это делается в некоторых современных генетических, эмбриологических и т. п. биомедицинских исследованиях, например, в тех, которые связаны с клонированием.
Такое приближение науки к нуждам человека, впрочем, происходит отнюдь не безболезненно — за все приходится платить. Одна из наиболее серьезных составляющих этой платы — то, что возникает необходимость специально исследовать и сами потребности и нужды человека, и пути и способы их удовлетворения. А это, в свою очередь, означает, и возникновение насущной потребности в проведении все новых и новых экспериментов на человеке — именно для того, чтобы выяснить, как можно улучшить условия его жизни.
Сам человек, таким образом, во все большей степени становится объектом самых разнообразных научных исследований. И в той мере, в какой на нем начинает концентрироваться мощь научного познания, в какой наукой разрабатываются все новые, все более тонкие и эффективные средства воздействия на него, возрастает риск и опасности, которым он подвергается. Следовательно, актуализируется задача защиты человека, ради которого осуществляется прогресс науки и техники, от негативных последствий того же самого прогресса. В результате резко обостряется необходимость выявлять такие последствия и тем или иным образом реагировать на них.
Таким образом, научные исследования сегодня во все больших масштабах направляются на познание, с одной стороны, самых разных способов воздействия на человека и, с другой стороны, возможностей самого человека. Наиболее характерным выражением и того, и другого как раз и являются многочисленные экспе-
Глана 4. Научир-твхнический нрвгресс и его моральные нройдемы
рименты, в которых человек участвует в качестве испытуемого. Каждый такой эксперимент, вообще говоря, призван расширить наши познания о свойствах того или иного препарата, устройства, метода воздействия на человека и т. п. Необходимость его проведения при этом бывает обусловлена потребностями развития какого-то конкретного раздела биологии, медицины или другой области знания.
Можно констатировать: чем больше наука претендует на то, что она служит интересам и благу человека, тем более значительную роль в ней должны играть исследования с участием человека. Но участие в таких исследованиях всегда сопряжено с большим или меньшим риском для испытуемых. Таким образом, мы оказываемся в ситуации конфликта интересов. С одной стороны, исследователь, стремящийся к получению нового знания; с другой стороны, испытуемый, для которого на первом месте — терапевтический эффект, скажем, излечение недуга. Ради этого эффекта, собственно, он и соглашается стать испытуемым.
Если вернуться к тому времени, когда мировое сообщество впервые озаботилось этикой проведения исследований с участием человека в качестве испытуемого, то можно заметить следующее. Одна из ключевых норм Нюрнбергского кодекса 1947 г. заключалась в том, что всякое такое исследование вследствие сопряженного с ним риска для испытуемого может быть оправдано лишь крайней необходимостью. Иными словами, оно допустимо только тогда, когда просто нет никакого иного пути получения крайне важных для общества или для науки знаний.
В Нюрнбергском кодексе, как и в Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации 1964 г. (другом важнейшем международном документе, на основании которого осуществляется этическое регулирование исследований и который по мере развития практики исследований не раз пересматривался) предполагается, по крайней мере неявно, что эксперимент на человеке — это вариант, на который приходится идти, как правило, в исключительных случаях, когда не существует иных возможностей для получе-
Раздел Iv ". Этика падки
ния нового и важного знания. Отсюда бытующая среди медиков исполненная горькой иронии характеристика человека, выступающего в роли испытуемого, как животного по необходимости (animal of necessity): бывают ситуации, когда столь ценные знания нельзя получить, экспериментируя на других животных, так что в какие-то моменты неизбежным оказывается проведение исследования именно на человеке.
С этим же связана и другая общая черта обоих документов: эксперимент в них мыслится как нечто связанное с серьезным, рискованным и даже опасным вмешательством, вторжением в человеческий организм или в психику человека. Именно этот риск физическому и психическому здоровью, целостности и даже жизни испытуемого и является тем, что надлежит минимизировать и по возможности держать под контролем.
С целью контролировать этот риск стали развиваться средства этического регулирования биомедицинских исследований. Ныне существует два основных механизма такого регулирования. Это, во-первых, процедура информированного согласия, которое перед началом исследования дает каждый испытуемый. Так, в статье 43 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» отмечается: «Любое биомедицинское исследование с привлечением человека в качестве объекта может проводиться только после получения письменного согласия гражданина. Гражданин не может быть принужден к участию в биомедицинском исследовании». Во-вторых, в современной практике проведения биомедицинских исследований принято, что каждый исследовательский проект может осуществляться только после того, как заявка будет одобрена независимым этическим комитетом.
Такие структуры этического контроля, первоначально осуществлявшегося исключительно коллегами, впервые возникают в 50-х гг. XX века в США, а в 1966 г. официальные власти страны делают проведение такой этической экспертизы обязательным для всех биомедицинских исследований, которые финансируются из федерального бюджета. Довольно скоро такая экспертиза распространяется также и на исследования, финансируемые из других источников. Оказалось, что, скажем, сама же фармацевтическая компания, когда она испытывает новое лекарственное средство, заинтересована в том, чтобы проект этого испытания получил одобрение этического комитета. Ведь это будет способствовать и укреплению ее авторитета, и улучшению рыночных перспектив испытываемого препарата.
Характерно, что в США, в отличие от большинства европейских стран, обязательной этической экспертизе подлежат не только биомедицинские исследования, но и психологические, антропологические и т. п., коль скоро они проводятся на человеке, а также исследования, проводимые на животных. В 1967 г. этические комитеты начинают создаваться при больницах и исследовательских учреждениях Великобритании, причем первоначально инициатива исходит «снизу», от самих исследователей-медиков.
Следует особо подчеркнуть, что этическая экспертиза защищает не только испытуемых, но и самих исследователей, поскольку позволяет им разделять бремя ответственности — очень часто не только моральной, но и юридической. Порой утверждается и, надо сказать, не без оснований, что все эти детальнейшие процедуры и регламенты этического контроля защищают не столько испытуемых, сколько самого исследователя. Ведь если где-то в протоколах есть запись о том, что испытуемые были предупреждены о возможном риске или негативных последствиях, при наступлении таких последствий к нему трудно будет предъявить претензии. По мере осознания этой защитительной роли экспертизы само научное сообщество начинает относиться к ней — несмотря на то, что ее проведение требует немалых дополнительных затрат времени и энергии — все более терпимо и даже благосклонно.
С расширением практики биомедицинских исследований совершенствовалась и усложнялась деятельность этических комитетов. Ныне вопросы их структуры, функций, статуса, состава, полномочий и т. п. разработаны до мельчайших деталей. Таким образом, прямое, непосредственное воздействие этических норм на научное познание является сегодня не прекраснодушным пожеланием, но повседневной реальностью, можно даже сказать — рутиной, с которой приходится иметь дело множеству людей.
Обязательность этической экспертизы для исследований с участием человека влечет за собой принципиально важное для научно-познавательной деятельности следствие. Обратим внимание на то, что при проведении биомедицинского исследования, точнее, при его планировании, даже при выработке его замысла, общей идеи исследователю необходимо иметь в виду, что возможность практической реализации получит не всякий замысел, будь он даже безупречен в теоретическом, техническом и методологическом отношении. Шанс осуществиться будет только у такого проекта, который сможет получить одобрение этического комитета.
Но это значит, что требования, исходящие со стороны этики, оказываются в числе действенных предпосылок научного познания, что, иными словами, связь между этикой и наукой не только возможна, но и вполне реальна. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы исследователь в явной форме осознавал эту этическую нагруженность своего замысла. В той мере, в какой практика этической экспертизы становится обыденной, эти представления об этической реализуемости начинают переходить в ранг априорных посылок мышления и деятельности исследователя.
Поскольку каждое исследование должно пройти этическую экспертизу, постольку оказывается, что требование его этической обоснованности, этической приемлемости должно быть предпослано исследовательскому проекту. И это позволяет говорить о том, что этические соображения играют не только регулятивную, но и конститутивную роль по отношению к исследовательской практике, то есть они оказываются встроенными в нее, положенными в ее основание. О них уже нельзя говорить как о чем-то привходящем, налагаемом извне на свободный поток научной мысли.
Описанные механизмы этического контроля находят ныне применение даже и в таких исследованиях, которые проводятся без непосредственного воздействия на испытуемого (так что, строго говоря, его и нельзя называть испытуемым). Скажем, если для так называемого эпидемиологического исследования необходимы данные о состоянии здоровья, генетических, биохимических и т. п. характеристиках тех или иных групп населения, то и здесь перед проведением исследования необходимы и процедура информированного согласия, и независимая этическая экспертиза. Это справедливо и для случаев, когда исследуется тот или иной биологический материал (скажем, фрагмент ткани), извлеченный у человека. Природа риска в таких исследованиях совсем другая — речь идет не о защите жизни и здоровья участников таких исследований, а о том вреде, который может быть нанесен им из-за несанкционированного доступа к весьма чувствительной информации частного характера.
Отметим, далее, то обстоятельство, что область биомедицинских исследований, а значит, и этического регулирования, неуклонно расширяется за счет таких воздействий, которые вовсе не имеют целью улучшить здоровье человека. Научно-технический прогресс, который направлен на непосредственное удовлетворение потребностей человека, непрерывно порождает все новые материалы, окружающие нас в быту, приборы и устройства, предметы одежды, продукты питания, средства косметики и многое другое. В принципе каждый такой предмет, прежде чем он будет допущен на потребительский рынок, должен быть проверен на безопасность с токсикологической, экологической и пр. точек зрения. А каждая подобная проверка предполагает проведение испытаний на добровольцах с соблюдением все тех же норм и правил этического контроля. Имеет смысл при этом отметить, что непрерывное обновление всего этого многообразия предметов, а значит, организация все новых исследований является непреложным законом жизни современного предпринимательства. Таким образом, все большая масса того, что делается в науке, технике, бизнесе, вовлекается в орбиту этического регулирования.
Главная задача этического регулирования научных исследований — по возможности оградить человека от сопряженного с ними риска. Именно с этой целью и создаются соответствующие структуры и механизмы. Речь, как мы видим, идет не о благих пожеланиях или отвлеченных умствованиях абстрактных моралистов, а о повседневной научной жизни. В итоге ситуация сегодня такова, что ни одно биомедицинское исследование, которое проводится на человеке, не может быть начато, если оно не прошло этической экспертизы. Иначе говоря, с общим планом и многими деталями его проведения должен ознакомиться независимый этический комитет, и только после того, как он дает добро, это исследование может быть начато.
Что же такое этический комитет? Это — структура, включающая специалистов в той области, в которой проводятся исследования, причем они не должны иметь общих интересов с той группой, которая проводит исследования. Помимо этого в состав комитета включаются представители младшего медицинского персонала, а также посторонние люди — те, кого у нас раньше было принято называть представителями общественности. А это — совершенно новый для науки и весьма интересный момент: то, что предстоит делать исследователям, должно оцениваться не только специалистами, но и людьми без научной квалификации.
Оказывается, таким образом, что для этического обоснования исследования, коль скоро оно проводится с участием человека, необходим посторонний, некомпетентный — «человек с улицы». Если участие человека в исследовании сопряжено с риском, важно, чтобы его цель, а также обстоятельства его проведения, могли быть понятны не только специалистам, но и тем «простым смертным», в интересах которых и предпринимается само исследование. Риск, следовательно, должен быть оправданным не только в глазах исследователя-специалиста, но и в глазах рядового человека, который, вообще говоря, будет воспринимать и пользу, и опасности эксперимента существенно иначе, чем профессионал.
Реальная практика этической экспертизы исследований свидетельствует о неправомерности противопоставления собственно научного поиска, который якобы не подлежит этическим оценкам, и возможных приложений его результатов, которые будто бы только и могут оцениваться с этической точки зрения. Оказывается, что, напротив, и научный поиск вполне может, а во многих случаях и должен руководствоваться, помимо всего другого, моральными критериями и этическими оценками.
Таким образом, развитие современной науки показывает, что обсуждение ее этических аспектов и проблем становится все более актуальным и востребованным как со стороны общества, так и самими учеными, способствуя выявлению, фиксации и оптимальному разрешению возникающих социальных и ценностных коллизий, а также реальных опасностей, таящихся в неподконтрольном мудрому разуму развитии науки. Вместе с тем, очевидно, что центр этического регулирования современной науки должен быть смещен от общих оценок науки в целом с позиции блага и зла к дифференцированной оценке ее отдельных направлений и действий конкретных ученых. Именно при таком подходе морально-этические суждения в науке не только могут, но и должны играть все более важную роль в ее развитии на благо современного общества и будущих поколений.
В Словарь ключевых терминов__________________
Информированное согласие — процедура, в ходе которой испытуемый знакомится с целями, условиями и опасностями, с которыми сопряжено его участие в исследовании, и соглашается (обычно в письменной форме) принять в нем участие.
Оценка технологий — система методов, применяемых для определения того, насколько безопасна в применении будет таили иная новая технология, насколько она эффективна по сравнению с существующими технологиями и какие преимущества может принести ее применение.
Принцип предосторожности — принцип, применяемый при оценке новых технологий перед тем, как дается разрешение на их применение. В соответствии с этим принципом при возникновении разумных сомнений в безопасности новой технологии те, кто ее создал и намерен применять, должны представить убедительные аргументы в пользу ее безопасности.
Профессиональная ответственность — ответственность ученого перед научным сообществом за качество проводимых им исследований и получаемых результатов, за добросовестное выполнение других профессиональных ролей, за сохранение ценностей сообщества.
Социальная ответственность — ответственность отдельного ученого и научного сообщества перед обществом. Первостепенное значение при этом имеет безопасность применения тех технологий, которые создаются на основе достижений науки, предотвращение или минимизация возможных негативных последствий их применения, обеспечение безопасного как для испытуемых, так и для остального населения и для окружающей среды проведения исследований. Наряду с этим понятие социальной ответственности включает проведение исследований и экспертиз, направленных на решение стоящих перед обществом проблем.
Технологический императив — суждение, в соответствии с которым все то, что становится технически осуществимым, неизбежно будет реализовано. Это суждение, однако, не подтверждено какими бы то ни было эмпирическими данными; напротив, люди отказываются, часто по моральным соображениям, от осуществления многих практически достижимых проектов.
Этическая экспертиза — предваряющая исследование проверка того, связано ли исследование с риском для здоровья, благополучия и достоинства испытуемых, сопоставим ли этот риск с теми выгодами, которое им может принести участие в исследовании, обеспечено ли надлежащее информирование испытуемых и гарантирована ли добровольность их участия в исследовании. Этическая экспертиза предваряет каждое биомедицинское исследование, а в США и некоторых других странах — каждое исследование, в котором человек участвует в качестве испытуемого.
Этический комитет — структура, проводящая этическую экспертизу. В состав этического комитета входят ученые-специалисты в данной области знаний, но не те, кто так или иначе связан с исследователями; представители медицинекого персонала; юристы, священники и т. п. — лица, не являющиеся профессионалами. Этический комитет должен быть независим от исследователей, проект которых подвергается экспертизе, и от администрации научного или медицинского учреждения, в котором намечается проводить исследование. Одобрение этического комитета является необходимым условием проведения исследования.
| Вопросы для обсуждения
1. В каких ролях, помимо роли исследователя, приходится выступать ученому?
2. Каковы основания профессиональной ответственности ученого?
3. Каковы способы передачи ценностей и моральных норм от предыдущего поколения к последующему?
4. В чем состоят различия между внутренней и внешней этикой науки?
5. В чем заключается ограниченность тезиса о ценностной нейтральности науки?
6. Каков смысл и какова сфера применения принципа предосторожности?
7. Каковы основные механизмы этического регулирования биомедицинских исследований?
8. Кем и как проводится этическая экспертиза биомедицинских исследований?
9. Что такое информированное согласие?
10. Как вы понимаете тезис о свободе исследований?
11. Как соотносятся между собой свобода научных исследований и социальная ответственность ученого?
12. Какие опасения побудили ученых наложить временный мораторий на проведение исследований с рекомбинантными молекулами ДНК?
13. Какие моральные санкции может наложить научное сообщество на нарушителя этических норм?
14. Насколько обоснованно противопоставление логики развития науки и социальной ответственности ученого?
15. Этические проблемы взаимодействия ученого со средствами массовой информации.
16. Какие этические проблемы возможны при публикации результатов исследований?
17. В чем заключается моральный смысл научного цитирования?
18. В каком международном документе впервые были изложены моральные нормы исследований с участием человека в качестве испытуемого? Когда и где был принят этот документ?
19. В чем вы видите различие между моральными нормами и ценностями «малой науки» и «большой науки»?
В Литература________________________________
Биоэтика: проблемы и перспективы / Подред. А.П. Огур-цова.М., 1992.
Биоэтика: принципы, правила, проблемы / Под ред. Б.Г. Юдина. М, 1998.
Введение в биоэтику / Подред. Б.Г. ЮдинаиП.Д. Тищен-ко. М, 1998.
Гусейнов А А. Введение в этику. М., 1985.
Лебедев С А. Современная философия науки. М., 2007.
Российский химический журнал. 1999. Т. XLI1I. № 6. Номер посвящен теме «Наука — общество — государство: этические проблемы».
Фролов И. Т., Юдин Б.Г. Этика науки: проблемы и дискуссии. М, 1986.
Шрейдер ЮА. Этика. Введение в предмет. М, 1998.
Этика и ответственность науки // Человек. 2000. № 5.
Этико-правовые аспекты проекта «Геном человека»: Международные документы и аналитические материалы. М, 1998.
Юдин Б.Г. О возможности этического измерения науки // Человек. 2000. №5.
РАЗДЕЛ V.
НАУКА - ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Глава 1
СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ и ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА (НТП) СОВРЕМЕННЫХ РАЗВИТЫХ СТРАН1
Постоянно встречающееся в современной литературе, посвященной проблемам научно-технического прогресса, понятие интеграции науки и производства фигурирует обычно как некоторая данность, не требующая какой-либо конкретизации. В то же время, если мы хотим проследить ход этого интеграционного процесса, выявить его специфические особенности, временные рамки, масштабные и иные параметры, необходимо более четкое представление о формах, в которых он проявляется и эволюционирует. Это тем более важно, что, как показало развитие общества в XX в., интеграция науки и производства не только привела производительные силы к их качественному изменению, но и явилась важнейшим фактором экономического и социального прогресса развитых стран.
Сам термин «интеграция» требует некоторых пояснений. Применительно к явлениям общественной жизни он вошел в обиход недавно, в последние 30 — 40 лет. До этого его долгое время ассоциировали в основном с математикой, с интегральным исчислением. Во всяком случае, в словаре Даля других (кроме математического) толкований этого понятия не приводится. В современном обществоведении под интеграцией имеется в виду объединение, слияние двух или более
' Работа осуществлена при финансовой поддержке РГНФ. Грант 01-03-00064а.
компонентов в единое целое, которое приобретает в результате некоторые новые признаки по сравнению с простой арифметической суммой признаков объединяющихся частей, приобретает новое, более высокое качество.
Исходные компоненты свое существование в прежнем виде обычно прекращают полностью или частично. Соответственно, интеграционный процесс — это движение включенных в него компонентов к такому качественно новому состоянию.
Классический пример — экономическая интеграция стран Западной Европы, входящих в ЕЭС. Они создают единое экономическое пространство со свободным перемещением капиталов и других ресурсов, общей валютой и т. д. Условия, в которых сегодня функционируют национальные экономики объединяющихся государств, принципиально изменятся в благоприятную сторону, многие ныне действующие регуляторы исчезнут, экономик, ограниченных национальными пределами, не станет как таковых. Не исключено, что запланированные сроки перемен не будут выдержаны точно. Но это не существенно. Теоретически, да и практически каких-либо непреодолимых препятствий на этом пути нет.
Может ли подобное превращение произойти с наукой и производством? Связь между ними и взаимное влияние существовали, по-видимому, всегда, с того самого не поддающегося сколько-нибудь точной датировке момента, когда наука постепенно обособилась в качестве специфического вида деятельности человек. С тех пор история развития той и другой сферы постоянно включала в себя расширение, усложнение и укрепление взаимных контактов и взаимозависимости. На глазах нашего поколения и нескольких предшествовавших связь науки с производством вышла на такой уровень, когда они друг без друга двигаться вперед уже не могут. Не столь уже важно, кто тут кого подталкивает или тянет, кто, так сказать, главнее, такая постановка вопроса непродуктивна. Важно, что теснейшее взаимодействие данных компонентов общества стало непременным условием их дальнейшего прогресса.
Но означает ли это, что дело идет к слиянию производства и науки, прекращению их самостоятельного существования и возникновению взамен какой-то новой структуры, как, казалось бы, следует из определения понятия интеграции? Очевидно, такая перспектива пока не просматривается, и вряд ли сегодня кто-либо рискнет предсказывать подобное слияние в обозримом будущем. Тогда вправе ли мы говорить в данном случае об интеграции? Противоречие разрешается, если исходить из того, что возможны разные типы интеграционных процессов в зависимости от свойств тех компонентов, которые в них участвуют. По крайней мере, два таких типа проступают вполне отчетливо. К первому относятся случаи, когда интегрируются структуры однородные, обладающие одинаковыми или очень близкими основными признаками и различающиеся лишь менее значимыми, второстепенными параметрами. Тут безотказно работает классическая схема перехода в новое качество за счет слияния. Объединение рынков, однотипных производственных ячеек, финансовых организаций тому примеры. Второй тип интеграции возникает при взаимодействии структур разнородных. Их основные признаки не совпадают по своей природе, и потому полностью совместить их, слить невозможно. Особенности научного труда, задачи (обретение новых знаний) и другие параметры науки отличаются от аналогичных параметров производственной сферы настолько, что самое тесное взаимодействие не предполагает утраты специфики интегрирующихся компонентов и их исчезновения в прежнем качестве. Интеграция же проявляется в том, что они становятся необходимыми, взаимосвязанными и соподчиненными звеньями более широкой структуры, объединенными единой, общей целевой функцией.
Такого рода объединение не есть потеря особенностей труда, способов его осуществления в этих сферах, и в этом смысле слияния не происходит. Но на уровне конкретных целей, экономических и определенных организационно-управленческих связей оно возникает и, естественно, оказывает существенное влияние на интегрирующиеся элементы. Производство, интегрированное с наукой, отличается от неинтегриро-ванного, и наука, включенная в интеграционную форму, отличается от науки, столь конкретно в интеграционном процессе не участвующей. Возникают принципиально новые структуры: прикладная наука как разновидность науки в целом и наукоемкое производство, имеющее свои отличия от ненаукоемкого. Процесс интеграции науки и производства и обеспечивается непосредственным взаимодействием этих новых компонент.
Появление функционально объединяющих науку и производство новых социальных структур и позволяет на основе их эволюции проследить и хронологические рамки процесса интеграции и его стадии, или этапы.
Первый этап — от возникновения первых промышленных лабораторий до становления промышленного сектора ИР. Промышленные лаборатории стали исторически первой формой институализации прикладных исследований, а предприятия, имевшие такие лаборатории — первой институциональной формой интеграции науки и производства. До появления промышленных лабораторий на протяжении многих столетий информационный обмен между этими двумя сферами общественного труда выглядел как стихийный, стохастический процесс. «Споры науки» попадали в сферу производства в ходе и в результате движения, напоминавшего броуновское, могли там прорасти и дать плоды, могли пролежать долгие десятилетия, а то и века, могли и вовсе погибнуть. По мере развития производства и самой науки этот процесс приобретал все более упорядоченный и систематический характер. Однако объективные и субъективные условия перехода к интеграции сложились лишь во второй половине XIX в. К этому времени наука достигает достаточно высокого уровня понимания физических и химических закономерностей, лежащих в основе многих промышленных процессов; происходят крупные изменения в системе образования, появляется слой технической интеллигенции — инженеров, в руки которых постепенно переходит технологическое руководство производством; формируется государственный сектор науки; в промышленности идет мощный процесс концентрации ресурсов, возникают тресты, синдикаты, картели, складывается финансовый капитал.
Важнейшим объективным стимулом интеграции науки с производством явилось, по-видимому, то обстоятельство, что общества передовых стран начинают реально ощущать ограниченность и малую эффективность прямых экстенсивных факторов обеспечения расширенного воспроизводства за счет увеличения численности работников, капиталовложений и т.д., ощущать противоречие между их возможностями и быстро растущими общественными потребностями. Разрешение этого противоречия возможно лишь путем перехода к использованию интенсивных факторов экономического роста, в первую очередь — научно-технического прогресса. Интеграция науки и производства — крупный шаг на этом пути. Институциона-лизация превращает интеграционный процесс в постоянное, целенаправленное взаимодействие. Наука, теоретическое знание, конкретно и непосредственно включается в систему производительных сил, становится основным источником крупных нововведений, роста производительности труда и объемов материальных благ и услуг со всеми вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями.
Хронологически появление первых промышленных лабораторий относится к концу 70-х и 80-м гг. XIX столетия и связано оно в первую очередь с формированием двух новых по тем временам отраслей промышленности — электротехнической и нефтеперерабатывающей. В свой черед появление этих отраслей означало качественное изменение энергетической базы общественного производства, когда наряду с механической, гидравлической энергией и энергией ветра начали использоваться электричество и нефть. Особенностью промышленного освоения электротехники и органической химии является объективная необходимость участия теоретического знания в создании конечного потребительского продукта. Здесь привычный нам сегодня цикл «наука — производство» неизбежен буквально с первых шагов, ибо ремесленнический традиционный путь проб и ошибок практически превратился бы в путь аварий и катастроф.
До Первой мировой войны число промышленных лабораторий1 росло сравнительно медленно, но после войны наступил своего рода «бум». В ведущих промышленных странах исследовательскими службами обзавелись все предприятия, определяющие технический уровень той или иной отрасли индустрии, и все отрасли, определяющие технический уровень промышленности в целом. Кроме того, складывается собственная инфраструктура промышленной науки — профессиональные общества и ассоциации, специализированные журналы, информационная среда. Все это мы и можем считать началом формирования промышленного сектора науки.
Второй этап — интенсивный рост промышленного сектора ИР и превращение его в одну из основных составляющих национального научно-технического потенциала. С появлением промышленных лабораторий в процесс интеграции науки с производством включаются рыночные механизмы. Наличие собственной исследовательской базы становится залогом успеха в конкурентной борьбе, а капиталовложения в ее развитие — чрезвычайно выгодным, хотя порою и рискованным делом. Сфера науки, в первую очередь за счет ее промышленного сектора, стремительно расширяется. По оценке Дж. Бернала, за первую половину нашего столетия численность занятых в ней работников увеличилась примерно в 40 раз, расходы же на нужды науки возросли в 400 раз. Такие темпы роста — порядка 10 процентов в год— не демонстрировал никакой другой элемент общества, даже военные расходы.
| 1 Первой промышленной обычно считают лабораторию Т. Эдисона, созданную в 1876 г. в местечке Менло-Парк, недалеко от Нью-Йорка. В числе первых можно также назвать лаборатории немецких химических фирм «Хехст», «Байер». «БАСФ», «Агфа» (первая половина 80-х годов), американских компаний «Артур де Литтл» (1886), «В.Г. Гудрич» (1885), «Дженерал электрик» (1890), английской фирмы «Левел Вравера» (1889). |
Промышленные лаборатории множились в числе, охватывая наряду с новыми традиционные отрасли. В то же время существенно менялся облик самих лабораторий: из небольших слабо оснащенных коллективов исследователей они превращаются в крупные подразделения, располагающие большими материальными ресурсами, в целые службы, внутри которых складывается своя организационно-управленческая структура, разделение труда и механизмы взаимодействия различных функциональных звеньев.
Становление промышленного сектора ИР повлекло за собою не только динамичный рост количественных параметров сферы науки, но и качественную трансформацию самой этой сферы в целом, в нее пришло разделение труда между фундаментальной и прикладной наукой. Особенность этой трансформации состоит в том, что она произошла не столько за счет внутренней эволюции академического сектора и его последующего раздела, сколько за счет дополнения этого сектора извне, из сферы производства. Рост промышленных исследований никак не ограничивал и не вытеснял академическую науку, а, напротив, сохранял за ней все те функции, которые она уже освоила, и содействовал ее интенсивному дальнейшему развитию как прямо (обеспечивая широкий активный спрос на новые идеи и открытия, а также финансируя университетские лаборатории), так и косвенно, благодаря расширению потребности в научных и инженерных кадрах.
Как самостоятельный сектор ИР промышленные исследования обладают своими особенностями по сравнению с традиционными академическими формами организации науки. К особенностям промышленных ИР относятся:
— непосредственная органичная связь с производственной практикой, целенаправленность, возможность быстрого воплощения идеи в жизнь; впервые наука как главный и практически неисчерпаемый источник нововведений объединилась с конкретным потребителем этих нововведений, обеспечив близкие к оптимальным условия для реализации цикла наука -■— производство;
— масштабность финансовой базы и, если говорить не об отдельном предприятии, а о секторе в целом, ее относительная стабильность; в рамках промышленного сектора источник средств и их
Раздел У. Наука - сема зкрнрмичвскргр к сришьиргр прогресса...
потребитель связаны воедино, что создает предпосылки как для более полного удовлетворения потребностей науки, так и для целесообразного распределения и расходования средств, то есть для повышения эффективности исследований;
— тесная связь прикладной науки через производство и сбыт продукции с реальными потребностями общества в той мере, в какой они выявляются рыночным механизмом и отражаются конъюнктурой рынка. Создается своего рода система «автоматического» регулирования с обратной связью, охватывающая источник технических перемен, производственные мощности и запросы потребителя. Жизненно важной характеристикой такой системы является ее гибкость, умение быстро реагировать на внешние изменения, внося необходимые коррективы в исследовательские программы;
— способность организовывать и выполнять крупные проекты, требующие не только больших затрат, но и четкого управления большими коллективами исполнителей, координации усилий и результатов в самых разных областях науки и техники; групповая, коллективная организация работ является характерной особенностью промышленного сектора, его «изобретением» и вкладом в совершенствование научной деятельности как таковой; в промышленных ИР на первый план выдвигается фигура ученого-организатора, способного возглавить большие группы специалистов и успешно решать все вытекающие из этого проблемы;
— междисциплинарность исследований; сегодня междисциплинарный комплексный подход к научно-техническим проблемам повсюду признан наиболее продуктивным методом научной работы, а большая часть крупных открытий, так называемых прорывов, происходит на стыках традиционных научных дисциплин; но промышленные исследования по сути своей изначально являются междисциплинарными, так как их объектом всегда было изделие или технологический процесс, представляющие собой комбинацию многих элементов, за каждый из которых отвечают специалисты разного профиля. Оценивая положительные стороны промышленных ИР и отдавая им должное, необходимо видеть и их слабости. Диалектика явления такова, что многие достоинства одновременно выступают и как ограничители. Подавляющее большинство промышленных проектов ориентирована на ближнюю, краткосрочную перспективу, обещающую коммерческую выгоду. Последняя является доминирующим мотивом. Долгосрочные и рискованные программы не приветствуются, а без риска трудно ожидать качественно новых научных результатов. Творческая инициатива ученого, работающего в промышленности, более обоснована, чем в академическом секторе, рамки жестче, цели — прагматичнее. Возможны ситуации, когда новые плодотворные идеи, не вписывающиеся в стратегию фирмы, будут искусственно заморожены на неопределенное время.
Специфика целей и задач промышленных ИР определяет их структуру: львиную долю их общего объема (в денежном выражении) составляют разработки, на втором месте идут прикладные исследования, а фундаментальной науке отводится последнее и сравнительно очень скромное место. Кроме того, для промышленных ИР характерна резкая неравномерность распределения по отраслям производства и по отдельным фирмам внутри отраслей. Основные объемы исследований сосредоточены в быстро прогрессирующих технически сложных отраслях и на крупных предприятиях.
Все это означает, что при многих своих достоинствах и силе промышленный сектор не может решать полностью тот комплекс задач, который общество ставит перед сферой науки в целом. Он необходим как гармоничная часть этой сферы, выполняющая свою долю функций, ей присущих. Он играет роль своеобразного ретранслятора фундаментальных научных достижений в полезные и приемлемые для практики нововведения, причем ретрансляция в данном случае предполагает не просто передачу сигнала, а его многообразную трансформацию, избирательное усиление спектра, генерирование множества вторичных сигналов.
Хронологически становление промышленного сектора ИР и превращение его в одного из «трех китов» национального научно-технического потенциала передовых развитых государств приходится на время между двумя мировыми войнами.
Третий этап начинается после окончания второй мировой войны и продолжается в настоящее время. Именно на этом этапе наиболее полно проявляются и осваиваются философской мыслью (разные варианты концепции «постиндустриального», «информационного», «основанного на знании» и т. д. общества) основные экономические и социальные последствия научно-технического прогресса предшествующих периодов1.
В плане исследуемой нами проблематики основным содержанием этого этапа является превращение интеграции науки и производства в общенациональную задачу государственного уровня, создание государственных органов управления НТП и формирование научно-технической политики как одной из важнейших функций современного государства, появление и развитие многообразных новых форм реализации интеграционных процессов.
| Годы | Доля работающего населения (%), занятого в | ||
| СП | СО | ||
| США | В | США | В | |
| 1850 | 83,3 | 66.6 | 16,7 1 33,4 |
| 1910 | 67,4 | 51,0 | 32,6 | 49,0 |
| 1950 | 40,2 | 45,1 | 49,8 ( 54,9 |
| 1980 | 24,6 | 33,4 | 75,4 I 66,6 |
Подсчитано по: Beniger J. The control revolution in the development of the information society: Evidence from 24 nations. Los Angeles, 1988. P. 3.
1 Приведем лишь данные о перераспределении трудовых ресурсов между сферой производства (СП), то есть промышленностью и с/х, и сферой обслуживания (СО) в США и Великобритании (В) за последнее столетие.
Глава 2
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЗТАПА ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Вторая мировая война, ставшая своего рода прелюдией современного этапа интеграции, была первой из войн, в которой научный потенциал наряду с производственными и людскими ресурсами играл роль важнейшего фактора, определявшего соотношение сил воюющих сторон. Она в полной мере стала войной моторов, брони, автоматического оружия и других видов техники, вплоть до атомной бомбы, создание которых немыслимо без участия науки, с одной стороны, и без столь масштабной мобилизации ресурсов, которая под силу только государству, — с другой. В результате возникают совершенно новые отношения между государством, наукой и промышленностью. На протяжении военных лет под эгидой государства все научные учреждения и вся промышленность участвовавших в борьбе стран были объединены общей целью и совместно работали над ее достижением. В непосредственный контакт с наукой втянулось множество предприятий, до войны об этом и не помышлявших. В свою очередь, университетские и прочие лаборатории, ранее прикладными исследованиями не занимавшиеся, либо были мобилизованы правительством для участия в военных проектах, либо сами искали и использовали любую возможность в такие проекты включиться. Темп нововведений, разработки новых видов продукции и их освоение многократно возросли. Сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать как квазиинтеграцию, обусловленную не внутренним развитием произ- 4ul
Раздел У. Нзрз- ошва зшвмичешгр и щшывд прргрвссз...
водства и науки, а временным развитием внешнего фактора — условиями войны.
После войны многие установленные во время нее связи распались, но не ушли бесследно, остался опыт, осталось понимание эффективности сотрудничества, его необходимости для успешного решения производственных проблем, осталось, наконец, главное — созревшие за военные годы наукоемкие технологии и соответствующие отрасли промышленности, которые бурно прогрессировали в последние годы, выдвигаясь на первый план в экономике передовых государств. Это электроника и вычислительная техника, создание и эксплуатация космических аппаратов, атомная энергетика и т. д. Научный задел, накопленный в военное время и открывавший множество новых перспектив в гражданских отраслях хозяйства, был неизмеримо выше уровня, достигнутого к концу 30-х годов. Кроме того, в условиях последовавшей «холодной войны» мобилизация научных и технических ресурсов во многом сохранилась.
В итоге научно-технический потенциал становится фактором, определяющим уровень и темп развития страны, ее экономическое и социальное благосостояние, конкурентоспособность на мировой арене, военную мощь. Сегодня продукция наукоемкого производства, передовая техника и технология буквально пронизывают все стороны жизнедеятельности людей. В этом — фундаментальная особенность современного периода интеграции науки с производством. Ею определяются и ряд других характеристик периода, каждая из которых выступает не только как следствие основной, но и сама по себе играет важную роль в жизни современного общества. К ним относятся следующие. 1. Отмеченные изменения в структуре производительных сил вызывают перемены в сфере управления общества и производством как на уровне государственных структур (по всем основным ступеням иерархической лестницы), так и на уровне фирм и корпораций. Сразу же после войны в рассматриваемых нами странах начинают формироваться системы государственных органов, задачей которых является разработка и реализация госу-
Глава 2. HebIibhiidcth срврвмвннргр этавз интеграции науки и првнзоодства
дарственной научно-технической политики. Создание таких систем — процесс длительный и сложный, в каждой стране он проходит в соответствии со спецификой ее государственного устройства, отражающей особенности исторически сложившейся модели общества. Применительно к отдельным государствам он анализируется автором (1,2). Общее направление этого процесса — от центра к региональным и местным структурам с постепенным расширением и углублением функций, охватом новых типов взаимоотношений между наукой и обществом по мере их возникновения и осознания. С точки зрения создания благоприятных условий для развития процесса интеграции науки с производства, это означает качественное изменение в позитивном направлении, отличающее современный этап от предыдущих.
2. Резко возрастает объективная потребность общества в наращивании темпов НТП. Во-первых, потому, что ныне от них непосредственно зависит состояние и производства, и сферы обслуживания в самом широком толковании этого слова, а также уровень жизни людей и ее продолжительность. Во-вторых, потому, что в ходе НТП возникает множество серьезных угроз обществу. Масштабы хозяйственной деятельности, мощь накопленного военного разрушительного потенциала, появление возможностей влияния на генофонд растений, животных и самого человека — все это ведет к появлению крупных экологических проблем, к конфликту между человечеством и средой его обитания, потенциально угрожающему самому существованию жизни на нашей планете. Устранить негативные последствия НТП, ограничить их появление в будущем, предотвратить экологическую катастрофу можно лишь на основе научных подходов и «науко-фикации» всех сторон общественной практики.
3. Сама наука во всех ее ипостасях превращается в крупную отрасль национального хозяйства, поглощающую заметную часть людских и материальных ресурсов общества. Сфера науки достигает масш- 483
табов, невиданных для прошлых веков и тысячелетий. Достаточно отметить, что 90 процентов всех ученых, когда-либо существовавших в мире, являются нашими современниками, живут и работают сегодня. В научные исследования и разработки вовлечены миллионы людей, расходы на ИР в про-мышленно развитых странах составляют порядка 3% от валового национального продукта. Для поддержания темпов НТП и дальнейшего развития сферы науки требуется все больше затрат. О темпах НТП и проблеме его стоимости. Еще в самом начале нашего столетия Генри Б. Адаме (США), опираясь скорее на интуицию, чем на статистику, сформулировал положение о том, что прогресс общества, в том числе прогресс науки, происходит нелинейно, подобно тому, как растет капитал при начислении сложных процентов: выраженная в процентах величина ежегодного прироста является во времени постоянной и, следовательно, за определенное число лет исходный объем удваивается, утраивается и т. д. Другими словами, развитие науки и техники описывается показательной функцией.
Хотя первоначально высказанная Адамсом оценка была воспринята скорее как образное выражение, чем как закономерность, постепенно начали накапливаться данные, убедительно подтверждавшие его догадку. В 1930-е и особенно в послевоенные годы многие исследователи (Ф. Рихтмайер, К. Мис, Дж. Прайс, Н. Ре-шер, Г. Монард, и др.) обнаруживали экспоненциальный рост многих количественных показателей развития науки. Установлено, например, что число научных работников в мире, число членов научных ассоциаций, число научных журналов, объем литературы по большинству естественно-научных дисциплин удваивается каждые 15 лет, объем публикаций в наиболее активных проблемных областях естественных наук — каждые 12 лет, как и число научных работников в США, за десять лет возрастает вдвое по математике, объем книг в университетских библиотеках, численность американских инженеров, число присуждающих в США докторских степеней в области науки и техники; в первые пос-
Глава 2. Особенности современного зтавз интеграции науки и производства
левоенные десятилетия чрезвычайно бурно росли ассигнования на науку, как со стороны правительства, так и промышленных корпораций, в США государственный бюджет ИР увеличивался в 50-е и 60-е годы в среднем на 10% ежегодно, то есть удваивался за 7 лет.
Экспоненциальное увеличение входных и выходных параметров науки создает картину научно-информационного «взрыва», характерного для большей части нынешнего века. Однако, если проанализировать структуру этого «взрыва» и принять во внимание не только количественные показатели, но и те качественные аспекты, которые определяют ее когнитивную сущность, то выясняется, что при экспоненциальном росте массовой рутинной продукции число крупных открытий, являющихся своего рода вехами в истории той или иной научной дисциплины и отмечающих новые уровни познания природы, растет не по экспоненте, а лишь по линейному закону. Косвенным, но убедительным доказательством линейного накопления первоклассных достижений в науке является постоянство числа нобелевских премий и иных престижных наград, присуждаемых из года в год.
Этому феномену, который наглядно прослеживается на фактическом материале, есть фундаментальное объяснение, ибо он полностью согласуется с законом Руссо, сформулированном в его «Общественном договоре». В отечественной литературе данный аспект взглядов Руссо раньше не акцентировался и мало известен. Согласно упомянутому закону, во всякой совокупности однотипных явлений существует элитарная часть, численность которой равна корню квадратному из общей численности совокупности. Подмеченная Руссо закономерность с приемлемой точностью наблюдается в соотношении общего числа, допустим, вузов какой-нибудь страны и их элитарной группы, общей численности специалистов конкретной профессии и числа «светил» и «звезд» в ней, в соотношении крупных городов и общего числа населенных пунктов и т. п. Таким образом, при экспоненциальном наращивании вкладываемых в развитие научно-технической сферы ресурсов результат, если его измерять числом перво-
классных открытий и изобретений, меняется линейно.
Уместно, видимо, подчеркнуть, что, хотя решающую роль в развитии науки играют первоклассные, как мы их определили, открытия, они не могут появиться в отрыве от общего объема результатов научно-технической деятельности, а только как часть этого объема, включающего результаты всех категорий качества — от рутинных до первоклассных. Общий объем результатов можно представить себе как некую пирамиду, а уровни качества — как плоскости, параллельные ее основанию. Первоклассные открытия составляют верхний слой пирамидального объема, отмеченный верхним уровнем качества. У каждого иного слоя свои функции в обслуживании НТП, и все они по-своему важны и необходимы. Мы не можем произвольно разделить такую структуру на части и направить ресурсы на какой-то один выбранный нами уровень, вырастет все та же пирамида с тем же соотношением слоев.
В 1978 году английский физик и философ Н. Ре-шер (N. Rescher) определил «производственную функцию науки» следующим образом:
F (t) = К lg R (t),
где F(t) — мера суммарного числа первоклассных результатов; R(t) — суммарный объем ресурсов; К — постоянный коэффициент, величина которого зависит от конкретного содержания переменной R.
Решер назвал полученное им соотношение «законом логарифмической отдачи» (The low of logaritmic returns). По его мнению, данный закон «отражает перманентную и общую структурную ситуацию в научном производстве и может использоваться для оценки этой ситуации не только в пределах, ограниченных периодом экспоненциального роста научных усилий, но и вне этих пределов. Он показывает, что наблюдавшееся в последние десятилетия экспоненциальное увеличение параметров, характеризующих научные усилия (людских и материальных ресурсов), можно рассматривать как вынужденное следствие стремления поддержать на приблизительно постоянном уровне темп научного прогресса».
Если принять закон логарифмической отдачи в качестве «перманентного и всеобщего», то естественно возникает вопрос: как долго может сохраняться состояние резкого увеличения затрат общества на ИР? Очевидно, что оно не может продолжаться вечно, и любая попытка экстраполировать его в недалекое будущее ведет к абсурду. Например, бюджет американской науки в 50 —60-е гг. удваивался за семь лет, а ВНП — за двадцать. Если бы эти соотношения сохранялись, то лет через 60 — 70 весь доход страны надо было бы тратить на ИР. А если прекратить рост затрачиваемых на науку ресурсов, то должен резко замедлиться и в перспективе прекратиться научно-технический прогресс. Ситуация напоминает многочисленные мнимые кризисы, с которыми общество неоднократно уже сталкивалось на различных этапах развития науки и техники. Когда в США появились телефонные сети, очень скоро было подсчитано, что если темпы первых лет телефонизации продержатся 15 лет, все молодые женщины Америки должны будут стать телефонистками. Проблему решило появление автоматических коммутаторов.
Каковы пути разрешения противоречия, которое отражается законом логарифмической отдачи?
| 1 Так, в середине 80-х годов для американской промышленности, выпускающей вычислительную технику, норма расходов на ИР составляла около 8%, для предприятий выпускающих полупроводниковые приборы и интегральные схемы. — 12%, для фармацевтической промышленности — 8%, станкостроения — 3%, бумажной индустрии— 1%, сталелитейной— 0,5%. Норма эта никак не регламентируется, но она отражает практически сложившийся на данный период здоровый экономический баланс ресурсов, так что значительные или длительные отклонения от Усредненного показателя чреваты крахом. |
Ресурсы, которые могут быть израсходованы обществом — страной или объединением стран, отраслью, отдельной корпорацией — на поддержание и развитие сферы науки, не безграничны. Фирма или корпорация выделяют на ИР определенную долю своих доходов, и доля эта для данной отрасли и на данный момент времени является величиной практически постоянной. Она обычно измеряется в процентах от годового объема сбыта продукции1.
Чтобы нарастить (в абсолютных величинах) расходуемые на ИР средства, корпорация должна расширить свои рынки сбыта. Но емкость мирового рынка того или иного вида продукции в каждый конкретный момент времени ограничена реальными потребностями населения. Можно также получить дополнительные средства на ИР от государства в виде прямых или косвенных дотаций. Однако и на этом уровне работает примерно такой же, как в отрасли механизм балансирования расходов на сей раз государственных. Развитые страны во второй половине 80-х годов тратили на науку 2,5 ~ 2,8% от ВНП. Опять-таки указанный процент не является юридически закрепленным нормативом, а устанавливается как конечный объективный результат множества процессов, происходящих в современном обществе, и отражает уровень его социально-экономического, технического, культурного развития. Такие показатели меняются медленно, если общество стабильно и если не происходит каких-то очень крупных экстраординарных событий типа войн.
Итак, ограниченность прямого наращивания вовлекаемых в сферу науки материальных ресурсов объективна и неизбежна. Но это обстоятельство, на наш взгляд, отнюдь не означает неизбежности замедления темпов НТП. Мы даже не будем говорить о том, что НТП, обеспечивая рост валового национального продукта и, соответственно, абсолютное увеличение выделяемых на науку средств, сам себя «кормит», и в перспективе вероятны открытия, которые могут принципиально повлиять на всю материальную сферу, а с нею и на закономерности, проявляющиеся в ходе НТП сегодня. Мы имеем в виду целый комплекс мер, которые общество в состоянии предпринять для ускорения научно-технического прогресса и которые не связаны с экстенсивным ростом ресурсного обеспечения ИР. Как в свое время включение науки в состав производительных сил знаменовало переход от экстенсивных способов развития производства к интенсивным, так на нынешнем этапе созрела необходимость и условия для привнесения интенсивных форм и методов развития в сферу самой науки, в НТП. Эти новые формы и методы осуществления ИР призваны повысить эффективность использования как уже имеющегося научно-технического потенциала, так и тех ресурсов, которые направляются на его расширение. С точки зрения экономики научно-технического прогресса они эквивалентны прямому наращиванию средств точно так же, как создание информационных сетей, связывающих библиотеки и научные центры мира, облегчающих и ускоряющих распространение новых идей, их внедрение в практику, равносильно прямому дополнительному финансированию науки.
В самом общем плане смысл интенсивных форм и методов организации ИР состоит в уменьшении случайной, стихийной составляющей процесса развития науки и техники и усиления его регулируемости и целенаправленности. Достигается это путем выработки системы приоритетов научно-технической политики на всех уровнях и концентрации усилий на ключевых направлениях, а также путем внедрения разнообразных форм кооперации субъектов научно-исследовательской деятельности, что позволяет консолидировать научно-технический потенциал, уменьшить дублирование и сократить длительность цикла «наука-производство». Их можно также рассматривать как новую ступень в развитии разделения труда в сфере ИР, то есть применения многократно испытанного в истории общества способа повышения производительности и эффективности.
К политике концентрации средств на ключевых направлениях и кооперации усилий подталкивают не только общие соображения о соотношении возможностей и потребностей, но и некоторые конкретные особенности современного этапа НТП. В структуре решаемых сегодня наукой и техникой проблем все более заметную и растущую долю занимают задачи, которые требуют сосредоточения очень крупных ресурсов не просто на данном участке научного фронта, но и в конкретном месте и в пределах одного коллектива ученых, одной организации. Они (задачи) физически не могут быть разделены на ряд параллельных подпроблем, выполняемых порознь, с меньшими затратами каждая. И в то же время без их решения невозможно продвигаться вперед на целом ряде научных направлений. Наиболее наглядными примерами являются физика элементарных частиц с ее гигантскими ускорителями, космические исследования с космодромами, ракетными комплексами и пилотируемыми кораблями, оптическая и радиоастрономия, атомная энергетика. По тому же пути ускоренно двигаются микроэлектроника, материаловедение и биотехнология. Вообще на нынешнем этапе возможности отдельных фирм и корпораций, даже самых больших, не могут обеспечить автономное успешное продвижение на всех участках ИР, от которых зависит технический уровень и судьба их продукции, следовательно, и судьба их самих; слишком много таких участков и слишком тесно они взаимосвязаны — от производства исходных материалов до конечного изделия. В такой ситуации никто из изготовителей не может полностью полагаться только на собственные силы, он волей-неволей выступает лишь как часть некоего всемирного предприятия, охватывающего в конечном счете всех субъектов НТП. В определенном смысле все они оказываются уязвимы и взаимосвязаны, независимо от степени осознания ими этого факта, и объективно вынуждены искать и находить различные формы взаимодействия и коллективных мер, снижающих степень риска и гарантирующих некоторый уровень своего рода всеобщей безопасности.
Возникающие в сфере ИР кооперативные структуры, в рамках которых независимые частные субъекты (фирмы, корпорации) объединяют ресурсы, совместно выполняют исследования и получают равные права на использование результатов, суть элементы новых, не свойственных прежнему обществу отношений в процессе производства и новых форм собственности.
Характер производительных сил и особенности процесса их развития вносят свои коррективы в производственные отношения. Для процесса интеграции науки с производством это открывает новые возможности и перспективы.
Классификация и анализ новых форм интеграции науки и производства. Поскольку мы имеем дело с явлением не только новым, но и интенсивно развивающимся на наших глазах, меняющимся год от года, в основу общей схемы классификации желательно положить параметр, сравнительно мало зависящий от времени и оставляющий достаточный простор для включения в эту схему постоянно возникающих новых вариан-
Глава 2. ОевИвйявети современного зтава интеграции науки в производства
тов и разновидностей кооперационных и интеграционных связей. В (2,3) автором обосновано использование в качестве такого параметра уровня, на котором организуется взаимодействие. Тогда вся совокупность действующих сегодня форм кооперационных ИР распадается на четыре основных массива: международные, общегосударственные или, как их часто называют, национальные, затем региональные или местные и, наконец, межучрежденческие, реализуемые на уровне отдельных организаций. Первый из перечисленных массивов, обладающий многими специфичными особенностями, связанными с политическими факторами, выходит за рамки нашего анализа и рассматривается лишь в той мере, в которой он соприкасается с тремя остальными.
Национально-исследовательские программы (НИП). Термин «национальная программа» используется сегодня столь широко, что под ним зачастую подразумеваются совершенно разные по содержанию мероприятия. С одной стороны, национальными программами называют планы развития целых отраслей хозяйства, науки и техники, которые поддерживаются государством. Принято, например, говорить об американской (японской, французской и т. д.) космической программе как о всей совокупности проводимых в стране космических исследований или о национальных программах охраны окружающей среды, подъеме здравоохранения, сельского хозяйства. С другой стороны, в ранг национальных номинально может попасть и небольшой проект, выполняемый одной организацией, коль скоро он представляется его авторам достаточно престижным и новаторским.
С точки зрения предмета настоящего исследования к категории НИП относятся крупные комплексные проекты ИР, отвечающие двум основным критериям. Первым, который и оправдывает название «национальные», является участие в разработке и реализации программы всех основных секторов научно-технического потенциала страны: государственного, частнопро-мышленного и академического. В принципе, возможны усеченные варианты, когда какой-либо из секторов в числе участников не представлен, но такие случаи встречаются крайне редко, масштабы национальных программ практически всегда диктуют необходимость широкого межсекторального сотрудничества. Второй критерий — это конкретность содержания, сроков исполнения и объемы капиталовложений. Этим НИП отличаются от поддержки отдельных направлений науки и техники в целом.
Очевидно, что отвечающая сформулированным требованиям категория ИР остается весьма обширной и внутри нее концентрируются проекты, существенно отличающиеся друг от друга по многим вторичным параметрам: по преобладающему влиянию того или иного сектора, по характеру целей, по источникам финансирования, по схемам организации работ и управления. Поэтому необходима более глубокая классификация, позволяющая выделить типовые варианты внутри общей группы.
1. В зависимости оттого, какой из секторов выступает в качестве инициатора, основного организатора, источника финансирования и исполнителя, НИП можно подразделить на государственные и частно-промышленные. Академический сектор, будучи в значительной мере «бюджетным», в качестве основной силы, организующей и финансирующей программу на национальном уровне, не выступает.
2. По характеру целей национальные программы делятся на два типа:
а) НИП, организованные с целью создания конкретного вида продукции — технического изделия или группы (гаммы) однотипных изделий. Их (программы) можно назвать продукционными. Восходя ко времени второй мировой войны (наиболее показательный пример — проект «Манхеттен», разработка американской атомной бомбы) , эти НИП обладают довольно четкой спецификой: почти всегда государство выступает здесь в качестве инициатора — заказчика, полностью финансирует работы и является основным потребителем конечного результата. Соответственно они организуются в тех областях, за состояние которых именно государство несет ответственность: оборона, космос, фундаментальная наука, частично — энергетика, здравоохранение. Примерами продукционных НИП могут служить военные американские и западноевропейские проекты, вплоть до программы «Звездных войн»; строительство крупных установок для проведения фундаментальных исследований (ускорители элементарных частиц, уникальные телескопы, исследовательские морские суда и т. п.); разработка челночных космических кораблей и др. Характерной тенденцией в развитии этого типа программ является переход многих из них с национального на международный уровень. В первую очередь это относится к проектам гражданского назначения. В строительстве американской космической станции принимают весомое участие Европейское космическое агентство, Япония, Канада, Австралия, решен вопрос о включении России в круг разработчиков и изготовителей отдельных блоков. Ряд ответственных узлов телескопа Хаббла был спроектирован и изготовлен в странах Западной Европы. В меньшей мере, но интернационализация имеет место и применительно к сугубо военным объектам (военная техника стран НАТО, японо-американский истребитель-бомбардировщик и т. д.). б) НИП, направленные на создание новых технологий, обеспечивающих технический прогресс и конкурентоспособность какой-либо отрасли производства или группы взаимосвязанных отраслей. Их можно назвать технологическими. Объектами их становятся в первую очередь новейшие отрасли производства; электроника, вычислительные системы, телекоммуникации, биотехнология, материалы с новыми свойствами. Три первых отрасли часто объединяют термином «информационная» техника или технология. В силу ключевого значения перечисленных отраслей для производств в целом, НИП, поднимающие используемые в этих отраслях технологии на новые ступени, являются как бы первичными, а за ними следуют шлейфы вторичных программ, направленных на перестройку традиционных отраслей (металлургии, машиностроения, химии, сельского хозяйств а и др.) за счет внедрения достижений новейших технологий.
Финансируется данная группа НИП и за счет государственного бюджета, и промышленными фирмами-участниками. Инициаторами чаще являются промышленные ассоциации и группы, чем государство. Соотношение между бюджетными и частными средствами зависит от содержания программы и от сложившихся в стране общих пропорций в финансировании научных исследований. Допустим, в Японии, где этот тип НИП был отработан и очень эффективно использован впервые начиная еще с 60-х годов, государство выделяет обычно лишь небольшую часть общих затрат, а основные расходы несет частный сектор; в США или во Франции чаще бывает наоборот, а в Великобритании правительство, как правило, стремится к тому чтобы разделить затраты на паритетных началах с промышленностью. Академический сектор крайне редко вносит собственные средства в общую казну, его участие оплачивают другие партнеры.
Наиболее известными программами технологического развития, осуществленными рассматриваемыми нами странами в недавнем прошлом или разрабатываемыми в настоящее время, являются: в США — НИП стимулирования новых технологий в гражданской микроэлектронике," военная «Стратегическая компьютерная инициатива», создание аэрокосмического самолета; в Японии — более десятка программ, большинство из которых проходит под эгидой Министерства внешней торговли и промышленности, а наиболее крупной стала программа создания вычислительной техники пятого поколения; в Великобритании — программа Элви и продолжающая ее «Национальная инициатива в области информационной технологии»; во Франции —программа развития электроники (La Fillers electronique); в рамках ЕЭС к такого типа программам близки «ESPRIT», «RACE», «EURECA», «DELTA», «DRIVE», «BTCEPS».
3. Из 1тоедьтдущего очевидно, что по источникам финансирования тоже можно выделить две группы НИП. К первой относятся программы, финансируемые из какого-либо одного сектора. Чаще всего в таком качестве выступает государство, реже — промышленность. Вторую группу составляют программы со смешанным финансированием. В нем могут участвовать и государство, и промышленность, и финансовый капитал, и различные фонды, и академический сектор. Жесткой связи между классификацией по характеру целей и таковой по источникам финансирования нет, программа любого типа может оказаться в каждой из двух отличающихся по источникам средств групп. Но обычно продукционные НИП попадают в первую группу, а остальные — во вторую.
4. С точки зрения используемой системы организации работ и управления НИП разделяются натри основних класса. Первый охватывает программы, которые разрабатываются и реализуются силами и в рамках постоянно действующих в составе государственного аппарата, аппарата промышленных фирм или университетов. В каждом из них есть специализированные подразделения, занимающиеся именно такого рода работой. Новых управленческих или исследовательских организаций, связанных с данной конкретной программой, не создается. Такая схема типична для военных или гражданских космических проектов средних масштабов. Соисполнители их четко связаны по вертикали с тем звеном постоянного аппарата, которое программу возглавляет, а горизонтальные связи ограничиваются обычными взаимоотношениями субподрядчиков и поставщиков отдельных систем и узлов. Степень коллективности исследовательских работ в этих случаях низка.
Второй класс — это программы, для разработки и реализации которых внутри традиционных постоянных структур создаются специальные органы управления, связанные только с данной программой и действующие на время ее реализации. Такие органы управления обычно обрастают рядом вспомогательных структур типа координационных и консультативных групп, советов и т. п. Степень консолидации сил соисполнителей, интенсивность обмена информацией между ними возрастает, но коллективных исследовательских организаций не возникает. Программа представляет совокупность разномасштабных скоординированных проектов, каждый из которых выполняется отдельной государственной лабораторией, частной фирмой или университетом. Так выглядят большинство программ ЕЭС' и некоторые крупные технологические национальные программы США, Великобритании, Японии.
Для третьего класса НИП характерно не только наличие специального управленческого механизма, но и объединение кадровых и материальных ресурсов соисполнителей в едином центре. Центр может создаваться с самого начала работ или на других, более поздних этапах. Условия его комплектования варьируют от временного командования сотрудников организаций-участников программы до найма специального самостоятельного штата исследователей. Силами этого центра выполняется либо весь объем ИР, либо часть его, дополняемая работами, которые соисполнители проводят в собственных лабораториях и цехах. Но наиболее сложные проблемы решаются обычно в объединенном центре и там же проходят самые ответственные этапы отладки и испытаний прототипов и экспериментальных образцов. По такой схеме построена программа создания пятого поколения вычислительной техники в Японии и ответственные американские программы, осуществляемые корпорациями SRP, МСС и Sematech1.
Этот тип программ заслуживает особого внимания, так как на их основе, похоже, начинает вырисовываться система отраслевых и межотраслевых проблемных частнопромышленных кооперативных исследовательских центров, которая может существенно изменить облик всего промышленного сектора ИР.
Анализ современных НИП позволяет сделать следующие основные выводы:
| 1 На примере перечисленных корпораций можно конкретно проследить, как эволюционируют используемые фирмами США формы кооперации ИР, приобретая все более глубокий и последовательный характер. Участники SRC (Semiconductor research corporation — Корпорация исследования полупроводников, созданная в 1982 г.) объединяют только капиталы и из данного фонда совместно финансируют интересующие их исследования в университетах. Члены МСС (microelectronics and computer corporation — Корпорация микроэлектроники и компьютерной технологии. 1983 г.) объединяют капиталы и создают совместный |
— НИП представляют собой не только эффективную форму интенсификации ИР, но и являются принципиально новым элементом в системе производственных отношений. В рамках этих программ под эгидой и при активном участии государства обобществляются крупные материальные финансовые и трудовые ресурсы, результаты работ также являются коллективным достоянием участников;
— за последние десятилетия программы эволюционируют в трех основных направлениях. Во-первых, происходит количественный рост и распространение на все более широкий спектр отрас-
Глава 2. Освбвнноетв современного зтаоа интеграции науки в производства
| исследовательский центр, штат которого на 40% укомплектован учеными и инженерами, командируемыми фирмами-основателями на срок до четырех лет. Организаторы Sematech (Semiconductor manufacturing technol — Технология производства полупроводников, 1987 г.) идут еще дальше, они объединяют капиталы, создают совместный исследовательский центр в г. Остин (штат Техас) и там же — совместное опытное производство, где создаваемое оборудование проходит отладку и эксплу-тационную проверку, где действуют демонстрационные участки, позволяющие фирмам-участницам программы не только наглядно убедиться в работоспособности новых машин и линий, но и обучить кадры специалистов, которые затем внедрят аналогичные технологии на своих заводах. |
лей национального хозяйства. Во-вторых, уже не только продукционные, но и технологические программы все чаще охватывают практически все стадии цикла технологических нововведений, от фундаментальных идей до экспериментальных образцов изделий. В-третьих, растет удельный вес программ, при осуществлении которых кооперативные начала выражены наиболее последовательно — материальные и людские ресурсы физически объединяются в составе специально составляемых исследовательских организаций и производственных мощностей; — в передовых странах мира НИП стали главным инструментом государственной научно-технической политики, конкретным воплощением стратегии выбора национальных приоритетов в сфере ИР, обеспечивающим продвижение вперед на ключевых направлениях современной технологии. Концентрируя ресурсы и создавая необходимую для успеха «критическую массу» на решающих участках, снижая дублирование, уменьшая степень риска для каждого отдельного участника, усиливая в конечном счете плановость и целенаправленность НТП, национальные программы являются эффективным средством поддержки темпов развития общества. Нет сомнения в том, что эта форма организации ИР будет развиваться и совершенствоваться.
| Хотя НИП являются мощным инструментом НТП на современном этапе его развития, они не могут решить всех проблем, стоящих перед экономикой в целом. В процессе ее перестройки на наукоемкой основе необходимо широкое внедрение новых технологий во всю инфраструктуру страны, во все отрасли производства и сбыта на всех типах предприятий, от крупных до мелких. Проделать такую работу «из центра» силами одного центрального правительства практически невозможно. Объективно, в силу существа самой проблемы, возрастает роль региональных и местных структур всех типов — государственных, производственных, общественных. Происходит перераспределение полномочий между центральными и местными органами власти в пользу последних («новый федерализм»), и с конца 70-х— начала 80-х гг. программы регионального развития становятся одним из главных звеньев НТП, эффективно дополняющих НИП. Основными целями региональных программ являются: — развитие научного и вузовского потенциала региона путем организации новых и расширения, модернизации существующих исследовательских центров и учебных заведений, укрепление связей с национальными научными центрами, целевой подготовки кадров научных работников, инженеров и техников, специализирующихся в новых областях технологии; |
ПРОГРАММЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НТП
— содействие развитию наукоемких отраслей промышленности в регионе, созданию местных фирм, в первую очередь мелких и средних, с учетом традиционных видов хозяйства, преобразуемых на базе новых технологий, привлечение наукоемких предприятий извне, из других регионов страны и из-за рубежа;
— создание современной инфраструктуры, обеспечивающей производственную и бытовую сферу услуг, коммуникаций, транспорта, жилищные условия, экологическую безопасность, комфортные условия жизни.
В интересующем нас аспекте региональные программы примечательны в той мере, в которой они отражают процессы интеграции науки и производства, новые формы их реализации. И хотя в этих программах много вполне традиционных элементов типа налоговых скидок и льготных кредитов, новые варианты реализации ИР здесь тоже присутствуют. Именно на региональном уровне возникли и сформировались широко распространенные сегодня программы создания регионов науки, технополисов и научных, технологических и инновационных парков, инкубаторов.
Регионом науки мы называем территорию, схватывающую одну или несколько административно-территориальных единиц (округов, районов), в экономике которых главную роль играют научно-производственные комплексы: исследовательские центры, разрабатывающие новые технологии, и производства, основанные на применении этих новых технологий. Регион обладает высоко развитой, оснащенной по последнему слову техники инфраструктурой, которая, как правило, сочетается с привлекательными природными условиями. В составе региона науки обычно есть и технополисы, и научные парки разных типов. Административно-управленческих структур, специально занимающихся проблемами научно-производственного регионального комплекса нет, их функции выполняют местные власти. Но существуют многочисленные ассоциации, группы поддержки, фонды и другие общественные организации, обеспечивающие разветвленную и динамичную сеть неформальных контактов и связей, являющихся очень эффективным инструментом развития1.
Технополис — это город или несколько сливающихся небольших городов, в экономике которых главная роль принадлежит исследовательским центрам разработки новых технологий и производствам, эти технологии использующим. В составе технополиса функционируют те же компоненты, что и в регионе науки, но в меньших масштабах. Обычно, говоря о технополисе, имеют в виду город, построенный заново или заметно реконструированный в ходе и в результате развития новых производств. Следует, однако, иметь в виду, что сегодня во многих крупных старых городах, хотя там может не быть специально выделенных «высокотехнологичных зон», все или почти все элементы технополиса присутствуют в рассредоточенной, дис-персивной форме. Современные средства телекоммуникаций позволяют объединить разрозненные элементы технополиса в одно целое, не собирая их территориально. Это позволяет ожидать появление такого рода «невидимых» объединений в качестве самостоятельных и влиятельных сегментов в конгломератах столичного типа.
| 1 Примерами регионов науки могут служить Силиконовая долина и Шоссе —128 в США, Коридор М4 и Центральная Шотландия в Великобритании, департамент Иль-Франс с его Большим Парижем во Франции, зона Аахена или территория к югу от Мюнхена в ФРГ. район Цукубы в Японии. Все они сложились в послевоенный период в связи с развитием таких наукоемких отраслей, как электронная промышленность, производство авиационной и космической техники. |
Научный парк — это коммерческая организация, создаваемая при исследовательском центре и располагающая зданиями и территорией, где на условиях аренды размещаются наукоемкие фирмы. Парки многообразны и по размерам, и по условиям функционирования, и по составу клиентов-арендаторов, и по названиям (научный, исследовательский, технологический, инновационный или даже промышленный). Часто вариации названий отражают некоторый набор требований, предъявляемых к фирмам-арендаторам, обычно — тот уровень производственной деятельности, который им разрешается.
Инкубатор — это здание или несколько зданий, где на ограниченный срок (до 5 лет, обычно 2 — 3 года) на условиях аренды размещаются вновь создаваемые малые наукоемкие фирмы-клиенты. Чаще всего инкубатор организуется как часть научного парка, его начальная ступень, но бывает, что этой ступенью дело и ограничивается. Таким образом, инкубатор можно рассматривать либо как зародыш парка, либо как его усеченный вариант. Задача инкубатора — дать возможность новой фирме встать на ноги, окрепнуть технически и обрести финансовую прочность, найти свое место на рынке.
Помимо инкубаторов в составе научных парков возникли и активно развиваются еще два варианта этой формы: корпорация инкубаторов как частные коммерческие предприятия и инкубаторы в составе крупных промышленных концернов. В первом случае фирма-владелец зданий (в разных районах страны) предоставляет перспективным в коммерческом плане клиентам помещение и услуги в обмен на весомую долю пакета их акций. Во втором варианте инкубаторы служат для крупного, диверсифицированного концерна как бы дополнительным многопрофильным испытательным полигоном. Симбиоз с малыми формами позволяет расширить поле поиска перспективных направлений с минимальным риском и при сравнительно небольших затратах. Примером может служить американский концерн Control Data Corporation, один из ведущих в мире производителей сложной вычислительной техники. Он владеет 18 инкубаторами, где размещается более 700 малых фирм-клиентов.
Проведенная классификация построена по принципу, близкому к модульному. Основным опорным модулем в этой схеме является собственно научный парк. В его составе присутствует полный комплекс всех необходимых и достаточных для возникновения анализируемого явления компонентов, представляющих науку, производство, сферу управления, финансы. На этом уровне уже в достаточной мере проявляется распределение ролей между перечисленными компонентами, формы и методы их взаимодействия, специфические задачи, решаемые каждым из них. Наращивание числа модулей и расширение масштабов компонентов естественным образом приводит нас к технополису, а затем и к региону науки. Отсутствие того или иного компонента — к инкубатору или иным «зародышевым» формам.
Детальный анализ всех аспектов научных парков, технополисов и регионов науки, их возможных вариантов, оценка эффективности выполнен в (3). Там же показана история возникновения и развития научных парков в США, Западной Европе и Японии от их зарождения до начала 90-х гг. Здесь же мы отметим лишь несколько итоговых моментов.
1. Феномен научных парков возник в 50-х гг. как результат стихийного образования агломераций новых наукоемких фирм вокруг крупных исследовательских центров типа Стенфордского университета и Массачусетского технологического института в США или Кембриджского университета в Англии. До середины 70-х гг. они оставались локальным и достаточно редким явлением. В конце 70-х и особенно в 80-е гг. в связи с «новым федерализмом» сложились объективные условия для широкого распространения этой формы взаимодействия науки и производства, превращения ее в активный инструмент научно-технической политики как на региональном, так и на национальном уровне1.
'■ В 80-е гг. «парковая волна» охватывает все передовые страны мира и многие из развивающихся стран. К концу 80-х их общее число превышает 7000. В США к 1988 г. функционировало более 130 университетских парков и более 300 инкубаторов, в Западной Европе — более 200 научных парков, в Японии и во Франции силами местных и центральных властей разработаны и реализуются национальные программы создания технополисов, охватывающие практически все префектуры и департаменты.
2. За последние десятилетия институционализирова-
лись и прошли практическую проверку многооб-
разные разномасштабные формы парков от целых
регионов науки до различных видов инкубаторов.
Все эти формы совместимы, свободно могут сосу-
ществовать в пределах научно-промышленных тер-
риториальных комплексов и активно взаимодей-
ствовать между собой. С их помощью успешно
разрешаются традиционные противоречия между
центральным и местным уровнями, устраняются
барьеры между академической «чистой» наукой и
хозяйственной практикой, научные центры начи-
нают превращаться в опорные узлы экономичес-
кого и социального развития округов и районов.
3. В отличие от НИП, где промышленный сектор
представлен в основном крупными корпорациями,
программы парков, как и прочие виды региональ-
ных проектов, особо акцентируют роль и участие
малых и средних предприятий, которые, как изве-
стно, обеспечивают более двух третей занятости и
национального дохода. Благодаря региональным
программам в процессы интеграции науки с про-
изводством включается весь спектр субъектов хо-
зяйственной сферы — от транснациональных ком-
паний до молодых малых фирм. В наукоемких
отраслях промышленности именно малые фирмы
являются наиболее активными субъектами инно-
вационного процесса, выполняют очень большой
объем доработки, модификации, рыночного освое-
ния результатов открытий, совершенных силами
большой науки.
4. С точки зрения чисто коммерческой, вложения
капиталов в создание парков и технополисов дол-
говременны и рискованны. На становление парка,
обретения опыта, формирование динамичной, пло-
дотворной атмосферы в нем уходит длительное
время, не менее пяти, обычно до десяти лет. Поэто-
му, как правило, основные расходы на начальных
стадиях берет на себя государство в лице централь-
ных или местных властей. С точки зрения обще-
ственных интересов это вполне оправдано, ибо по
Раздел У. Наука- основа зшомичесшо и социального прогресса...
абсолютным величинам в сравнении с иными расходами государственного бюджета (например, военными) затраты здесь невелики, и в перспективе могут многократно окупиться.
В то же время помимо экономических выгод программы парков и другие программы регионального прогресса дают иные, не поддающиеся расчету результаты. Обновление промышленного потенциала на основе новейших технологий, улучшение инфраструктуры, модернизация быта, осуществленные по единому, широко разрекламированному, обсужденному, поддержанному множеством общественных организаций плану, с опорой на местный патриотизм и традиции, с привлечением средств населения через специальные займы и компании добровольных взносов — все это, кроме легко осязаемых новых рабочих мест и видов продукции, учебных заведений, дорог, зданий и т. п., имеет еще и весомый социально-психологический, политический эффект. В довольно широких слоях общества, причастных к науке, производству и сервису, в аппарате управления формируется настрой на новаторские подходы, на стремление к преобразованию, улучшению условий труда и жизни, своего рода социальный оптимизм.
Сами парки как оригинальная форма ИР и производства с отчетливым элементом коллективных действий, взаимопомощи являются новым социально-культурным явлением, заслуживающим тщательного изучения.
Программы кооперации на уровне организаций.
Под эту категорию подпадают программы, направленные на развитие совместных ИР, выполняемых организациями, представляющими, с одной стороны, академический или государственный сектор науки, а с другой — промышленность. Инициатором таких программ могут быть сами организации, но чаще в этом качестве выступает государство. Будучи главным источником средств и для академических научных центров, и для государственных лабораторий, оно подталкивает их к более тесному сотрудничеству с промышленностью, используя для этого как поощрительные
| 1 На 1991 г. действовало порядка 100 КИЦ, ежегодно к ним прибавляется 5—10 новых и примерно столько же центров переходит на самофинансирование, так как правительственные дотации предоставляются в качестве «семенных» денег на первые годы работы. |
меры, так и близкие к принудительным (сокращение «общего» финансирования университетов, законы о передаче технологий от государственных лабораторий в промышленность и др.). Во всех рассматриваемых нами странах за 80-е гг. правительственными ведомствами, имеющими отношение к ИР, организованы специальные подразделения, консорциумы или квазичастные корпорации, располагающие информационными центрами и сетями консультативно-внедренческих пунктов, охватывающих всю страну и имеющих целью налаживание кооперации между государственными исследовательскими лабораториями, университетами и промышленными фирмами. Аналогичные подразделения созданы и в самих лабораториях и университетах. В результате практически все исследовательские учреждения академического и государственного сектора сегодня вовлечены в различные варианты кооперативных ИР, осуществляемых совместно с промышленностью и в ее интересах. Достаточно отметить, что, например, в США один только Национальный Научный Фонд финансирует и реализует четыре программы создания кооперативных исследовательских центров (КИЦ)1. В интеграционные процессы качественно новых моментов по сравнению с НИП и программами регионального развития они не вносят, но значительно расширяют поле интеграции, демонстрируют целеустремленную деятельность государственных органов по консолидации всех составляющих национального научно-технического потенциала и многообразие современных форм сотрудничества этих составляющих.

Глава 4
НТВ И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО
— как массовый потребитель новой технической продукции, военной и гражданской;
— как крупный субъект научно-технической деятельности (государственный сектор ИР);
— как координатор совместных действий по развитию национального научно-технического потенциала в целом: выработки целевых установок и приоритетных направлений, организации кооперативных форм ИР, стимуляции взаимодействия всех секторов науки и ускорения процесса нововведений. Все составляющие научно-технического потенциала и все стадии процесса нововведений становятся объектом государственной опеки и регулирования. В этом плане характерна эволюция самого официального термина, обозначающего данное направление деятельности государства: до 70-х гг. — это «научная политика» (science policy), с середины 70-х и до конца 80-х — «научно-техническая политика» (science technology policy), сегодня — «научная, технологическая и инженерная политика» (science, technology and engineering policy);
— как политическая сила, способная в значительной мере определить отношение всего общества к проблемам развития науки и техники, обеспечить поддержку науки обществом, но в то же время способная и подчинить науку своим интересам, которые не всегда адекватно отражают объективные интересы общества.
2. Внутри самой науки происходят изменения институционального и функционального плана, проявляющиеся в размывании границ между традиционными секторами и многократном расширении их практического повседневного взаимодействия. Секторальная структура как бы отступает на задний план и перекрывается новыми структурными образованиями на базе приоритетных направлений и НИП, внутри которых и группируются людские и материальные ресурсы науки, независимо от их секторальной принадлежности. Кооперативные формы ИР доказывают свою эффективность, получают все большее распространение. Подвергается эрозии и традиционное распределение функций между академическим и промышленным сектором; в первом заметно возрастает удельный вес прикладных ИР и так называемых «целевых фундаментальных» исследований, а во втором — фундаментальных. Во многих областях современной технологии (нанотехнология, генная инженерия и т. д.) фундаментальные и прикладные ИР вообще трудно разграничить. В сфере науки происходит и много других изменений, рассмотрение которых выходит за рамки нашего изложения, — такие как перестройка дисциплинарной структуры в результате дифференциации и интеграции традиционных направлений, что обусловлено качественно новым уровнем знаний об объектах изучения и их спецификой; или интеграция точных и гуманитарных наук, связанная с тем, что объектами исследований становятся комплексные, охватывающие живую и неживую, в том числе искусственную, природу системы, неотъемлемой частью и важной составляющей которых является сам человек. 3. Роль науки в развитии общества неизмеримо возрастает, а ученые и инженеры обретают статус наиболее авторитетной социальной группы, к мнению которой прислушиваются широкие слои населения. Об этом убедительно свидетельствуют социологические работы Дж. Миллера (США) и регулярно проводящиеся в рассматриваемых нами странах опросы. Они демонстрируют стабильную поддержку подавляющим большинством населения (более 75 — 80 % респондентов) усилий правительств по развитию национального научного потенциала, веру в то, что наука и технология делают нашу жизнь здоровее, легче и более комфортабельной. Аналогичную позицию по отношению к науке занимают и правительства. В составе государственных органов управления на всех уровнях постоянно функционируют множество консультативных советов, групп и т. п., представляющих науку. Законодательные и исполнительные структуры власти располагают мощными научно-информационными учреждениями, активно участвующими в подготовке и принятии решений по всем крупным вопросам жизни страны. Уровень причастности науки к самым разным сферам жизни общества сегодня столь значителен, что правомерно говорить об интеграции науки не только с производством, но и с общественной практикой в целом. Процесс этот постепенно набирает силу и опыт, сама наука и современное общество еще далеко не полностью готовы к всеобъемлющему перманентному сотрудничеству, но объективная его необходимость становится все более очевидной и насущной.
Кооперативные формы ИР в системе современного хозяйства. Если подходить к проблеме коллективных ИР с позиций классической философии капиталистического свободного предпринимательства, то они очевидно в эту философию не вписываются, наталкиваясь на препоны защищающих свободу конкуренции антимонопольных законов, а в ряде случаев и покушаясь на принцип «равных возможностей». Будучи чрезвычайно важным и полезным механизмом, исключающим возможность монополизации рынка какого-либо товара небольшим числом производителей со всеми вытекающими из монополии негативными для научно-технического и экономического прогресса последствиями, антитрестовские законы в то же время блокировали объединение ресурсов фирм-конкурентов и в научно-исследовательской области. Принцип же равных возможностей не давал права государственным лабораториям передавать или продавать фирмам лицензии на созданные в этих лабораториях новшества с предоставлением лицензиату исключительного права использования изобретения.
Возникшие трудности были устранены путем внесения в антитрестовские законы корректив (первым это сделали японцы в 1962 г., последними — американцы во второй половине 80-х гг.), которые выводили сотрудничество в области ИР из-под действия этих законов, разрешая коллективные действия на так называемой
Раздел У. Наука- основа звдвмичесшо и социального прогресса..
«доконкурентной» стадии создания товара — при решении фундаментальных научных проблем, исследовании новых физических эффектов и способов их использования, принципиальных технических решений, создании макетов и прототипов, их испытаний. Цель кооперации — поднять на новую, более высокую ступень общий технический уровень определенной отрасли или подотрасли производства. Поэтому совместные исследования влияют не на конкуренцию между участниками, а на конкурентоспособность каждого из них, поднимают ее и тем самым, по сути дела, усиливают и конкуренцию, но на ином, общими усилиями достигнутом уровне.
Чтобы перейти от результатов кооперативных ИР к готовому рыночному товару, необходима основательная конструктивная и технологическая доработка, причем на базе одного прототипа могут появиться десятки разнообразных конкретных устройств и систем. Здесь и разворачивается конкурентная борьба за то, чтобы быстрее, целесообразнее, прибыльнее использовать совместно созданный научно-технический задел.
Что касается передачи технологий, то ее узаконили, мотивируя это тем, что лицензионные платежи поступают государству, а внедрение нововведения способствует оживлению в промышленности, созданию новых рабочих мест и т. д., то есть работает на общество в целом.
Насколько убедительны и логичны мотивировки законов, устранивших преграды на пути кооперации в сфере ИР, не столь существенно. Важно, что была продемонстрирована гибкость, позволившая приспособить производственные отношения к новым условиям развития производительных сил.
Коль скоро кооперативные формы ИР дают хороший эффект, то можно ли ожидать превращения их в ведущую или даже господствующую форму промышленных исследований? Нет, столь прямолинейная логика в данном случае, как и при рассмотрении многих других частных явлений, входящих в сложную социально-экономическую систему общества, не работает и способна лишь довести конкретную истину до абсурда. Кооперация, объединения субъектов научно-технического развития хороша и прогрессивна до тех пор, пока и поскольку она не ведет к подрыву конкурентных отношений между этими субъектами, не создает условия для появления монополизма и неизбежно связанного с ним застоя. Такого рода потенции в кооперативных ИР, выходящих на отраслевой уровень, да еще с весомым участием государства, тоже имеются. И они ставят определенный предел целесообразным масштабам использования коллективных форм. В системе хозяйства, основанной на частной собственности и рыночных отношениях, при наличии антимонопольных заслонов в сфере производства и распределения, он выявляется и корректируется автоматически. Коллективные ИР организуются частными фирмами не вместо собственной исследовательской базы и не в ущерб ей, лишь наряду с нею и в дополнение к ней. При этом собственная исследовательская база продолжает наращиваться и развиваться. Затраты на ИР в частном секторе постоянно увеличиваются. Решение ключевых задач своей технической политики и стратегии развития фирма никаким коллективным организациям не делегирует, а полностью оставляет за собой. Собственный научный потенциал является, кроме всего прочего, необходимым условием равноправного участия в кооперации и возможности извлечь из нее наибольшую пользу. А возможность выбора между собственными, заказанными на стороне или коллективными исследованиями обеспечивает доступ к расширенному резервуару научно-технических ресурсов и позволяет гибко выбирать оптимальную тактику.
Пока краеугольные камни рыночной экономики сохраняются, кооперация ИР никаких негативных последствий не вызывает, а наоборот, является адекватным ответом на изменяющиеся условия научно-технического развития. Резервы ее далеко не исчерпаны ни в национальном, ни тем более в интернациональном масштабе.
Таким образом, анализ сущности, основных этапов эволюции и закономерностей функционирования научно-технического потенциала развитых стран показывает, что именно наука является базовой структурой инновационных экономик этих стран, обеспечивая не только гарантированное массовое производство инноваций фундаментального и прикладного характера, но также высокое качество жизни, конкурентоспособность в глобализирующемся мире и, самое главное — повышение адаптационных возможностей человечества к вызовам не только планетарного, но и космического масштабов.
д Словарь ключевых терминов___________________
Академический сектор науки — в большинстве стран мира под этим термином обычно понимается совокупность научных подразделений высших учебных заведений. В СССР же под академическим сектором имелись ввиду научные организации Академий Наук. В значительной мере такое же понимание термина сохранилось в РФ. Вузовская наука в таком случае рассматривается как отдельный сектор.
Государственная научно-техническая политика — система мероприятий, планируемых и осуществляемых органами государственного управления в соответствии с их иерархией для обеспечения оптимальных условий динамичного, эффективного и экологически безопасного развития научно-техни-. ческого потенциала страны (региона, области, округаиг. п.). Государство выступает по отношению к сфере науки и техники в следующих основных функциях:
— как законодатель, устанавливающий правовые основы функционирования науки, в обществе в целом и конкретные нормы регулирования его научно-технического сегмента;
— как крупный заказчик и потребитель новой технологической продукции, в том числе единичной и уникальной (например, крупные ускорители элементарных частиц, радио или оптические телескопы, суперкомпьютеры и т. п.);
— как координатор совместной деятельности всех секторов науки, направленной на развитие научно-технического потенциала в целом, на повышение конкурентоспособности национальной науки на мировой арене;
— как политическая сила, определяющая отношение всего общества к проблемам науки и техники.
Лишь одна из перечисленных ролей государства — законотворческая присуща только ему. Во всех остальных случаях государство выступает как одно из действующих лиц наряду с частными фирмами и корпорациями, различными фондами, общественными организациями и политическими партиями. Государственный сектор науки — совокупность научно — исследовательских учреждений, принадлежащих государству и финансируемых из государственного бюджета. Государственный сектор обеспечивает все те научные направления, которые будучи необходимыми обществу в целом, не разрабатываются частным капиталом по тем или иным причинам (высокая степень риска, необходимость концентрации очень больших ресурсов и т. п.). Основными из этих направлений являются в большинстве стран оборона, национальная безопасность, исследование космического пространства и его освоение, научно-методическая помощь сельскому хозяйству, атомная энергетика, здравоохранение и сложные медицинские установки, экология.
Индикаторы науки и техники — система количественных и качественных показателей, отражающих состояние и динамику изменений научно — технического потенциала. Индикаторы могут быть прямыми и косвенными, масштабными и структурными, абсолютными и относительными. Примерами прямых количественных масштабных абсолютных показателей являются объем национальных затрат на ИР, численность ученых и инженеров в стране, средняя заработная плата ученого. К косвенным абсолютным показателям относятся объем и структура ВВП, производительность труда, объем производства наукоемкой продукции. В последние годы в связи с развитием информациоьшых технологий широкое применение находят такие показатели информатизации общества как число компьютеров на 100 тысяч населения или число пользователей сетью Интернета, число хостов или число защищенных серверов в стране на 100 тысяч или на 1 миллион населения и т. п.
Инкубатор (инновационный центр) —- здание или несколько зданий, где на ограниченный срок на условиях льготной аренды размещаются вновь создаваемые малые фирмы.
Наукоемкая отрасль — отрасль производства или услуг, в которой преобладающее значение имеют наукоемкие технологии.
Наукоемкая технология — технология, при использовании которой объемы ИР превышают среднее значение этого показателя в определенной области экономики (обрабатывающая промышленность, добывающая промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т. п.).
Раздел V. Наука- основа зкономичееквгв и социального прогресса..
Наукоемкое изделие — изделие, в себестоимости или добавленной стоимости которого затраты на ИР выше, чем в среднем в изделиях данной отрасли.
В англоязычной литературе используется термин high tech — высокая технология, изделие и т. д., отражающий именно высокий уровень затрат на ИР в отрасли или изготовлении какого-либо изделия.
Стандартизированной классификации отраслей или изделий хозяйства по признаку наукоемкости не существует. Примерами наукоемких отраслей производства могут служить аэрокосмическая промышленность, производство компьютерной и сложной техники, производство электронных средств связи, фармацевтическая промышленность. В среде услуг это образование, здравоохранение, разработка промышленного обеспечения, маркетинговые услуга и др.
Научный парк (исследовательский парк, технологический парк) — научно — производственный территориальный комплекс (обычно одно или несколько зданий), в котором на условиях аренды размещаются малые и средние наукоемкие фирмы. Администрация парка предоставляет клиентам некоторый набор услуг бесплатно или за небольшую плату. Обычно парк формируется при крупном исследовательском или образовательном центре.
Национальная исследовательская программа — организационная форма кооперации усилий всех секторов национальной науки для решения крупной и сложной технической проблемы. Работы в рамках национальной программы охватывают так называемую «доконкурентную» стадию ИР. Совместно решаются фундаментальные научные проблемы, исследуются новые физические эффекты, изыскиваются принципиальные технические решения, создаются макеты и прото гипы, испытательные стенды и комплексы для апробации новых технологий, но не конкретная рыночная продукция. Чтобы перейти от совместно полученных результатов к конкретному изделию, необходима основательная конструктивная и технологическая доработка применительно к возможностям и профилю того или иного участка программы. На этой, теперь уже «конкурентной», стадии и разворачивается борьба зато, чтобы быстрее и эффективнее реализовать коллективно созданный научно-технический задел. При этом на базе какого—либо прототипа, разработанного на «доконкурент-ном» этапе, могут появиться десятки разнообразных устройств и систем. В итоге конкуренция не спадает, а технический уровень всех участников национальной программы поднимается на новую, более высокую ступень.
Национальный научно-технический потенциал — совокупность кадровых, материальных, финансовых и информационных ресурсов, а также организационно — управленческих и образовательных структур, обеспечивающих функционирование сферы «наука — техника».
Прикладная наука — исследования, направленные на использование научных знаний и методов для решения практических задач, на создание новых, либо совершенствование существующих видов продукции или технологических процессов. Прикладные исследования могут включать расчеты, эксперименты, макетирование и испытания макетов, компьютерное моделирование.
Промышленный сектор науки — совокупность научных центров и исследовательских лабораторий, принадлежащих промышленным, сельскохозяйственным или сервисным гфедприятиям.
Процесс нововведения — последовательность, включающая в себя фундаментальную науку, прикладные исследования, разработки, маркетинг, серийное производство и сбыт нового вида продукции или аналогичная последовательность создания и применения новой технологии и изготовления изделий. Процесс может включать все перечисленные стадии или только часть их, выступая в сокращенном, урезанном виде.
Разработки — проектирование, изготовление и испытание опытных образцов изделий, внесение корректив по результатам испытаний и выполнение всех прочих действий, предшествующих серийному производству и сбыту продукции.
Регион науки — территория, в экополитике которой главную роль играют исследовательские центры, разрабатывающие новые наукоемкие технологии и производства, основанные на применении этих технологий.
Технополис — город в экополитике которого главную роль играют научные центры и наукоемкие отрасли производства и сферы услуг.
Фундаментальная наука — исследование законов природы и общества, направленное на получение новых и углубление имеющихся знаний об изучаемых объектах. Целью таких исследований является раошгрение горизонта науки. Решение конкретных практических задач при этом, как правило, не предусматривается. Иногда в англоязычной литературе различают «базовые» исследования и «фундаментальные». Первые считаются «чистой наукой», далекой от практики, накоплением знаний ради знаний, вторые направлены на получение знаний, которые когда-нибудь принесут практическую пользу.
П*
Д Вопросы для обсуждения
1. Наука — ведущий фактор экономических и социальных инноваций в современном обществе.
2. Понятие НТП, его структура и способы количественного измерения.
3. Основные сектора НТП в развитых странах.
4. Виды научно-технической деятельности, их оптимальное соотношение в развитых странах, принципы финансирования и управления.
5. Основные организационные структуры НТП современных развитых стран.
6. Функции государства в управлении НТП.
7. Единство и различие в управлении НТП в развитых странах.
8. Актуальные проблемы сохранения и развития НТП современной России.
9. Соотношение самоорганизации и государственного управления НТП.
10. Российская наука и ее место в современном мировом научном пространстве
| Литература
Авдулов А.Н. Наука и производство: век интеграции (США, Западная Европа, Япония). М.: Наука, 1992.
Авдулов А.Н., Кулькин A.M. Власть, наука, общество. Система государственной поддержки научно-технической деятельности: опыт США. М: ИНИОН РАН, 1994.
Авдулов А.Н, Кулькин A.M. Научные и технологические парки, технополисы и регионы науки. М.: ИНИОН РАН, 1992.
БерналДж. Наука в истории общества. М.: Изд-во иностр. лит., 1956.
Добров Г.М. Наука о науке. Киев: Наук. Думка, 1989.
Лебедев С.А. Современная философия науки. М., 2007.
Наука России на пороге XXI века: проблемы организации и управления / Под общ. ред. С.А. Лебедева. М.: Университет.-гуманит. лицей, 2000.
Тацуно Ш. Стратегия — технополис / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989.
Философия науки: наука как деятельность / Под ред. С.А. Лебедева. М., 2007.
РАЗДЕЛ VI.
| 1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 03-03-00068а. |
ФИЛОСОФИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ1
Глава 1
РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Основой всех современных развитых государств является инновационная экономика. Важнейшим элементом ее конкурентоспособности и развития является интенсивная интеллектуальная деятельность, прежде всего в области науки и техники.
Соответственно одним из фундаментальных вопросов современного общества является вопрос об отношении к интеллектуальному труду, правовому механизму использования результатов такого труда и регулирования возникающих при этом правоотношений.
Представляется правильным рассматривать эти .. отношения в комплексе, в сочетании правовых, экономических, управленческих и социально-психологических аспектов. Правовые аспекты интеллектуальной деятельности лежат в плоскости решения проблем распределения прав на ее результаты, с необходимостью охраны и защиты интеллектуальных достижений.
Экономические проблемы интеллектуальной деятельности связаны с прогнозированием перспектив создания и последующего использования ее результатов, оценкой эффективности этих результатов и мер по стимулированию их достижений, что в значительной степени определяется совершенством систем управления интеллектуальной деятельностью. Наконец, социально-психологические аспекты интеллектуальной деятельности влияют на создание климата для восприимчивости общества и экономики к новым технологиям и научным идеям.
Очевидно, что процесс инновации, т. е. процесс создания новшеств, их промышленного освоения и внедрения в производство, не может начаться, если нет объекта инновации — нового технического или технологического решения. Только после того, как новое техническое решение предложено и зарегистрировано на вполне определенного владельца в виде физического или юридического лица, возможен поиск и приток финансовых средств, т. е. инвестиций, которые позволяют организовать производство объекта инновации.
Современные достижения в области технологии и организации производства и снижение роли физического труда в массовом производстве товаров народного потребления позволяют говорить о производстве как о материальном копировании, многократном повторении объекта промышленной собственности, который является итогом, результатом интеллектуальной деятельности. Естественно, что такой итог умственного труда (далее — интеллектуальный результат, продукт) как объект для многократного материального воплощения имеет большую ценность, чем любая из его копий, и вопросы вычленения, определения и оценки отдельных результатов умственной деятельности становятся определяющими для становления и функционирования конкурентоспособной экономики.
К сожалению, правовое отношение к интеллектуальной (в т.ч. промышленной) собственности как к одной из наиболее общественно значимых экономических категорий еще не стало нормой в современной России. Традиции социалистической экономики оказались труднопреодолимыми.
Как известно, в советские времена изобретения как объекты интеллектуальной, промышленной собственности принадлежали государству. Несмотря на теоретически существовавшую возможность получения изобретателем на свое изобретение патента, их количество было до смешного малым, а вознаграждение за них — мизерным. Так, в 1986 г. было выдано 1108 патентов и 78259 авторских свидетельств. Средний размер поощрения за авторское свидетельство составлял порядка 50 рублей, т. е. плату за 5 — 10 рабочих дней.
Глава 1. Роль интеллектуальной деятельности в инновационной экономике
Принадлежность основной массы изобретений государству, а также отсутствие возможности осуществлять частнопредпринимательскую деятельность на основе изобретений крайне ограничивали использование изобретений для инноваций. Другими словами, привлекательные технические и технологические новинки сваливались в одну гигантскую кучу принадлежащих государству, а фактически бесхозных, изобретений, в то время как промышленность зачастую продолжала выпуск устаревших и неконкурентоспособных изделий.
Ситуация с этим видом объектов интеллектуальной собственности по-прежнему характеризуется пренебрежением к значимости результатов интеллектуального труда. Несмотря на довольно значительную часть общества, занятую в сфере умственного труда, до настоящего времени во многом остаются неурегулированными вопросы, связанные с интеллектуальной деятельностью и правовой принадлежностью ее результатов.
Труд, как известно, представляет собой целенаправленную деятельность человека по обеспечению своих разнообразных потребностей. Это не означает, конечно, что каждый человек делает все, что ему необходимо как потребителю: пищу, одежду, жилье, средства транспорта и т. д. Столь примитивный способ жизни давно ушел в прошлое и лишь какие-то форс-мажорные обстоятельства (типа кораблекрушения) время от времени напоминают о потенциальных возможностях человека. Реальная жизнь подавляющего большинства людей — это жизнь в обществе, где труд каждого члена общества узко специализирован. В то же время каждый член общества существует как универсальный потребитель. И не только существует, но и развивается. Появляются новые потребности (как жизненно важные, так и потребности в развлечениях), которые становятся все более многочисленными по мере появления новых возможностей для их удовлетворения.
Понимание труда как целесообразной деятельности по производству потребительных ценностей полностью включает в себя все разновидности труда как физического, так и умственного.
Необходимо при этом подчеркнуть, что перечень категорий работников умственного труда отнюдь не исчерпывается учеными, конструкторами, писателями и другими представителями творческих профессий. К ним в полной мере можно отнести служащих, т. е. работников различных органов власти и управления, учителей, медицинских и других работников.
Интеллектуальный продукт как результат творческой умственной деятельности относится прежде всего к науке и технике. Однако в равной степени этот термин относится и к художественному творчеству (литературе, искусству — далее искусству). Такой подход к признанию как научно-технических результатов, так и произведений искусства в качестве интеллектуального продукта имеет глубокий смысл. Если научно-технические результаты можно определить как знание об объектах первой и второй природы (материальной деятельности человека в ее различных проявлениях), то искусство — результат создания художником, писателем, музыкантом образов, моделей внутреннего мира человека, его индивидуального восприятия объектов окружающего нас мира, других людей.
В обоих случаях продуктом умственной деятельности оказывается знание. В науке — в виде объективного знания о природе, в искусстве — как субъективное отражение художником мира, его восприятия.
Итак, наиболее общим определением интеллектуального продукта следует считать знание. Знание передается в виде сообщения «себе подобным», т. е. в виде информации.
Информация о новом интеллектуальном результате, т. е. сообщение о нем, может быть представлена на разных естественных и искусственных (в том числе машинных) языках и в различной форме. На разных естественных языках представляются те интеллектуальные результаты, которые выражаются словами естественного языка (текстами), научно-технические результаты, литературные тексты. Однако во многих видах искусства (живопись, музыка, балет) результат
Глава 1. Роль интеллектуальной деятельности в инновациоиней экономике
представляется в виде некоторого образа, воспринимаемого зрительно или на слух независимо от этнического происхождения человека, т. е. язык зрительных и слуховых образов достаточно универсален (хотя и не един для разных культур и цивилизаций).
Следует отметить, что согласно современным взглядам любой результат интеллектуальной деятельности (далее — интеллектуальный результат), независимо от того, на каких языках, носителях и в какой форме он представлен, не теряет своей принадлежности, своего автора (творца) или хозяина (в случае передачи интеллектуальной собственности). Информацию, представленную на любом языке, любом носителе и в любой форме и содержащую то новое знание, которое представляет собой результат интеллектуального труда, и следует считать обобщенной формой интеллектуальных достижений.
Как и всякий продукт, научный и научно-технический продукт может стать товаром, если он предназначен для реализации и на него есть спрос. Этот своеобразный товар выступает либо в виде объектов авторского права, либо в виде объектов патентного права.
Это особенно очевидно по отношению к производственным инновациям и промышленной собственности. Этот вид научного интеллектуального продукта имеет четкую рыночную цену, он продается и покупается, используется в качестве уставного капитала и т. п., обеспечивая его владельцу (не обязательно автору) возможность коммерческой выгоды в течение определенного времени. И вполне естественно, что за охрану такого объекта интеллектуальной собственности, гарантируемую патентным законодательством, владелец объекта промышленной собственности (изобретения, полезной модели и др.) платит соответствующие пошлины. Если новое созидательное знание получено в виде технического, технологического усовершенствования, рецепта, методики (ноу-хау), то оно также является интеллектуальным товаром со всеми последствиями, включая его охрану.
Патентная охрана требует специальных действий юридического или физического лица: составления и
Раздел VI. Шилрсрфив ннтвддвктуадьнон собственности
подачи заявки, уплаты пошлин и др. В отличие от этого авторское право возникает всегда по мере обнародования работ, и лишь в редких случаях используется иной механизм признания авторства.
Содержание интеллектуального продукта (результата) наук не признается объектом интеллектуальной собственности ни международным, ни отечественным законодательством. Ушел в прошлое и остался невостребованным опыт советской системы регистрации крупных научных результатов на уровне открытий, которая, хотя и не закрепляла эти результаты в виде собственности, способствовала повышению престижа в научном сообществе.
В отличие от научно-технической интеллектуальной деятельности творческий труд в области искусства не имеет подобных исключений. Все, что создано в области искусства, априори считается продуктом с потребительной стоимостью, т. е. товаром. Это в равной степени касается произведений и живописи, и музыки, и литературы, и танца. Своеобразие результатов умственного труда в области искусства заключается в том, что, не обладая объективными критериями своей ценности (значимости), они нередко проходят весьма сложный и непредсказуемый путь на потребительском рынке, и их ценность зависит от многих трудно учитываемых факторов, от уровня эмоционального и художественного воздействия, славы их создателей, от моды и т. д. Познавательная и художественная ценность многих из них признается спустя годы. Кажется, это качество вообще присуще произведениям искусства — увеличивать свою ценность с течением времени. В отличие от них потребительная стоимость интеллектуальных научно-технических результатов со временем снижается вполне предсказуемым образом, т. к. через определенное время (срок действия патента) они переходят во всеобщее знание, не являющееся товаром.
Глава 2
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Интеллектуальная собственность представляет собой исключительные права физического или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, работ и услуг, т. е. фирменное наименование, товарный знак и др. (ГК РФ, ст. 1.38). Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться только с согласия правообладателя.
Виды интеллектуальной собственности. Как уже
было сказано выше, результатом интеллектуального творческого труда является интеллектуальный продукт, который в определенных случаях представляет собой товар и пользуется рыночным спросом, отражающим как его реальную потребительную стоимость, так и конъюнктурные факторы рынка.
В любом случае — является интеллектуальный продукт товаром или не является — у него есть «собственник», владелец этого продукта. Владелец интеллектуальной собственности может распоряжаться своей собственностью по собственному желанию, с учетом имеющихся в обществе ограничений. Конечно главной привлекательностью любой собственности является ее «ликвидность» — возможность продать, обменять на другую, сдать в аренду и т. п. Как определяет ГК РФ (ст. 1.28) к объектам гражданских прав Оси относятся: вещи (деньги, ценные бумаги, иное имущество и имущественные права), работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, исключительные права на них (т. е. интеллектуальная собственность); нематериальные блага. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому легальным способом (ст. 1.29). К вещам относят движимые вещи (деньги, бумаги, все перемещаемые в пространстве вещи — автомобили, мебель, предметы личного употребления и т. п.), недвижимые вещи (недвижимость) — земельный участок, участок недр, обособление водных участков и объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению, т. е. дома, леса, дороги и т. п. К недвижимости закон относит также космические объекты, воздушные и водные суда.
Информацию как объект гражданских прав Гражданский кодекс полагает только тогда, когда она составляет служебную или коммерческую тайну, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность и к ней нет свободного доступа на законном основании.
Нематериальные блага (ст. 1.50 ГК РФ) включают в себя жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, право на авторство и др. — т. е. то, что принадлежит гражданину от рождения или по закону. Здесь важно отметить, что к нематериальным благам относятся личные нематериальные права.
Как видно, перечисляемые ГК объекты гражданских прав включают в себя и интеллектуальную собственность. Некоторую двойственность вносит включение в их число информации, поскольку информация — это практически синоним интеллектуального результата, т. е. продукт интеллектуальной деятельности. Вместе с тем информация отражает не только итоги тех видов творческой деятельности, которые охраняются специальными законами (патентным и об авторском праве), но и любой другой интеллектуальной деятельности (например, ноу-хау) или интеллектуальных услуг (консалтинговая деятельность, информационные услуги и т. п.). Поэтому в принципе информация является более общей категорией как объект гражданских прав, чем такие традиционно выделяемые объекты, как результаты научно-технического творчества и искусства.
Важно еще раз подчеркнуть, что интеллектуальной собственностью являются не только и даже не столько сами результаты интеллектуальной творческой деятельности в виде натурной модели новой машины, описания, изобретения или промышленного образца, или в виде оригинала художественного произведения, или в виде ленты кинематографического произведения, или в виде комплекта чертежной технологической оснастки. Интеллектуальная собственность — это исключительное право использования результата интеллектуальной творческой деятельности в виде предметного воспроизведения созданного изобретения или в виде копий художественного произведения, сделанных в любой форме, позволяющей впоследствии восстановить это произведение. Промежуточная форма произведения может быть любой — фотографической, типографской, электронной и т. п.
Интересно отметить, что в ряде случаев само художественное произведение может иметь «бестелесный» вид — спетая песня, прочитанная лекция, исполненный танец и т. п., так что единственным «материальным носителем» информации в области искусства нередко является память людей, в присутствии которых прозвучало или было показано произведение. Соответственно, и «копирование» является копированием «по памяти».
Поэтому наиболее характерной особенностью интеллектуальной собственности (ИС) является право использования некоторого результата интеллектуальной деятельности, подпадающего под определение объекта ИС. В подобном подходе к определению ИС нет чего-то сверхособенного. Уже упоминавшееся недвижимое имущество в силу своей сути («недвижимость») также есть не что иное, как право исключительного (т. е. по своему усмотрению) владения в смысле использования и распоряжения участка земли, здания и т. п., и это право можно продать, передать и т. д.
Использование права владения объектом интеллектуальной собственности означает прежде всего получение реальных или потенциальных доходов от копирования (повторения, воспроизведения) объектов. Воспроизведение технического или художественного решения при последующей реализации изделий (копий) образует источник доходов, обладающий явными признаками монопольного производства или копирования. Право интеллектуальной собственности реально и означает монопольное право, получаемое ее владельцем. Естественно, это право не может быть неограниченным во времени — во всех странах оно ограничено сроком действия патента или продолжительностью действия авторского права.
Весь смысл исключительных имущественных прав на ПС заключается в монополии на потенциальную прибыль. Если объект, охраняемый патентом, изготавливается не с целью последующей коммерческой реализации и получения дохода, а для личного пользования физическим лицом, то такое действие не является нарушением исключительных прав владельца ИС и не преследуется законом.
Исключительное право собственности не мешает и не тормозит прогрессивное развитие ни в отдельных странах, ни в мире в целом. Закрепленное патентом новое научно-техническое или технологическое решение не становится секретным, недоступным для общества (за исключением изобретений военного и т. п. характера). Наоборот, информация о патентах широко распространяется по всему миру, образуя один из мощнейших источников информации о научно-техническом прогрессе, особенно с учетом того факта, что только 20 — 25 % всех новых решений описываются где-нибудь еще, вне патентных источников. Патентование как форма охраны интеллектуальной собственности не только способствует образованию фонда новых знаний, но и позволяет вовлечь других людей, склонных к изобретательству, в разработку новых идей и решений, а нередко непосредственно стимулирует появление новых, оригинальных решений.
Все сказанное относится и к объектам искусства. Публикация, обнародование творческих произведений не только делает возможным их «потребление» любым членом общества, но и немедленно входит в активный фонд культуры. Здесь опять речь идет о полученном владельцем ИС праве на монопольную прибыль за счет копирования его творческих результатов.
Состав объектов интеллектуальной собственности определен Конвенцией об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности, ВОИС (World Intellectual Property Organization, WIPO), принятой в 1967 г. Ст. 2 Конвенции [2-А] гласит: «Интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к:
— литературным, художественным и научным произведениям;
— исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;
— изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
— научным открытиям;
— промышленным образцам;
— товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;
— защите против недобросовестной конкуренции;
а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной области.
Структуру интеллектуальной собственности образуют: 1) промышленная собственность, 2) авторское право и 3) смежные права на произведения науки и художественного творчества. Каждая из этих ветвей ИС регламентируется и описывается своими законами — промышленная собственность (industrial property! охраняется патентным законодательством, а научная и художественная собственность — законом об авторском праве (copyright) и смежных правах. Это — первое, самое примитивное деление, поскольку и промышленная, и «художественная» собственность достаточно многообразны, и необходимо более детальное их определение и рассмотрение. Кроме того, довольно большое количество объектов промышленной собственности защищается авторским правом, образуя область «промежуточных» объектов интеллектуальной собственности.
Права на такие объекты, как деятельность артистов, аудио- и видеозаписи, называют смежными правами, закрепленными вместе с копирайтом.
Правовые средства защиты от недобросовестной конкуренции также являются одним из объектов промышленной собственности и входят как в национальное, так и международное законодательство.
Объекты авторского права. Авторским правом охраняются произведения науки, литературы, искусства, т. е. монографии, стихи, картины, музыкальные сочинения и т. д. В широком смысле под литературными произведениями понимается информация любого характера (в т. ч. научная), признаваемая авторской, зафиксированная на материальном носителе в виде любых знаков.
Авторским правом охраняются и описания запатентованных технических решений, так что изобретения защищены патентами по сути технического решения, а форма изложения, представления информации об изобретении защищена авторским правом, и сроки этого вида охраны не связаны со сроками действия патента и даже с отказом в выдаче патента по причине отсутствия новизны в предлагаемом техническом решении.
Право автора на созданное им творческое произведение возникает «само собой», в связи с самим фактом создания данного произведения. Для возникновения авторского права обычно не требуются никакие регистрации, не нужно получения специального документа типа патента или свидетельства. Однако, когда механизм авторского права используется для охраны объектов, относящихся по своему назначению к промышленным объектам, используется процедура регистрации. Это правило действует по некоторым объектам авторского права — топология микросхем, программы для ЭВМ и некоторые другие.
Глава 2. Сущность и структура интвллвпуальной собственности
Особо следует упомянуть о тех произведениях, которые содержат информацию о новшествах технологического характера, конструкторскую и технологическую информацию, т. е. объектах промышленной собственности, которые обычно определяют как ноу-хау (know-how — знаю как). Эти результаты интеллектуальной деятельности в виде коммерческой информации также являются товаром и могут продаваться, передаваться и т. д. на условиях, определяемых договором.
Последнее время получил распространение такой вид научно-технической продукции, как различные технико-экономические продукты, которые при наличии спроса становятся товаром и нередко используются в качестве уставного вклада в предприятие. В этом случае для подтверждения права собственности на подобный интеллектуальный продукт также используется предварительная его регистрация с конфиденциальным депонированием проекта и последующая передача прав (или их части) на него.
В подавляющем большинстве случаев творческие результаты, подпадающие под охрану авторским правом, публикуются, т. е. распространяются в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей общества, что зависит, естественно, от характера произведения. Сценическое воспроизведение произведения эквивалентно опубликованию. Охрана произведения авторским правом не зависит от его качества или текущей ценности, т. е. в принципе все произведения признаются ценными и заслуживающими охраны.
Охрана авторским правом не исчерпывается «копирайтом», хотя нередко эти понятия используются как синонимы. Копирайт — это право получения с помощью интеллектуального продукта дохода, образующегося путем продажи копий творческого достижения, либо путем продажи самого права копирования другому лицу. Копирайт не исчезает с продажей оригинала художественного произведения, например, картины или скульптуры, и действует определенное время в течение всей жизни автора, а затем продлевается. Считается, что такой механизм охраны обеспечивает справедливый баланс между имущественны-
Раздел VI. Философия ивтвддрктцальнрй собственности
ми правами владельца интеллектуальной собственности и потребностями общества в свободном использовании данного творческого достижения. Нередко пользование такими произведениями за временными рамками копирайта также сопровождается определенными сборами в интересах общества и развития культуры.
Копирайт — важнейшее имущественное право в области ИС, обеспечивающее потенциальную материальную основу жизни и (возможно) процветания автора и (или) владельца объекта художественного творчества. Вместе с тем, копирайт не исчерпывает всех прав автора. Авторское право защищает и другие права, в основном неимущественного характера (сохранение имени автора, невозможность правки или изменения произведения без согласия автора (наследника)) и т. д. Поэтому понятия авторского права и копирайта не синонимичны.
Объекты промышленной собственности. Понятие промышленной собственности означает исключительное право на владение и распоряжение творческими результатами научно-технического характера. Традиционными объектами промышленной собственности следует считать изобретения и полезные модели как новые технические решения, промышленные образцы как дизайнерские решения внешнего вида промышленных товаров и продуктов и др.
Кроме изобретений, полезных моделей и промышленных образцов к объектам промышленной собственности относятся товарные знаки, знаки обслуживания, наименования места происхождения товара, а также защита от недобросовестной конкуренции.
Ноу-хау — конфиденциальные (т. е. не имеющие широкого распространения и свободного доступа к ним) знания технологического, технического, экономического, финансового, организационного и другого характера, предоставляющие их владельцу определенные преимущества. Информация, содержащая ноу-хау, является одним из видов коммерческой информации и обычно относится к ветви промышленной собственности.
Как объект промышленной собственности, ноу-хау не имеет четких ограничений и не требует государственной регистрации, хотя в ряде случаев ее владелец во избежание сложностей при идентификации объекта продажи, его объема и принадлежности предпочитает провести регистрацию известительного характера (без экспертизы и т. п. действий) в органах типа нотариальной конторы, административных органах или в авторских обществах.
Компьютеры и компьютерная поддержка работ являются одной из новых и быстро развивающихся областей интеллектуальной собственности. Собственно компьютеры как варианты технических решений достаточно общих идей хранения и переработки массивов данных (от первичных данных наблюдений до высококонцентрированной информации как результата длительных и сложных интеллектуальных творческих процессов) представляют собой типичный объект промышленной собственности и защищаются патентным правом.
Для охраны компьютерных программ использовано авторское право, поскольку использование программы означает не только изготовление копий, но и управление компьютером. Последнее не входило в сферу охраны авторским правом, потому что охраняется только копирование произведений и их публичное (не в частной жизни) исполнение.
Интегральные микросхемы как объект интеллектуальной собственности стали рассматриваться в самые последние годы. Топология микросхемы, т. е. схема размещения ее составляющих и соединительных проводников, не является ни патентоспособным изобретением (по причине отсутствия требований изобретательского уровня), ни промышленным образцом (т. к. топология не определяет внешнего вида микросхемы), поэтому наиболее подходящим средством охраны этого трудоемкого интеллектуального товара является разработка специальных законов по охране топологии микросхем. Охрана топологии интегральных микросхем в Российской Федерации обеспечивается специальным законом.
Глава 3
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
Показать объективно-значимый, а не субъективно-конвенциональный характер, содержание любого понятия можно двумя способами. Первый — экспериментальная проверка истинности тех высказываний, в которых используется данное понятие. Второй — анализ исторического развития содержания понятия, в ходе которого выкристаллизовалось именно современное его значение. Очевидно, что в случае понятия «интеллектуальная собственность» применим только второй способ.
Становление понятия «интеллектуальная собственность». Результаты умственной деятельности или даже умственного труда (как преобладающего способа самоподдержания, обеспечения жизни) долгое время не получали общественного признания как личная собственность их авторов, хотя отдельные признаки личностной принадлежности, признаваемой обществом, известны с древнейших времен в виде имен скульпторов, поэтов, политиков.
Образование и становление института интеллектуальной собственности как стороны общественных отношений на фоне достаточно долгой истории человечества произошло сравнительно недавно и было вызвано осознанием важной роли созидательных результатов интеллектуальной деятельности и необходимостью закрепления имущественных прав обладателей этих результатов. Имущественные права на интеллек-Du4 туальную собственность означали последующие имущественные блага, появляющиеся в результате использования (как правило — многократного) этих результатов, и могли устанавливаться обществом только в виде обещания получать часть будущих возможных дополнительных благ от результатов интеллектуального труда. Такие права на исключительное, монопольное использование интеллектуальных результатов, получившие название «интеллектуальная собственность», являются по своей сути обещанным обществом потенциальным дополнительным доходом владельцам этих результатов в их производственно-коммерческой деятельности.
Приведенное выше современное толкование интеллектуальной собственности явилось итогом эволюции общественных взглядов на результаты интеллектуальной деятельности, о чем свидетельствуют последние 400 — 500 лет истории.
Формирование промышленной собственности как ветви интеллектуальной собственности началось с XII в., практически одновременно с развитием промышленности, науки, образования. Так, в Англии в XII — XIV вв. королевской властью давались особые привилегии лицам, создающим новые отрасли производства на базе импортных технологий. Эти привилегии имели вид исключительного права использовать такую технологию на срок, достаточный для ее освоения и окупаемости. Получаемая монополия и была компенсацией основателю новой отрасли производства, служащей для поощрения инициативных людей, осуществляющих инновации. Очевидна выгода такой защиты и для государства — она открывала путь для наиболее прогрессивных технологий, привносимых в страну извне.
Дарованные временные исключительные права на монопольное владение той или иной технологией, т. е. промышленная собственность, подтверждались патентом («Letters Patent» — «открытая грамота»). В начале XVII века в той же Англии был принят статус о монополиях, в соответствии с которым единственной формой монополии, легально разрешаемой в государстве, была монополия по патенту со сроком действия
Раздел VI. Философия ннтвддвктуадьнвй собственности
до 14 лет. Здесь же было определено, что патент должен выдаваться только «истинному и первому изобретателю» новых изделий.
Конечно, с тех пор понятия и патента, и изобретения серьезно изменились и расширились. Например, стало всеобщим требование подробного и исчерпывающего описания изобретения, включая формулу изобретения, определяющую объем прав патентообладателя. Сам патентообладатель (владелец патента) не обязательно является действительным автором нового решения.
Свой путь эволюции прошел и такой объект промышленной собственности, как товарный знак. Зародившись еще в древние времена, товарный знак вначале имел скорее качество личного клейма на производимых изделиях — от кирпичей до ювелирных изделий, т. е. как атрибут авторства изделия. Во многих случаях известность клейма была обусловлена известностью автора подобных изделий, гарантией качества материала и изделия.
Начиная с XIX столетия товарные знаки получили не только свое теперешнее название, но и современное правовое наполнение. Развитие массового производства, формирование национальных и интернациональных товаропроводящих сетей, неслыханные ранее масштабы торговли привели к необходимости универсальной идентификации товаров, различий их отдельных спецификаций, сортов, фирменных модификаций и т. п. Простое «клеймение», т. е. проставление того или иного знака индивидуализации товара, в том числе и его производителя, без исключительного права на подобные знаки вызвало такую волну подделок знаков принадлежности, что потребовалось введение специальных правовых норм.
В Англии соответствующие меры защиты были выработаны к середине прошлого столетия в виде судебных прецедентов, общий смысл которых сводился к защите исключительных прав владельца товарного знака. Лицо, владевшее правом на товарный знак, имело это право в полном объеме, т. е. могло запрещать пользоваться этим знаком кому-либо еще, что получило название запрета на ведение дела под чужим именем.
Подобные процессы преобразования прав на товарный знак в объект промышленной собственности шли и в других странах Европы (Франция, Германия и др.) и США. Особенно быстро законодательство о товарных знаках развивалось в нашем столетии. Здесь можно выделить три основных аспекта:
— необходимость регистрации знака как основы для получения прав;
— закрепление новых способов использования товарных знаков (передача, лицензирование);
— признание новых концепций защиты товарных знаков.
Необходимости регистрации в известной степени противостоит другой принцип получения прав на товарный знак — на основе его использования. Теперь оба этих принципа в большинстве стран имеют одинаковую силу.
Новые концепции защиты товарных знаков означали расширение прав владельца торгового знака. Так, в законе Великобритании 1938 г. и законе стран Бенилюкса (1970 г.) впервые предусмотрено право владельца товарного знака препятствовать его использованию, даже если такое использование не ведет к дезориентации потребителя (исходный мотив в охране товарного знака). Например, если тот или иной производитель товара в рекламных целях сравнивает свой товар с конкурирующими товарами и при этом называет (показывает) их товарные знаки, то ему может быть вменено нарушение прав на называемые им чужие товарные знаки.
Дальнейшее развитие права на товарный знак получили в международных соглашениях, в частности, в Парижской конвенции — основном международном договоре о промышленной собственности.
В истории становления и развития промышленной собственности в России можно четко выделить 3 этапа.
Первый этап — развитие патентного права в России. Этот процесс достаточно схож с подобными процессами в других европейских странах. Вначале различные привилегии и подтверждающие их документы (патенты) выдавались на разные виды деятельности — беспошлинную торговлю, монопольное производство отдельных товаров и т. п. В 1723 г. были установлены «Правила для выдачи привилегий на заведение фабрик», которые определяли порядок выдачи патентов.
Первый патентный закон России (1812 г.) устанавливал порядок выдачи привилегий (на сроки от 3 до 10 лет) на собственные и ввозимые из других стран изобретения. Привилегии выдавались без проверки существа изобретения, при этом проводилась публикация описания изобретения. Во втором законе 1833 г. вводилась предварительная экспертиза изобретений, обязательное использование изобретения и, что характерно, запрещалось переуступать привилегию.
Патентный закон, близкий к законам других стран, находившихся в стадии международного упорядочения промышленной собственности, был принят в России в 1896 г. («Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования»). Новый закон четче определял изобретения, признаки охраноспособности, подтверждал проверочную экспертизу заявок и т. д. Привилегия (патент) действовала до 15 лет и могла отчуждаться и передаваться по наследству.
Наряду с изобретениями патентной охраной пользовались также промышленные образцы, право собственности (до 10 лет) на которые было введено в 1864 г. Это право могло передаваться третьим лицам с уведомлением властей.
Второй этап развития промышленной собственности характеризует советский период истории. Декретом от 30.06.1919 г. было утверждено новое Положение об изобретениях, в соответствии с которым была ликвидирована патентная система охраны изобретений. Государство получило право на использование любого изобретения в своих интересах, а за изобретателем осталось авторство и право на вознаграждение в виде небольшой премии.
Новая экономическая политика не могла оставить в принятом виде сферу промышленной собственности.
Поэтому в 1924 г. было вновь принято Положение о патентах на изобретения, и патент вновь стал единственной формой охраны изобретательских прав, мог свободно отчуждаться и передаваться третьим лицам по усмотрению патентообладателя, мог передаваться по наследству и т. п., т. е. соответствовал по своему статусу законодательству большинства стран. Одновременно с Патентным законом было принято положение о промышленных образцах (рисунках и моделях), защита которых также осуществлялась патентом. Важно, что за нарушение исключительных прав владельца патента на изобретение или промышленный образец предусматривалось возмещение убытков и уголовная ответственно сть.
Отказ от новой экономической политики и переход к централизованной командной экономике привел и к отходу от патентной защиты промышленной собственности. «Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях» (1931 г.) возродило авторские свидетельства как основную форму охраны изобретательских прав, хотя в принципе не отменялись и патенты. Однако получить патент было сложнее, чем авторское свидетельство и, самое главное, владелец патента не имел реальной возможности использовать его преимущества, поскольку частное предпринимательство стало невозможным. Эта ситуация оставалась практически неизменной до 1991 г. (когда был принят Закон СССР «Об изобретениях в СССР), хотя положение об изобретениях и других объектах интеллектуальной собственности незначительно менялось несколько раз.
Отказ от патентов по своей сути означал отчуждение интеллектуальной собственности не только от авторов интеллектуальных результатов, но и от физических и юридических лиц. Тезис «все принадлежит народу» означал потерю заинтересованности в каждом конкретном случае. Как и материальная, интеллектуальная собственность, став «ничьей», потеряла привлекательность для людей, для заводов, организаций. Не случайно, что количество фактов использования изобретений (включая использование одного и того изобретения на разных предприятиях) в 70 — 80 гг. в СССР было всегда меньше количества выданных изобретений, а ничтожность авторского вознаграждения очевидна, поскольку составляла 2 % от получаемого экономического эффекта (в среднем по стране).
Закон СССР «Об изобретениях в СССР» вернул основную роль в охране технических решений патентам на изобретение и промышленные образцы, но просуществовал недолго. Образование Российской Федерации как независимого государства привело к тому, что уже в 1992 г. был принят Патентный закон РФ, а также ряд подзаконных актов, которые хорошо сочетаются с основными международными договорами. Вместе с Гражданским кодексом и судебной практикой они образуют достаточно полноценную систему охраны промышленной собственности России.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Национальные законодательства различных стран, сложившиеся в XIX столетии, позволяли формировать и охранять заявляемые объекты промышленной собственности в своих странах. Естественно, что сначала эти законы были разными, не согласованными между собой. Это вызывало серьезные трудности в получении патентов в разных странах, поэтому возникла необходимость согласовать («гармонизировать») законы разных стран. В 1873 г. в Вене был созван конгресс по патентной реформе, который призвал правительства разных стран «достичь международного взаимопонимания по вопросам защиты патентов». В 1878 г. в Париже состоялся конгресс по охране промышленной собственности, затем в 1883 г. там же прошла конференция, завершившаяся подписанием Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Конвенцию подписали 11 государств, затем к ним присоединились многие другие страны, так что в настоящее время число присоединившихся государств превышает 100. СССР присоединился к Парижской конвенции в 1965 г. Российская Федерация присоединилась к Конвенции после распада СССР.
Парижская конвенция 1883 г. несколько раз пересматривалась и дополнялась. Основные положения
Парижской конвенции можно свести к четырем группам. Первые три касаются материального права, права приоритета и общих правил в области материального права. Последняя группа определяет организационные основы союза государств, подписавших Конвенцию.
Важным принципом международной Парижской конвенции является признание за лицами стран, участвующих в Конвенции, таких же прав, как и для граждан собственной страны («принцип национального режима»). Такой же режим представляется гражданам всех остальных стран, если они проживают в странах союза или имеют в них промышленное или торговое предприятие. Принцип национального режима гарантирует равные права для всех собственников промышленной собственности — граждан этой страны или иностранцев. Это означает использование национального законодательства для всех без исключения лиц, являющихся гражданами стран союза или имеющими в них свой бизнес.
Вместе с тем, правило национального режима не исключает судебно-административных положений каждой из стран союза, когда в отношении иностранцев могут быть приняты особые условия судебного и административного производства. Например, для иностранцев может быть обязательным судебный залог, обязательное назначение поверенного для ведения переписки и проч. Определенные условия налагаются также на предприятие иностранца — например, оно не должно быть фиктивным.
Не менее важным положением Парижской конвенции является право «конвенционного приоритета», означающее, что на основе заявки на право промышленной собственности, зарегистрированной в одной из стран союза, заявитель (или его правопреемник) в течение установленного срока может ходатайствовать об охране этого же изобретения во всех других странах-участницах, и указанные «вторичные» заявки будут иметь тот же приоритет, т. е. рассматриваться по состоянию на дату первой заявки. Право приоритета дает большие преимущества заявителю, в частности, осмотрительное патентование только в необходимых странах и, соответственно, денежную экономию на пошлинах.
Право приоритета может быть передано правопреемнику первого заявителя без одновременной передачи первоначальной заявки, что открывает возможности получения экономической выгоды за счет продажи лицензий на ту же заявку в других странах с сохранением приоритета.
Продолжительность периода действия права приоритета для патентных заявок на изобретение или полезную модель составляет 12 мес, для промышленных образов и товарных знаков — 6 мес.
Страны, подписавшие Парижскую конвенцию, образуют Парижский союз по охране промышленной собственности. С созданием союза возникает соответствующая международная организация с правами юридического лица. Союз имеет три административных органа — Ассамблею, Исполнительный комитет и Секретариат.
Ассамблея включает в себя все страны и является высшим органом союза. Ассамблея собирается один раз в два года и определяет программу, принимает бюджет союза. Ассамблея выбирает Исполнительный комитет, в который входит четвертая часть членов союза и который собирается ежегодно. Исполнительный комитет занимается контролем за выполнением принятых Ассамблеей программ и принимает необходимые меры.
Функции Секретариата Парижского союза выполняет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
Система охраны авторских прав. Несмотря на то, что институт авторства известен с древнейших времен, достаточно стройная и всеобъемлющая система охраны авторских прав установилась только к концу XIX столетия.
Первой возникла и была реализована идея копирайта, т. е. права на копирование произведения литературы и искусства. Как и патент на объект промышленной собственности, копирайт представлял собой имущественное право, связанное с изготовлением копий книг, что стало актуальным после изобретения технологии книгопечатания, т. е. процесса гораздо менее трудоемкого и более производительного по сравнению с господствовавшей до этого ручной перепиской. Однако вначале «копирайт» понимался не как имущественное право автора книги, а как право книгоиздателя, как защита его рискованного предприятия со стороны недобросовестных конкурентов. Для реализации копирайта выдавались привилегии в виде исключительных прав на производство и распространение печатных копий.
Основу французской системы имущественных прав автора составили положения, согласно которым автор получает эти права автоматически, независимо ни от регистрации, ни от времени и факта публикации. Другими словами, за автором и его правопреемником закреплялось право на произведение как на экономическую ценность, т. е. копирайт стал личным имущественным правом.
Важнейшим этапом становления системы авторских прав явилось философское осмысление авторской роли в созданном произведении, которая не ограничивается экономическими привилегиями в виде копирайта, а продолжается неограниченное время как отпечаток личности автора. Эти идеи, зародившись в Германии, оказали сильное влияние на развитие авторского права в Европе, обеспечив ту часть авторских прав, которые определяются как «личные неимущественные права».
Таким образом, различие в законодательстве по авторскому праву стран общего права и стран гражданского законодательства состоит в том, что в первом случае копирайт представляет собой форму собственности, и созданные произведения подлежат коммерческой эксплуатации. Копирайт обеспечивает имущественные права его владельцу. В странах с гражданским законодательством (Россия в их числе) защищается не только экономическое содержание этих объектов интеллектуальной собственности, но и весь комплекс авторских прав, включая неимущественные.
Возникновение и эволюция авторских прав в России прослеживается с XVIII в., когда стали обычными договора писателей с книгоиздателями. В качестве примера выдачи официальных привилегий можно сослаться на императорский указ 1782 года, согласно которому был запрещен ввоз в Россию книг, имеющих Российское авторство, переведенных и (или) перепечатанных за рубежом.
Первыми законодательными нормами в области авторского права в России были цензурный устав и положение о правах сочинителя, введенные в 1828 г. Первой литературной конвенцией, заключенной Россией с иностранными государствами, были соглашения с Францией («О литературной и художественной собственности», 1861 г.) и Бельгией (1862 г.). Значение этих соглашений было незначительным, поскольку они касались чистой перепечатки (без перевода) и в них не затрагивались даже права на перевод, не говоря уже о других аспектах авторского права. Обе указанные конвенции были заключены на 25 лет, и желания их продлить стороны не высказывали. Во многом это связано с разработкой и заключением в 1886 г. Бернской конвенции, вопрос о присоединении к которой дискутировался в России. Однако возобладала та точка зрения, что упоминавшиеся выше конвенции с Францией и Бельгией показали преждевременность вступления в международные соглашения и что сначала вопросы авторского права должны получить достаточную разработку и признание в самой России. Этот тезис был главным аргументом против присоединения к Бернскому союзу. Большой популярностью пользовались соображения об «интересах просвещения целого русского народа», которые могли пострадать «в случае потери для нас права на свободный перевод и, следовательно, пользование многими тысячами произведений иностранного чтения и искусства». Подобные взгляды получили поддержку еще один раз в истории России — после победы революции 1917 г.
Принятый в 1911 г. закон России об авторском праве учитывал, однако, отдельные положения Бернской конвенции. Права иностранцев по закону 1911 г. напрямую увязывались с правами российских граждан в соответствующей стране. Несколько позже в конвенциях с Францией и Германией Россия признала принцип национального режима охраны к иностранцам. В объекты авторского права конвенция с Францией включила также кинематографические произведения, если они имели «свойство самостоятельных и оригинальных произведений».
Исключительное право на перевод художественных произведений устанавливалось на 10 лет, а на перевод научных и технических сочинений — 3 года. За переводчиком также признавалось авторское право на текст перевода.
Обе конвенции (с Францией и Германией) были заключены на 3 — 5 лет. Были и другие (с Бельгией, Данией), но все они были отменены Советским государством после Октябрьской революции.
Декретом Советского государства по авторскому праву от 26.11.1918 г. все научные, литературные, музыкальные и художественные произведения признавались государственным достоянием. Декрет предусматривал возможность установления монополии государства как на право перевода, так и на сам перевод литературных произведений, изданных за рубежом. Это положение наиболее ярко иллюстрирует общую идею декрета — ограничить права автора в интересах общества. Очевидно, что в первую очередь имелись в виду произведения науки, учебники и т. п. Принцип «свободы перевода» позволил без каких-либо материальных и неимущественных потерь в течение долгих лет переводить и издавать произведения ученых, литераторов, написанных и изданных за рубежом. Как видно, исходное советское законодательство в области авторского права было типично революционным, отрицающим существовавшие на то время национальные и международные нормы и традиции.
Принцип «максимальной раскрепощенности» был подтвержден в постановлении ЦИК и СНК СССР от 1925 г. «Об основах авторского права». В 1928 г. были приняты «Основы авторского права». Перевод чужого произведения не считался нарушением авторского
Раздел VI. Шилрсрфия интвддвктцадьной собственности
права и такой подход последовательно проводился всем последующим законодательством «в интересах обеспечения развития культуры социалистических наций, населяющих Советский Союз и заинтересованных в обмене культурными ценностями без каких-либо ограничений». Даже в Основах гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 г. содержалась норма, что любое изданное произведение может быть переведено на другой язык без согласия (но теперь хотя бы с уведомлением) автора при условии сохранения целостности и смысла произведения.
Столь своеобразное понимание авторских прав относилось не только к литературным произведениям, но и к искусству. Любое зрелищное представление или концерт могли без уведомления автора и без выплаты ему гонорара передаваться по радио или телевидению.
Не вызывает сомнения, что подобный механизм «обмена культурными ценностями» был приемлем только до тех пор и в той степени, пока он не был эквивалентным, т, е. исходил из «односторонней проводимости» — чтобы культурные ценности шли в СССР за минимальную плату или вообще бесплатно. По мере становления и развития образования, науки, культуры страна стала ощущать не только растущее давление международного мнения, но и прямые материальные потери от применения аналогичных подходов к научным, литературным и другим произведениям творчества, создаваемым в Советском Союзе. На пути развития и укрепления международных связей с неизбежностью встал вопрос о присоединении к существовавшим международным конвенциям в области авторского права, что, в свою очередь, требовало внесения заметных изменений в советское законодательство.
К этому времени (около 1970 г.) существовали две основные международные конвенции в области авторского права — Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, принятая в первоначальной редакции в 1886 г., и Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. Бернская конвенция, содержащая базовые понятия авторского права, будет рассмотрена ниже.
Советское правительство приняло решение присоединиться к Всемирной конвенции об авторском праве, поскольку она устанавливает более низкий уровень охраны авторских прав. Советский Союз подписал Всемирную (Женевскую) конвенцию об авторском праве (в редакции 1952 г.) в 1973 г. Число участников этой конвенции превышало 25 стран, и в нее входили многие развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки.
В настоящее время Россия присоединилась к Бернской конвенции, поэтому здесь отмечаются только некоторые основы Всемирной конвенции, поскольку они отвечали уровню развития авторского права в СССР на момент ее подписания.
Всемирная конвенция имеет более универсальный характер, чем Бернская конвенция, и была более приемлема для стран с различным общественным строем, уровнем экономического развития, традициями и т. д. В этой конвенции содержится небольшое количество материально-правовых норм и она допускает менее согласованное внутреннее законодательство стран-участниц, т. е. предпочтение отдается вопросам национального права.
В тех немногочисленных случаях, когда Всемирная конвенция устанавливает прямые нормы, они в материальном смысле существенно ниже, чем в Бернской конвенции. Так, например, минимальный срок охраны имущественных прав определен в границах жизни автора и 25 лет после его смерти. Другим примером может служить право на перевод, которое подлежит обязательной охране во всех странах, присоединившихся к Всемирной конвенции, однако во внутреннем законодательстве могут быть установлены ограничения этого права в виде выдачи специальных лицензий на перевод.
Всемирная конвенция не касается прав владельцев фонограмм, не детализирует защиту кино- и телефильмов и т. п., оставляя эти вопросы на усмотрение стран-участниц.
Несмотря на столь нечеткие правила защиты, присоединение к Всемирной конвенции требовало внесения изменений в советское законодательство в области авторского права. Такие изменения были внесены, в частности, в охрану прав автора в отношении переводов его произведений. Было признано, что перевод произведения в целях выпуска в свет допускается не иначе как с согласия автора или его правопреемников. Перевод, как и некоторые другие формы использования произведения, предполагал заключение с автором договора, что означало отказ от многолетнего принципа «свободы перевода», отказ от безгонорарного использования произведений, написанных на других языках.
Существенные изменения произошли по срокам действия авторского права. По советским Основам гражданского законодательства авторское право принадлежало автору пожизненно, а после его смерти законодательством союзных республик права владения определялись для разных видов произведений на сроки до 15 лет. Начиная с 1973 г., нормы советского права стали соответствовать Всемирной конвенции — 25 лет после смерти автора на литературные произведения и 10 лет — на фотографические произведения и произведения прикладного искусства. Используя тот факт, что Всемирная конвенция обратной силы не имеет, новые советские нормы стали применяться к правоотношениям, возникшим с 1.06.1973 г.
Кроме изменений, вызванных присоединением СССР к Всемирной конвенции об авторском праве, в отношениях с некоторыми странами в разное время действовали и другие согласованные нормы, предусмотренные соответствующими двусторонними договорами.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). После образования Парижского и Бернского союзов были созданы два независимых бюро (секретариата), которые уже в 1893 г. были объединены. Организованный орган, действовавший в Швейцарии, получил название БИРПИ, что представляет собой аббревиатуру французского названия «Объединенное международное бюро по охране интеллектуальной собственности».
В 1967 г. на дипломатической конференции в Стокгольме была создана Всемирная организация интеллектуальной собственности (World International Property Organization —WIPO), которая вобрала в себя функции секретариата практически всех союзов и организаций по охране интеллектуальной собственности. В 1974 г. ВОИС стала независимым межправительственным органом в статусе специализированного учреждения Организации Объединенных Наций. Соглашение между ООН и ВОИС признает, что ВОИС несет ответственность за осуществление соответствующих мероприятий согласно ее уставу и направленных на функционирование договоров и соглашений в области интеллектуальной собственности и облегчение передачи технологий развивающимся странам, чтобы ускорить их экономическое, общественное и культурное развитие.
Союзы в рамках ВОИС, как уже говорилось, основаны на договорах, которые можно отнести к трем категориям.
Первая категория договоров устанавливает международную охрану. К ним относятся основополагающие Парижский и Бернский договоры, Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах, Римская конвенция по охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и органов радио- и телевещания и др.
Вторая группа — договоры, способствующие международной охране. Это договор о патентной кооперации, предусматривающий подачу заявок на международные патенты, Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков, Будапештский договор о депонировании микроорганизмов и др.
Третья группа договоров устанавливает международные классификации. К ним относятся Страсбургс-кое соглашение о патентной классификации, Ниц-цкое — о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, Венское — о классификации изобразительных элементов товарных знаков, Локарнское — о международной классификации промышленных образцов.
Системы патентования. Охрана промышленной собственности регламентируется национальными патентными законами и международными соглашениями. В патентных законах предусматривается порядок подачи и рассмотрения заявок на получение охранных документов на объекты промышленной собственности, осуществления их экспертизы, выдачи охранных документов, публикации о выдаче, порядок рассмотрения патентных споров, порядок уступки прав как на сами объекты промышленной собственности, так и на их использование, другие аспекты патентного права, действующего в данной стране.
Патентное право предусматривает заявительскую либо авторскую системы патентования. При заявитель-ской системе патент выдается любому первому заявителю на его имя, будь то автор либо законный преемник автора, либо присвоившее изобретение действительного автора лицо. При авторской системе патент может получить лишь автор или его правопреемник, причем имя автора должно быть названо в заявочной документации и в патенте, за исключением случая, когда сам автор и заявитель просят не указывать имя автора.
Кроме того, различают явочную, проверочную и промежуточную системы.
При явочной системе заявка рассматривается только для выяснения:
1) соблюдены ли заявителем формальные требования (приложены ли к заявке все необходимые документы в установленном числе экземпляров, а если заявка подана через доверенное лицо — имеется ли доверенность);
2) не испрашивает ли заявитель патент на объекты, которые нельзя патентовать;
3) правильно ли составлено описание, чертежи, формула изобретения и т. д., в частности, содержится ли в заявке одно предполагаемое изобретение или их группа, связанная единством замысла. Новизна же изобретения при явочной системе
патентования патентным учреждением специально не исследуется. Она предполагается, поскольку ее наличие отнесено при данной системе на ответственность заявителя.
Преимущество явочной системы состоит в том, что заявитель сравнительно быстро получает патент, а общество — информацию об изобретении. Однако она имеет и ряд отрицательных сторон: патенты выдаются «на страх и риск» заявителей, определенное число выданных ошибочно патентов аннулируется из-за отсутствия новизны или технической значимости. Аннулирование происходит после рассмотрения дел в суде по заявлениям заинтересованных лиц. Явочная система принята в ряде стран Азии, Африки, в Бельгии, Греции, Испании, Италии и других.
Проверочная (исследовательская) система характеризуется тем, что заявка подвергается исследованию в целях выяснения, имеет ли предполагаемое изобретение новизну и другие признаки. Это требует установления отличия предмета заявки от известных в данной области технических решений (проверки на новизну). Проверочная система избавляет заявителя от дальнейших неоправданных затрат (например, при отсутствии новизны), связанных с обслуживанием патентного производства и последующим аннулированием патента при явочной системе. Патент, выданный в стране с проверочной системой, пользуется большим доверием, чем патент явочной системы. Число споров по таким патентам обычно меньше, чем в странах с явочной системой. К недостаткам этой системы можно отнести большую длительность процедуры, имеющую место необоснованность отказов в выдаче патента. Проверочная система принята в Индии, Колумбии, США, Швеции и других странах, количество которых меньше числа стран с явочной системой.
Отложенная (отсроченная) система представляет собой модификацию проверочной системы. При этой системе производится проверка только по просьбе заявителя или другого заинтересованного лица. Заявка (обычно не более 18 месяцев спустя после даты ее подачи) подлежит обязательной публикации («выкладке»). По выложенной заявке каждый вправе подать обоснованные возражения. С момента публикации за-
явки изобретение получает временную охрану. Патент выдается лишь после проведения экспертизы с положительным заключением. Если просьба об ее проведении не поступает (в Нидерландах, Германии — в течение 7 лет, в Австралии — 5, в России — 3), то право на получение патента утрачивается. Отложенная экспертиза введена в Австралии, Нидерландах, России, Германии, Японии и некоторых других странах.
Промежуточная система представляет собой переходную стадию от явочной к проверочной системе. Для нее характерно производство частичной, неполной проверки заявки (Египет, Ливия, Тунис и др.). Отклонение заявки в этих странах возможно не только в результате формальной экспертизы, но и по материалам проверки, проведенной третьими лицами, оспаривающими заявку. В Швейцарии сочетаются две системы выдачи патентов: проверочная в отношении изобретений в области производства часов и текстильных изделий и явочная в отношении всех других изобретений.
Виды и содержание патентных документов. Патентные документы фиксируют (удостоверяют) права на промышленную собственность, объем этих прав, изменение легального статуса конкретных объектов промышленной собственности и другие вопросы правовых отношений. Кроме того, к патентным документам часто относят правовые акты и сообщения о функционировании систем и служб по охране интеллектуальной собственности. Достаточно широкая номенклатура видов патентных документов обретает более понятные контуры, в том числе по каждому из видов документов, если их функции рассматривать вместе с содержанием.
Основополагающим патентным документом является, безусловно, патент и прилагаемые к нему описание, формула изобретения. На практике именно описания и фигурируют в большинстве случаев как «документация».
Обычно патентными ведомствами издаются различные справочные и информационные материалы, справочно-поисковые пособия к патентному фонду по странам и зарубежным патентным фондам, именные указатели для определения объема патентных прав конкурентов и т. д. Как правило, издаются и относятся к патентной документации также нормативные документы в области интеллектуальной собственности (национальные и международные нормативные акты, методические материалы для подачи заявок и др.).
Патентные документы, в первую очередь описания изобретений, представляют собой важнейший из источников научно-технической, юридической и экономической информации, которая может оказаться чрезвычайно полезной не только для проведения прикладных исследований и разработок, но и для прогнозирования научно-технического развития, экономических тенденций и т. д.
Классификация патентов. Наиболее очевидной целью патентного поиска является тематический (предметный) поиск документов. Именно поэтому в основу разработанных национальных систем патентной классификации лег подобный подход. Все они представляют собой многоступенчатые системы распределения понятий, организованных от общего к частному, т. е. по иерархическому принципу. Таким образом, индекс, набираемый по мере опускания по уровням классификации, с каждым разрядом все более сужает рассматриваемую область, доводя ее до конкретных групп изделий, выполняющих одну определенную функцию, либо предназначенных для достижения какого-то эффекта в разных отраслях техники. В соответствии с тем, какой принцип — функциональный или отраслевой — положен в основу, классификации делятся на три группы (две указанных и смешанная).
Среди национальных систем известны германская, американская, английская и японская.
Германская система введена в 1877 г. и использовалась во многих странах Европы, включая СССР (до 1970 г.).
Американская система классификации изобретений основана на функциональном принципе, хотя в ряде случаев она использует и предметно-тематический принцип отнесения объекта изобретения к той или иной отрасли. Поэтому близкие по тематике классы могут быть разбросаны по всей системе классификации.
Национальная классификация изобретений (НКИ) США содержит более 300 действующих классов и 120000 рубрик. Число подклассов в классе различное — от одного до нескольких сотен. Индекс классификации выражен двумя числами, разделенными тире. Первое число обозначает класс, второе — подкласс. Например, индекс 2— 17 означает, что изобретение относится к подклассу 17 класса 2. Индекс, как правило, не отражает положения подкласса в иерархии класса. Он определяет расположение подкласса в НКИ США. Текст, относящийся к подклассам низшего порядка, сдвинут вправо относительно рубрики вышестоящего подкласса, которому они подчинены. По правилам патентного ведомства США описанию изобретения присваивается один или несколько классификационных индексов — один основной, остальные — дополнительные.
НКИ США постоянно пересматривается и изменяется. Поэтому все элементы справочно-поискового аппарата, связанные с ней, действуют только в течение определенного периода времени. Американская система действует с начала XIX столетия до настоящего времени.
Английская система классификации изобретений разработана в конце XIX столетия. Отличается большой динамичностью — в течение двух лет изменения и дополнения достигают 20%.
Японская классификация достаточно детализирована, содержит более 130 классов, более 1000 подклассов, более 23 тыс. рубрик. Классы группируются по подобию способов и устройств, образуя семь серий. С 1980 г. Япония перешла на Международную патентную классификацию.
Известны и другие национальные классификации.
По мере перехода различных стран от простой регистрации заявок на патенты к экспертизе, предполагающей сопоставление заявленного решения с мировым уровнем техники, возникла необходимость патентного поиска по патентным фондам всех стран, т. е.
Глава 3. Ставшего и развитие категории «ивтешщадшя ерВетввниреть»
по всему мировому патентному фонду, документы которого имели разные принципы классификации и способы индексации. Все попытки составления таблиц соответствия между национальными системами классификации оказались тщетными, поэтому была разработана ив 1971 г. принята Международная патентная классификация — МПК (в отечественной практике до последних лет имела название Международная классификация изобретений — МКИ).
Международная классификация промышленных образцов (МКПО) была принята соглашением, заключенным между странами — участницами Парижской конвенции по охране промышленной собственности на конференции в Локарно (Швейцария). Комитет экспертов, учрежденный Локарнским соглашением, на своих сессиях утверждает изменения и дополнения к МКПО в целях ее совершенствования.
МКПО была принята в СССР и является единственной в Российской Федерации классификацией промышленных образцов. Используется при разработке и патентовании промышленных образцов. На русском языке первый полный текст МКПО вышел в свет в 1981 г. и соответствовал третьей официальной редакции. С 1 января 1984 г. вступила в силу четвертая официальная редакция МКПО, а с 1 января 1989 г. — пятая. Она содержит 32 класса и 233 подкласса и состоит из трех частей.
Классификация товарных знаков и знаков обслуживания осуществляется по разработанной в рамках Ниццкого соглашения (1957 г.) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В настоящее время МКТУ после ряда переизданий действует в шестой редакции и содержит 42 класса. Наименования товаров и услуг в перечне классов являются общими для областей, к которым относятся товары или услуги.
В Ниццком соглашении участвуют 33 страны. МКТУ используется и для международной регистрации знаков, осуществляемой Международным бюро ВОИС.
Патентные пошлины. В разных странах различаются как размеры патентных пошлин, так и основания для их взимания. Так, в связи с испрашиванием европейского патента пошлины взимаются: за подачу заявки, проведение поиска, указание государства, в отношении которого действует заявка, за поддержание заявки в силе, проведение экспертизы, выдачу патента, подачу возражения, подачу апелляции, за возобновление рассмотрения заявки в случае пропуска заявителем установленных сроков.
В большинстве стран на патентовладельце лежит обязанность уплаты годовых пошлин в течение срока действия патента. В некоторых странах (Великобритания, Германия, Индия, Швеция) не предусматривается пошлина за первые 2 — 4 года.
Срок действия патента. Принадлежащее патентовладельцу исключительное право на изобретение ограничено сроком действия патента, предусмотренным патентным законодательством. Срок действия патентов в разных странах составляет от 5 до 20 лет. Например, в Великобритании, Германии, Италии, России, Франции, Швейцарии, США патент на изобретение выдается сроком на 20 лет, в Шри-Ланке — на 15 лет.
Охрана промышленной собственности в СНГ. Во всех государствах-субъектах бывшего СССР образованы патентные ведомства и приняты свои законодательные нормы, предусматривающие охрану интеллектуальной собственности юридических и физических лиц в этих государствах. При этом возник ряд проблем, затрудняющих осуществление этой охраны: необходимость обеспечения действия охранных документов СССР и преобразования их в национальные охранные документы, необходимость подачи отдельных заявок (с уплатой пошлин и пр.) в каждой стране, отсутствие в ряде стран квалифицированных экспертов и необходимых патентных фондов. Для решения этих проблем есть два очевидных пути: установление двусторонних отношений в охране промышленной собственности и восстановление единой (на территории СНГ) системы охраны промышленной собственности.
В настоящее время уже заключены двусторонние соглашения России с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной.
Основные цели двусторонних договоров — упрощение процедуры получения охранных документов на объекты промышленной собственности для заявителей договаривающихся государств, признание охранных документов СССР на объекты промышленной собственности, охрана прав их владельцев и авторов, предоставление возможности преобразования авторских свидетельств СССР на изобретения и свидетельств СССР на промышленные образцы в национальные патенты, взаимный обмен патентной документацией и ее беспошлинный пропуск через границы.
Второй путь — воссоздание единой системы охраны промышленной собственности на территории СНГ. Главами правительств 10 государств СНГ 9 сентября 1994 г. подписана разработанная Межгосударственным советом с участием ВОИС и Европейского патентного ведомства Евразийская патентная конвенция. Она вступила в силу в августе 1995 г. и хранится у своего депозитария — Генерального директора ВОИС после ратификации национальными парламентами и подписания главами государств СНГ. С принятием Евразийской патентной конвенции формирование единого патентного пространства на территории СНГ привело к созданию правовых условий для интеграции национальных экономик в общий союз и активизации взаимодействия с наиболее развитыми странами. Новый региональный евразийский патент действителен во всех странах, ратифицировавших конвенцию, на основании одной заявки, поданной на русском языке в Москву,
В Охрана интеллектуальной собственности в Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента России функции патентного ведомства Российской Федерации возложены на Российское Агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент). Роспатент призван осуществлять единую государственную политику в области охраны промышленной собственности, включая охра-
Раздел VI. Фидрсофжя иителяепуадышй еиВетввннрети
ну прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, а также в области охраны программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.
Патентный закон Российской Федерации. Закон состоит из восьми разделов. Закон регулирует имущественные, а также связанные с ними неимущественные личные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Закон РФ о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. Этот закон был принят одновременно с Патентным законом РФ.
Товарный знак и знак обслуживания (далее — товарный знак) — это обозначения, дающие возможность отличать, соответственно, товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг (далее — товаров) других лиц.
На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство на товарный знак. Оно удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право его владельца в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
Специальный раздел Закона посвящен наименованию места происхождения товара и его правовой охране. Наименование места происхождения товара — это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами.
Правовая охрана селекционных достижений. Правовая охрана селекционных достижений регламентируется Законом Российской Федерации от 06.08.93 №5605-1 «О селекционных достижениях».
Селекционное достижение (ст. 1 Закона) — новый сорт растений или новая порода животных. В соответствии со ст. 4 Закона «О селекционных достижениях» определены четыре отличительных признака селекционного достижения: новизна, отличимость, однородность, стабильность.
Патент, выдаваемый Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений, свидетельствует о наличии исключительных прав на использование селекционного достижения.
Закон РФ о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных окончательно зафиксировал, что программы для ЭВМ и базы данных являются объектами авторского права и их использование регулируется соответствующим Законом РФ.
Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем» и принимаемые на его основе законодательные акты республик в составе Российской Федерации регулируют отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием топологий.
Патентование объектов интеллектуальной собственности РФ за рубежом. Правовая охрана отечественных изобретений в зарубежных странах направлена на повышение эффективности реализации на внешнем рынке машин, приборов, оборудования, материалов, химических средств, медицинских препаратов, другой продукции и технологий, в которых используются эти изобретения. Это происходит как за счет обеспечения возможности выхода на рынок, занятия на нем устойчивых позиций, принятия мер по устранению конкурента с рынка, так и за счет повышения цены контракта (как показывает сложившаяся практика, это повышение может достигать 30% по сравнению с беспатентными соглашениями).
Под зарубежным патентованием понимается практически тот же комплекс мер, что и при патентовании в РФ (и, как правило, в соответствии с Патентным законом РФ патентование за рубежом осуществляется не ранее, чем через три месяца после подачи заявки в Роспатент на получение российского охранного документа), за исключением необходимости выбора той или иной процедуры патентования, в числе которых:
Институт патентных поверенных в РФ. Патентным законом РФ и Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» установлено, что иностранные заявители подают заявки на охрану своих новшеств через патентных поверенных.
Правовая охрана «ноу-хау». Какие-либо особые законодательные комментарии в отношении определения «ноу-хау» отсутствуют. С одной стороны, «ноу-хау» связано с понятием коммерческой информации, включающей служебную и коммерческую тайну. С другой стороны, «ноу-хау» — информация о конкретных технических решениях, которая по тем или иным причинам не трансформировалась в описания тех же патентов (свидетельств) на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Правовая охрана доменных имен. Регистрация доменных имен до 2000 г. включительно осуществлялась по процедуре, предлагаемой Российским НИИ Развития Общественных Сетей (РосНИИРОС). Доменное имя позволяет его владельцу размещать по интернет-адресу сайт, в котором упоминается в той или иной форме фирменное наименование и товарный знак фирмы.
Охрана методов предпринимательства. На первый взгляд ситуация выглядит достаточно ясно: способы предпринимательства «как таковые», т. е. без средств их технической реализации, являются непатентоспособными. Вместе с тем, вполне понятно, что присутствие в способе предпринимательства технического устройства не может быть единственным критерием охраноспособности. Однако патентоспособность связанного с предпринимательством предмета изобретения будет зависеть от степени воздействия на него технических средств.
Патентные стратегии для малых и средних компаний. Прибегая к патентованию, малый и средний бизнес, особенно начинающие компании, ставят своей целью противодействие конкурентам и получение инвестиций. Однако, приступая к выпуску новой продукции или вообще новому предпринимательству, еще важнее предотвратить его блокирование патентами третьей стороны.
Глава 4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
Одной из важных философских проблем интеллектуальной собственности является определение роли государства в регулировании отношений в этой сфере. Ясно, что содержание функций государства во многом определяется характером самого государства и той политикой экономической системы, выразителем интересов которой оно является. Вместе с тем в условиях глобализации современного мирового сообщества и его экономики все большую роль начинает играть выработка универсальных законов управления функционированием основных сфер современного общества, выработка и закрепление в международном праве единого понимания и согласованных норм управления обществом. В полной мере это относится и к вопросом государственного управления интеллектуальной собственностью. Рассмотрим это на примере современной России.
Состояние вопроса. В постановлении Правительства РФ от 2 сентября 1999 года № 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности», принятом во исполнение Указа Президента РФ от 22 июля 1998 года «О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности», перечислены объекты, в закреплении прав на которые за РФ заинтересовано государство.
К ним прежде всего относятся способные к правовой охране научно-технические разработки: изобрете- Qui
Раздел Ml . Шидрсрфия интеллектуальной собственности
ния, полезные модели, промышленные образцы, создаваемые на основе государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее — НИОКР) за счет средств федерального государственного бюджета.
О необходимости охраны интересов государства в отношении НИОКР военного, специального и двойного назначения говорится в Указе Президента РФ от 14 мая 1998 года № 556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» и постановлении Правительства РФ от 29 сентября 1998 года № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения».
В силу постановления Правительства РФ от 2 сентября 1999 года № 982 государственные заказчики обязаны включать в государственные контракты о выполнении НИОКР условие о том, что право на подачу заявки и получение патента принадлежит РФ, от имени которой действуют государственные заказчики. Если научно-технический результат патентоспособен, с заявкой в патентное ведомство обращается государственный заказчик, а исключительное право на использование изобретения приобретает Российская Федерация.
При создании в результате выполнения НИОКР изобретения военного, специального и двойного назначения от имени РФ действуют Министерство юстиции РФ и государственный заказчик, например Министерство обороны РФ. В свою очередь они вправе дать согласие на получение патента исполнителем.
Полагаем, что порядок оформления патента на имя РФ должен быть закреплен в законе. Сейчас Патентный закон РФ вообще не предусматривает выдачи патента на имя РФ. Патентообладателями могут быть физические или юридические лица (чаще всего рабо-
Глава 4. Гвсцдарствениое управление интшеитуальввй свДствеивнстьш
тодатели). Патентный закон РФ должен быть дополнен нормами о патентообладателе-государстве и о подаче заявки на имя РФ уполномоченным РФ органом исполнительной власти.
В соответствии с упомянутым постановлением Правительства РФ от 2 сентября 1999 года № 982 государственные заказчики обязаны вводить в оборот принадлежащие государству изобретения, полезные модели, промышленные образцы путем заключения соответствующих договоров о передаче прав на их использование.
Постановлением Правительства от 29 сентября 1998 года № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» эта обязанность возложена на Федеральное агентство по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (далее — Федеральное агентство) — государственное учреждение, образованное при Министерстве юстиции РФ. федеральное агентство заключает лицензионные договоры с третьими лицами по согласованию с государственнььми заказчиками. Федеральное агентство ведет реестр принадлежащих государству результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения и по согласованию с государственными заказчиками осуществляет вовлечение их в хозяйственный оборот.
На наш взгляд, необходимо непосредственно в законе (возможно, в Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности государства в форме капитальных вложений в научно-техническую сферу», необходимость принятия которого, как представляется, не может вызывать возражений) предусмотреть: 1) четкую систему учета принадлежащих государству результатов интеллектуальной деятельности путем ведения соответствующих реестров. Ведение реестра целесообразно возложить на федеральные органы исполнительной власти, к сфере
Раздел Ml . Шилрсрфия интеллектуальной ерВетввннрсти
деятельности которых относятся данные результаты и которые в порядке, установленном законом, могли бы распоряжаться соответствующими правами на них. Вряд ли было правильно создавать специально для целей учета и контроля за использованием научно-технических результатов военного, специального и двойного назначения дополнительную бюрократическую структуру — Федеральное агентство при Министерстве юстиции РФ. Ведь она требует на свое содержание значительных средств.
Право на использование, например, изобретения включает правомочие правообладателя самому воплотить изобретение в новую технику, реализуемую в качестве товара на рынке, или разрешить использование другим, а также возможность распоряжаться собственно этим правом. Государство как таковое не в состоянии непосредственно использовать изобретение, но оно может разрешить его использование другим.
2) порядок использования средств, полученных в
результате введения результатов интеллектуаль-
ной деятельности в хозяйственный оборот с не-
пременным соблюдением баланса интересов всех
участников инновационного процесса: авторов,
организаций-исполнителей и государства.
В законе о федеральном государственном бюджете должны предусматриваться доходы от реализации исключительных прав всеми уполномоченными государством органами, которые вправе распоряжаться этими правами. Соответственно должны быть указаны и направления использования средств в той части, в которой они остаются в распоряжении этих органов;
3) контроль за осуществлением принадлежащих го-
сударству прав на результаты интеллектуальной
деятельности уполномоченными на то государ-
ственными органами исполнительной власти.
Здесь более активно должна действовать Счетная
палата РФ, которая пока не уделяла должного вни-
мания вопросам интеллектуальной государствен-
ной собственности.
Распределение прав на федеральную интеллектуальную собственность. Согласно Постановлению
Правительства РФ № 982 все права на результаты научно-технической деятельности, ранее полученные за счет средств государственных бюджетов всех уровней, подлежат закреплению за Российской Федерацией, если они не включены в состав приватизированного имущества, эти результаты не являются объектами исключительных прав физических или юридических лиц и на них не поданы в установленном порядке заявки на получение исключительных прав. Распоряжение от имени Российской Федерации правами на указанные результаты осуществляют федеральные органы исполнительной власти, к сфере деятельности которых относятся эти результаты. В частности, в постановлении упомянуты Министерство науки и технологий РФ, Министерство обороны РФ, Министерство Российской Федерации по атомной энергии, Министерство экономики РФ. Результаты работ по государственным контрактам принадлежат государству, от имени которого выступают государственные заказчики.
Однако этот кажущийся справедливым подход в отношении интересов государства в сфере науки и технологий, в конкретных российских условиях экономического и научно-технического развития может негативно влиять на процесс использования созданных научно-технических достижений.
В данной ситуации хмы сочли необходимым обратиться к опыту патентной практики США, где до 1980 г. результаты НИОКР, финансируемых из госбюджета, являлись федеральной собственностью. Это не создавало у разработчиков особой заинтересованности в коммерческом применении полученных знаний. Ухудшение торгового баланса страны и обострение конкуренции на мировом рынке заставило конгресс пойти на изменение действующего законодательства и принять ряд новых федеральных законов.
В 1980 г. был принят закон (Bayh-Dole, Act), который предоставил университетам, бесприбыльным организациям и фирмам малого бизнеса право передавать лицензии на коммерческое использование изобретений, сделанных в ходе исследований при финансовой поддержке правительства, промышленным компаниям.
Раздел Ml . Шилвсвщш ивтеллещальвой срВстневивств
Практически одновременно был принят закон (Stevenson-Wydler, Act), направленный на активизацию участия федеральных лабораторий в процессах научно-технической кооперации с промышленностью, главным образом за счет распространения информации о полученных в них научных результатах.
Необходимо отметить, что резкий рост операций с интеллектуальной собственностью в США стал возможен только после того, как работникам университетов разрешили патентовать в частном порядке даже те изобретения, которые профинансированы за счет государственных грантов. Не секрет, что фундаментальная наука имеет колоссальное количество прикладных последствий. Штаты позволили бизнесу этими последствиями пользоваться. С конца 60-х годов и до 1986 г. в США наблюдался спад числа выдаваемых патентов, но затем обозначился их рост, что связано с упомянутым изменением возможностей для негосударственных структур в патентовании изобретений. В США некоторые корпорации вкладывают в исследования суммы, сопоставимые с общегосударственными: GENERAL MOTORS тратит до 10 млрд. в год, FORD — 7 млрд, IBM — 4 млрд. В результате в США сложилась система разделения усилий по получению и использованию новых знаний между государством, крупными промышленными компаниями и малыми инновационными фирмами частного сектора, высшими учебными заведениями (университетами) и бесприбыльными организациями. Одним из ее центральных элементов является механизм обеспечения производства новыми перспективными идеями и технологиями, которые возникают в процессе выполнения финансируемых из госбюджета научных исследований и разработок.
Нам представляется, и зарубежный опыт это подтверждает, что необходимость обеспечения баланса интересов участников инновационного процесса, осуществляемого при участии средств федерального бюджета (которая, кстати сказать, декларирована и в упоминавшемся постановлении № 982), требует дальнейшего развития механизма распределения прав на результаты этого процесса между его участниками.
Возможны, на наш взгляд, следующие варианты выдачи и выполнения госзаказа и связанное с этим различие в возможном балансе интересов участников создания и использования новой техники, технологии (далее — «объекта»). 1. Госзаказ выдается предприятию-исполнителю (возможно — победителю соответствующего конкурса) на создание объекта с неопределенным заданием в отношении его охраноспособности. При этом могут иметь место следующие «подвари-анты».
1.1. Госзаказ полностью обеспечивается бюджетными
средствами. В инновационном процессе участвуют
две стороны: государство (инвестор) и предприя-
тие-исполнитель. Баланс их интересов регулиру-
ется договором между ними, где оговаривается
следующее:
— условия владения сторонами правами на возможные результаты разработки, в т. ч. объектами интеллектуальной собственности (далее — ОИС), которые могут быть созданы в процессе выполнения госзаказа;
—- в случае досрочного прекращения финансирования работ в рамках госзаказа со стороны государства — условия обладания правами на те ОИС, которые будут созданы после прекращения финансирования со стороны государства;
— условия обладания правами на ОИС, созданные при выполнении госзаказа, но вне его задания;
— условия соблюдения интересов потенциальных авторов ОИС, которые могут быть созданы при выполнении госзаказа;
— условия распределения прав и обязанностей по охране потенциальных ОИС и их использованию.
1.2. Госзаказ обеспечивается бюджетными средствами
частично. В процессе участвуют три стороны. На-
пример: 20% средств дает бюджет, 80% — «третья»
сторона, предприятие проводит научные исследо-
вания, опытно-конструкторскую разработку, техно-
логическую подготовку и запуск производства
Раздел Ml . Шндрсофня интвлдвктцадьнрй собственности
продукции по госзаказу. Баланс интересов участников регулируется договором между ними с учетом изложенного в пункте 1.1. В случае, если «третьей» стороной является региональный (местный) бюджет или разного рода бюджетные фонды, то их взаимоотношения с федеральным бюджетом — участником данного инновационного процесса регулируются нормами Бюджетного Кодекса РФ, другими действующими законодательными и нормативными актами. 2. Госзаказ выдается предприятию-исполнителю на разработку и производство объекта, основанного (или содержащего) уже охраняемое техническое решение.
Возможность обеспечения баланса интересов участников работ по выполнению госзаказа, не ориентированного изначально на результат с непременньш созданием ОИС, на наш взгляд, будет осуществлена, если предоставить сторонам инновационного процесса — государственному заказчику и организации (предприятию) — исполнителю работ по государственному контракту на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ решить вопросы распределения прав на результаты разработки (в том числе, назвать патентообладателя, определить долю, приходящуюся каждой из сторон при реализации будущих результатов и т. д.) на переговорах между ними. Тогда выгода для каждой из сторон будет определяться ее заинтересованностью в участии другой стороны. Если один из участников выставит неприемлемые для другого условия заключения госконтракта, другой сможет отказаться от соглашения и искать другого партнера.
Рассмотрим теперь ситуацию с введением в хозяйственный оборот технического решения, уже имеющего правовую охрану. Такая ситуация вполне правомерна, тем более, что Россия имеет огромный научный задел, частично доведенный до производственной стадии, поэтому в настоящее время не всегда требуется открытие госзаказа на начальные стадии, связанные с проведением научных исследований, получением новых охраноспособных результатов, их конструкторскотехнологической разработкой и патентованием в РФ. Они в своем большинстве являются результатом работ, выполнявшихся на бюджетные средства Российской федерации или бывшего СССР. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть особенности баланса интересов участников инновационного процесса отдельно для такой ситуации, когда речь может идти об использовании бюджетных средств для разработки и использования уже известного (отобранного) технического решения.
В этом случае в инновационном процессе участвуют три стороны: государство, правообладатель и предприятие-исполнитель. Если автор ОИС не является правообладателем, его интересы, как и интересы лиц, содействовавших созданию и использованию ОИС, будут обеспечиваться в соответствии с действующим законодательством. Для остальных участников процесса баланс интересов может реализоваться с помощью обычного лицензионного соглашения. Заключение обычного лицензионного соглашения между государственным заказчиком (представителем инвестора) — лицензиатом и правообладателем — лицензиаром, как представляется, полностью не решит проблемы баланса интересов всех участников инновационного процесса, так как при этом не учитывается интересов будущего разработчика — исполнителя работ по этому лицензионному соглашению; сам же лицензиар может не оказаться в состоянии довести свой объект промышленной собственности до промышленной готовности.
В то же время проблема обеспечения баланса интересов между государством, правообладателем и исполнителем работ по данному варианту государственного заказа может быть успешно решена с помощью «трехстороннего»договора между ними.
Условия распределения прав между участниками инновационного процесса реализации (с привлечением бюджетных средств) имеющего правовую охрану объекта интеллектуальной собственности отличаются от условий, характеризующих создание предполагаемого объекта интеллектуальной собственности. Поэтому и распределение прав между участниками иннова-
Раздел Ml . Философия интеллектуальной собственности
ционного процесса должно быть иным. Ниже предлагается проект договора о распределении прав и платежах между инвестором, предприятием и автором изобретения (другого объекта промышленной собственности) для ситуации, когда бюджетные средства выделены для разработки и использования уже известного (отобранного) технического решения. Причем в качестве правообладателя может оказаться как предприятие, так и автор объекта интеллектуальной собственности (в последнем случае предприятие — это потенциальный разработчик и (или) пользователь объекта).
В договоре должны быть четко оговорены условия и объем передачи прав на уже имеющиеся и вновь созданные охраноспособные объекты, определены расходы на оплату патентных пошлин за подачу заявок на получение охранных документов и поддержание их в силе, определены доли, приходящиеся каждой из сторон при реализации будущих результатов и т. д. Тогда выгода для каждой из сторон будет определяться ее заинтересованностью в участии другой стороны. Необходимо отметить, что характерным признаком российской правовой системы является примат договорных отношений. Нормы Гражданского кодекса определяют, что граждане (физические лица) и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (ст. 1, гл. 1 ГК РФ).
Одной из актуальных проблем философии интеллектуальной собственности является вопрос об использовании информации об объектах интеллектуальной собственности в прогнозировании результатов научной, производственной и коммерческой деятельности.
Актуальность решения задачи использования патентной информации при выборе направлений научно-технического развития определяется происходящим смещением акцентов государственной промышленной политики в сторону повышения внимания к введению в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, созданных с привлечением бюджетных средств.
Глава 4. Гвсудавстввинве цврашиие темвщшнш ибствешшьш
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.1.2001 г. № 1607-р называет приоритетными для государства разработки, содержащие охраноспособные объекты интеллектуальной собственности и иные результаты научно-технической деятельности, обеспечивающие наибольшую социально-экономическую эффективность и реализацию основных целей государства.
Установление возможности связать появление отдельных изобретений или их блоков (кластеров) с отбором тех из них, которые обеспечат наиболее оптимальное соотношение между вложенными в их реализацию затратами и достигнутым результатом, является актуальной задачей при управлении НИОКР.
Предлагается следующий способ отбора изобретений на раннем этапе жизненного цикла для приоритетной их реализации.
Вначале следует оценить изобретательскую активность в рубриках (желательно на уровне подгрупп) МПК и выявить рубрики с наибольшей изобретательской активностью. Затем нужно определить наступающий момент для замены традиционного научно-технического направления новым, альтернативным. Это можно сделать путем «наложения» характеристики падения инновационной активности (использования технических решений) в традиционном научно-техническом направлении на характеристику изобретательской активности в альтернативном направлении. Точка пересечения обеих характеристик (падающей инновационной и растущей изобретательской активности) обозначит подходящий момент для поддержки альтернативного направления. Это — предварительный этап формализованного отбора изобретений, выполняющий роль некоего сита, при просеивании через которое оказались отобранными наиболее востребованные с точки зрения потребностей общества направления научно-технического развития.
При этом представляется чрезвычайно важным не упустить то, что появляется на свет в режиме «озарения» какого-либо отечественного Кулибина, вне рамок Директивного определения приоритетов или следования зарубежным достижениям, а также «пиковым» рубрикам. Это, на наш взгляд, решается проведением регулярных отборочных конкурсов.
Следующая задача — отыскать в этих направлениях наиболее эффективные изобретения, обеспечивающие при наименьших затратах наивысший результат. Это может быть выполнено уже с помощью экспертного метода, основываясь как на опыте экспертной группы, так и на данных отчетов о патентных исследованиях, содержащиеся в отчетах о патентных исследованиях, выполненных участниками конкурса по проектам, претендующим на отбор в качестве приоритетных.
Думается, что суть этой работы — не в ранжировании каждого технического решения и выдаче некоего «ярлыка» с указанием его значимости, а в разработке механизма предварительного отбора наиболее приемлемых вариантов для последующего квалифицированного качественного анализа с целью установления необходимых приоритетов в планировании, финансировании, материальном обеспечении и т. п. При этом эксперты должны руководствоваться не только оптимумом соотношения затрат и достигаемого результата при удовлетворении потребности, но также актуальностью и уровнем технического решения.
Таким образом, предлагаемый подход к использованию патентной информации при определении приоритетов научно-технического развития представляет собой комплексную систему и складывается из следующих составляющих:
1. Выявление «пиковых» рубрик изобретательской активности как характеристики областей общественных потребностей;
2. Определение момента для замены традиционного научно-технического направления новым, альтернативным путем «наложения» характеристики падения инновационной активности (использования технических решений) в традиционном научно-техническом направлении на характеристику изобретательской активности в альтернативном направлении.
3. Экспертное сопоставление и анализ конкретных
технических решений в рубриках МПК с наиболь-
шей изобретательской активностью.
4. Выбор наиболее оптимальных (по прогнозируемым
затратам и результатам) для их поддержки как
прямым финансированием, так и в режиме косвен-
ного стимулирования (налоговыми мерами и др.), в
том числе из поступивших на конкурсный отбор.
Другой актуальной проблемой философии интел-
лектуальной собственности является совокупность воп-
росов об охране объектов интеллектуальной собствен-
ности, находящихся на стыке различных сфер челове-
ческой деятельности.
Интеллектуальная собственность как товар. Следует отметить, что отдельные виды научного знания товаром не являются. К ним, в частности, можно отнести некоторые результаты так называемых фундаментальных исследований. Такого рода аномалия требует отдельного рассмотрения.
С естественными науками связаны исследования, проводимые с целью познания окружающей природы, поэтому исследования такой направленности следовало бы называть аналитическими, как и сами естественные науки. Исследования и науки, в которых они проводятся, предпринимаемые с конечной целью синтеза искусственных материалов и веществ, создания объектов второй природы, скорее следовало бы называть созидательными, конструктивными.
В предлагаемой модификации целевой классификации исследований и наук учитывается и социальный аспект — целью аналитических исследований является прогноз будущих состояний объектов природы, в то время как для созидательных исследований целью служит удовлетворение индивидуальных и общественных потребностей.
Отсюда, кстати, следуют ограничения для созидательных исследований — они направлены только на изменения природы, которые создает человек. Познавательные исследования направлены на прогнозирование состояний любых объектов, так что они могут в равной степени относиться и к природе, и к техногенной сфере.
Раздел Ml . Философия китвддектуальмрй еовствевврсти
В отличие от созидательного, аналитическое знание по своей сути считается бесплатным, принадлежащим всему человечеству, оно входит в базы знаний других наук, используется в образовательных целях. Затраты на получение этого вида знания оплачиваются в том или ином виде обществом (государством), и, будучи обнародованным, оно не имеет владельца. Этот вид интеллектуального продукта охраняется, как и работы искусства, не по своей сути, не по содержанию, не по сюжету, а по форме представления, т. е. с помощью авторского права. Важно только то, как изложены научные результаты, поэтому защищается текст, рисунки, примеры, образные сравнения и т. д., т. е. все то, что характеризует оригинальность произведения. Другими словами, творческим достижением (интеллектуальный результат), подлежащим охране, считается только форма представления научного результата. Естественно, что форма представления (изложения) научно-технического результата как элемента созидательного знания (находящегося под охраной патентного законодательства или уже вышедшего из-под такой охраны) также охраняется авторским правом.
Таким образом, наиболее существенное различие между аналитическими и созидательными знаниями заключается в том. что созидательные знания и соответствующая информация являются научным интеллектуальным товаром со всеми атрибутами этой рыночной категории, а аналитическое знание, будучи интеллектуальным продуктом, по своей сути товаром в виде объектов промышленной собственности не считается. Товаром может выступать только оболочка, форма представления этого знания.
Охрана открытий. Интересным объектом ИС являются открытия. Применительно к открытиям как наиболее значимому среди результатов научной деятельности нет закрепленного права на их использование в исключительных интересах их авторов или других лиц. Другими словами, среди объектов ИС научных открытий не должно бы значиться, поскольку познавательные результаты, как и всякое аналитическое (познавательное) знание о природе, являясь интеллектуальным продуктом, интеллектуальным товаром не являются и никаких монопольных прав не дают. Тем не менее, эта категория среди объектов ИС упоминается. По-видимому, это объясняется признанием значимости таких масштабных научных результатов, на которых базируются изобретения. С другой стороны, здесь мог сказаться пример СССР, где открытия регистрировались Патентным ведомством (Комитетом по делам изобретений и открытий) и на них выдавались дипломы, которые, впрочем, являлись только моральным стимулом и знаком признания заслуг ученого со стороны общества.
Патентная документация. Известные недостатки Международной патентной классификации (МПК) принципиально неустранимы, поэтому возлагать большие надежды на ее эволюционное совершенствование нельзя. Следует искать другие пути совершенствования классификационной патентной системы, которые могут обеспечить высокую эффективность (полноту и релевантность) поиска патентов при использовании автоматизированных систем.
По-видимому, для обеспечения функционально-целевого подхода при поиске необходимо переходить от иерархической классификации к матричной (фасет-ной). Представляется достаточным введение трех видов фасет:
I — потребности человека как биологического существа и личности, потребности социальных и демографических групп, человечества в целом, на удовлетворение которых направлено предлагаемое изобретение;
II— функции, выполнение которых необходимо для удовлетворения потребностей;
III — способы (технические решения и их группы)
для выполнения функций.
Каждая фасета может иметь свою достаточно сложную (иерархическую или фасетную) структуру. В основу фасет первого вида хотелось бы положить такой целеполагающий гуманистический принцип как удовлетворение той или иной потребности человека. Для этого весь теперешний раздел А — удовлетворение жизненных потребностей человека — надо разбить на отдельные крупные (основные) потребности, которые
Раздел Ml . Философия интеллектуальной срВстввннрети
и составили бы заглавные строки классификационной матрицы первой фасеты. Определение основных потребностей человека представляется весьма непростой задачей, поэтому приводимый ниже перечень дается только для иллюстрации. Итак, обозначая потребности, например, буквами, можно назвать: А — потребность в пище, В — в одежде, С — в комфортном (достойном) жилище, D — в перемещениях, Е — в информации, F — в сохранении здоровья, G — в удовольствиях и развлечениях и т. д.
Предлагаемое первое начало классификации близко к «отраслевому» подходу части существующей МПК, где в качестве конкретного применения объекта изобретения выступает потребность человека.
Разработка методических основ фасет II вида потребует классификации функций, необходимых для удовлетворения потребностей. Например, добыча сырья (в том числе пищевого); его переработка; получение искусственных материалов и изготовление из них деталей и устройств, выработка, преобразование и передача энергии; создание и передача механической энергии; измерения и т. д.
Разработка классификации способов выполнения функций, перечисленных в фасетах II рода, будет служить для формирования фасет III рода. Сюда могут войти способы использования различных физических, химических и биологических эффектов, включая их сочетания. В этих же фасетах могут быть учтены конкретные формы и конструкции деталей, узлов и механизмов, схемы электрических и электронных устройств и тому подобные технические решения.
Многолетний опыт работы с массивами патентных документов позволяет утверждать, что коренная реорганизация МПК неизбежна.
Непатентные формы защиты интеллектуальной собственности. Нет никаких сомнений в том, что ряд. объектов, охраняемых авторским правом, все же относятся к промышленной собственности. Так, например, безусловно, права на топологию интегральных схем непосредственно стимулируют новую электронную продукцию, т. е. обеспечивают прогресс в информационной технике, включающей в себя вычислительную технику, телекоммуникации, измерительно-информационные и управляющие системы и т. д.
Смежные права. Наверное, к авторским результатам следовало бы относить также постановку спектаклей и представлений, исполнение литературных, музыкальных и других представлений, потому что режиссеры, дирижеры, певцы, танцоры, любые музыканты — точно такие же авторы (или, по меньшей мере соавторы) исполняемых произведений, как и писатели, поэты, композиторы. Тем не менее в Законе об авторском праве права постановщиков и исполнителей отнесены к смежным.
В тех случаях, когда смежные права относятся не к творческой, а к «технической» стороне — к записи, тиражированию, передаче авторских произведений в виде звуковых и визуальных постановок и исполнений по любым каналам связи, они представляют собой промышленную собственность, охраняемую принципами авторского права. Действительно, едва ли кто сомневается в принципиальном различии тех результатов, которые достигаются автором и (или) исполнителем, и записью, тиражированием и передачей (трансляцией) постановки или другого вида исполнения произведения. Если и здесь имеются творческие достижения (режиссура, операторское исполнение), то они также охраняются как авторские результаты. Во всех остальных видах опубликования — от традиционного полиграфического издания до передачи произведения в записи или «напрямую» — основную роль играет нетворческий элемент труда, обеспечивающий получение результатов в рамках технических характеристик аппаратуры и оборудования.
Издательские права Закон об авторском праве не относит к смежным правам, хотя, на наш взгляд, они именно таковыми и являются. Имущественные авторские права передаются по авторскому договору, который разрешает использование произведения определенным способом и в установленных пределах только лицу, которому эти права передаются и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам. Лицо (физическое или юридическое), получившее исключительные авторские права, реализует их в виде монополии на использование произведения в оговоренной форме (например, издании), т. е. печатает (тиражирует) произведение и продает его (сдает в аренду и т. п.), получая соответствующий доход.
Охрана авторских прав в сети Интернет. Пришла пора серьезно задуматься о действенной правовой и технической охране интересов обладателей авторских прав в Интернете. К сожалению, на сегодняшний день выгода от нарушений оказывается достаточно велика, а попытки соблюдения законодательства обходятся слишком дорого.
По мнению Министерства печати РФ, авторская работа (статья), размещенная на сайте в Интернете, является объектом авторского права в случае, если она представляет собой произведение в смысле статей 5, 6 и 7 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».
Статья 5 определяет, что авторское право распространяется на произведения, обнародованные либо не обнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме в России или за ее пределами.
Статья 6 указывает, что «авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и на не обнародованные, существующие в какой-либо объективной форме...». Далее указывается, что, во-первых, «авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты» и, во-вторых, «авторское право на произведение не связано с правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено».
В статье 7 дается неполный перечень произведений, попадающих под определение «объект авторского права». Первыми в списке названы литературные произведения, чем, собственно, и являются сетевые публикации. Во всяком случае, к указанным в статье 8 произведениям, не рассматриваемым в качестве объектов авторского права (перечень исчерпывающий), они никак не относятся.
Таким образом, электронная статья однозначно представляет собой объект авторского права со всеми вытекающими из этого последствиями.
Остается неясным вопрос, не является ли размещение материалов на сайте опубликованием. В той же статье 4 указано, что «опубликование (выпуск в свет) — выпуск в обращение экземпляров произведения, фонограммы с согласия автора произведения, производителя фонограммы в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики, исходя из характера произведения, фонограммы». С одной стороны, при размещении материалов вроде бы не происходит создания экземпляров. С другой, когда пользователь обращается к тому или иному материалу, находящемуся на Интернет-сайте, его компьютер получает копию материала. Именно эту копию видит на своем мониторе пользователь. Копия авторского произведения, получаемого из Интернета, является экземпляром произведения в случае, если осуществляется ее запись на жесткий диск компьютера пользователя, т. е. копия изготовляется в материальной форме. Электронная копия статьи записывается во временный каталог на компьютере пользователя, откуда она и воспроизводится на экран монитора. Следовательно, вольно или невольно возникает «экземпляр» со всеми вытекающими правовыми последствиями.
Из действующего законодательства России следует однозначный вывод о том, что материалы, обнародованные на сайте в электронной форме, являются объектом авторского права и им охраняются. Таким образом, к электронным публикациям в полной мере относятся положения Закона «Об авторском праве и смежных правах» и соответственно автор вправе рассчитывать на соблюдение его основных положений.
К числу иных методов (не столько охраны, сколько давления на нарушителя) относятся различные общественные меры морального воздействия (например, работа Интернет-суда, результаты которого появляются на «Доске Позора», и аналогичные «выставки» плагиата.
Охрана фирменных наименований. Думается, назрела необходимость законодательно установить более четкий порядок регулирования отношений в области фирменных наименований, который бы надежно защищал обладателей исключительного права на них.
Какой должна быть система регистрации фирменных наименований, позволяющая избежать неоправданных затрат, осложнения процедуры регистрации юридических лиц и нарушения международных обязательств Российской Федерации? Какие основные моменты необходимо отразить в соответствующих нормативных актах?
Необходимость создать механизм регистрации фирменных наименований возникла в связи с вступлением в действие с 1 января 1995 г. Гражданского кодекса Российской Федерации. В п. 4 ст. 54 ГК РФ закрепил норму, в соответствии с которой исключительное право на фирменное наименование получают только те юридические лица, которые отвечают двум основным требованиям: во-первых, являются коммерческой организацией, а во-вторых, зарегистрировали свое фирменное наименование в установленном законом порядке.
При этом порядок и систему функционирования регистрации фирменных наименований законодатель не устанавливает, а отсылает к закону или иному нормативному акту, которые должны быть приняты в развитие положений Кодекса. Однако до настоящего времени ничего заслуживающего внимания в этой области не появилось.
В отличие от принципа диспозитивности сторон, наблюдаемого при регистрации объектов авторского права, по мнению ряда исследователей, регистрационная система фирменных наименований должна носить обязательный характер. Обязанность регистрировать свои фирменные наименования должна лежать на всех без исключения российских юридических лицах, а также на иностранных предприятиях, зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Установление подобной обязанности является внутренней прерогативой государства и никак не нарушает обязательств, вытекающих из ст. 8 Парижской конвенции. Такое решение вопроса вряд ли может вызвать сомнения, ибо только оно сможет обеспечить всеобщий государственный учет используемых фирменных наименований и их последующую защиту от недобросовестного использования.
Создание реестра используемых фирменных наименований может осуществляться как на общегосударственном, так и на региональном уровне в зависимости от того, какой из вариантов более экономичен и технически подкреплен. На наш взгляд, особенно принимая во внимание географические масштабы России, идеальным решением мог бы стать так называемый смешанный вариант. Имеется в виду закрепление в федеральном законе единого общероссийского порядка регистрации фирменных наименований, при котором все данные о них сосредоточивались бы в едином общероссийском регистрационном центре. Такой центр для оперативного сбора и обработки информации, а также взаимодействия на местах должен иметь юридически полноправные филиалы федерального подчинения, образованные, например, в семи существующих региональных округах. Создавать филиалы в каждом субъекте Федерации вряд ли рационально.
Подобное решение позволит создать объединенный связанный единой системой банк данных фирменных наименований, на базе которого могли бы проще решаться вопросы, связанные с их выбором, использованием, охраной и организацией юридического контроля.
Создание в одной организации единого банка данных о фирменных наименованиях и словесных товарных знаках всей страны позволит облегчить решение вопросов, связанных, например, с:
Раздел VI. Философия интеллещальнвй собственнее™
■ выбором названий создаваемых предприятий;
■ проверкой новизны заявленных для регистрации товарных знаков, которые не должны повторять специальную часть известных фирменных наименований, принадлежащих другим лицам;
■ использованием, охраной фирменных наименований и товарных знаков в России;
■ возможностью превентивного устранения конфликтов между ними и др.
Упомянутые выше региональные филиалы единого общероссийского регистрационного центра по фирменным наименованиям можно организовать путем создания специальных отделов при существующих в федеральных округах регистрационных палатах. Экспертов-регистраторов можно подобрать из числа зарегистрированных в регионах патентных поверенных, имеющих высшее юридическое и патентное образование.
Реестр фирменных наименований обязательно должен быть открыт для всеобщего сведения. Это можно осуществить, ежемесячно публикуя сведения о зарегистрированных фирменных наименованиях в бюллетене, издаваемом Роспатентом. Как уже отмечалось, открытость реестра служит для публичного оповещения третьих лиц и доказательства приоритета в спорах о праве на фирменное наименование.
Безусловно, в рамках философского осмысления проблем интеллектуальной собственности невозможно осветить все нюансы и особенности функционирования интеллектуальной собственности в современном обществе. Однако могут и должны, на наш взгляд, быть рассмотрены все основополагающие принципы и положения. Без их обсуждения и решения философия современного общества не может быть ни полной, ни по-настоящему эффективной. Для постиндустриального, информационного в своей основе общества, в которое вступил современный мир. Осмысление и правильное решение проблем интеллектуальной собственности приобретает все большее и поистине судьбоносное значение.
глава 4. Государственное управление интеллектуальной собственностью
щ Словарь ключевых терминов
Авторское право — часть гражданского законодательства, регулирующая отношения по использованию произведения науки, литературы и искусства, а также программ для ЭВМ (баз данных) и топологий интегральных микросхем.
Беспатентная лицензия — это передача ноу-хау (знаний, не защищенных правами промышленной собственности) для использования. Секрет производства («ноу-хау») — техническая, организационная или коммерческая информация, которая защищается от незаконного использования третьими лицами, если:
■ информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
■ к этой информации нет свободного доступа;
■ обладатель информации принимает надлежащие меры к охране се конфиденциальности.
Выбор приоритетов научно-технического развития с использованием патентной информации — определение научных, технических решений, более всего позволяющих удовлетворить самые насущные потребности общества в различных областях экономики.
Государственное управление интеллектуальной собственностью — совокупность целенаправленных действий государства, обеспечивающих баланс интересов участников инновационного процесса, включая авторов созданных на средства государственного бюджета объектов интеллекту-альной собственности и лиц, содействовавших созданию и использованию этих объектов, а также самого государства и представляющих его интересы государственных заказчиков.
Интеллектуальная собственность — право на владение интеллектуальным продуктом,закрепленное за правообладателем юридически. Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации (Статья 138) интеллектуальная собственность — исключительные права физического или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, работ и услуг, т. е. фирменное наименование, товарный знак и др.
Исключительная лицензия — уступка лицензиаром лицензиату монопольного правомочия использовать объект лицензии в соответствующем условиям договора объеме, сроках и на определенных договором рынках. Неисключительная (простая) лицензия предоставляет лицензиату обычное право пользования, что не исключает права третьих лиц; при простой лицензии лицензиар вправе сам производить и реализовывать продукцию, выдавать любое количество простых лицензий, однако в каждом последующем договоре простой лицензии могут быть изложены различные ограничения.
Использование объектов интеллектуальной собственности — их введение в хозяйственный оборот. Продукт (изделие) считается изготовленным с использованием, например, изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, — примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак. Изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки. Использование в коммерческих целях — это продажа, сдача внаем или иной способ коммерческого распространения, а также предложение осуществлять эти действия. Под использованием понимается именно использование в коммерческих целях, если не оговорено иное.
Лицензионный договор (лицензия) —юридическое соглашение между правообладателем (лицензиаром) и любым другим лицом (лицензиатом), принимающим от лицензиара право на использование объекта интеллектуальной собственности на условиях, оговоренных в этом соглашении.
Объекты интеллектуальной собственности — объекты, состав которых определен Статьей 2 Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой в 1967 г.:
«...Интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:
— литературным, художественным и научным произведениям;
— исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;
— изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
— научным открытиям;
— промышленным образцам;
— товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;
— защите против недобросовестной конкуренции;
а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной области». Охранный документ — патент или иной документ, подтверждающий права правообладателя на владение и распоряже-ние результатами научно-технического характера: изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, товарными знаками (знаками обслуживания), наименованиями мест происхождения товаров и иными объектами интеллектуальной собственности. Под правообладателем понимается автор, его наследник, а также любое физическое или юридическое лицо, которое обладает исключительными имущественными правами, полученными в силу закона или договора.
Оценка интеллектуальной собственности — процесс определения полезности результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг в денежном выражении (см. Стандарт Российского общества оценщиков «Оценка объектов интеллектуальной собственности»).
Патентная информация — сведения, содержащиеся в патентах и других охранных документах (первичная информация), а также в документах, являющихся результатом аналитико-статистической обработки первичной информации (вторичная информация). В соответствии с Федеральным Законом от 20.02.95 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» информация — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.
Патентная лицензия — это соглашение о передаче прав на использование объекта промышленной собственности, т. е. технического решения, имеющего правовую охрану.
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности — получение патента, иного охранного документа или иное подтверждение права интеллектуальной собственности.
Прогнозирование научно-технического развития — научное исследование и оценка вероятных перспектив, направлений совершенствования технологий, техники, создания новых направлений.
Промышленная собственность—исключительное право на владение и распоряжение результатами научно-технического характера: изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, товарными знаками (знаками обслуживания) , наименованиями мест происхождения товаров.
Создание объектов интеллектуальной собственности — написание или опубликование литературных, художественных и научных произведений, научных открытий, осуществление исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионных передач, подача заявки на получение правовой охраны изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности.
Уступка патента — это полная уступка продавцом покупателю всех (в том числе, формальных) прав, связанных с обладанием патентом.
В Вопросы для обсуждения_____________________
1. Понятие интеллектуальной собственности.
2. Интеллектуальный продукт и интеллектуальный товар.
3. Виды интеллектуальной собственности.
4. Система охраны авторских прав.
5. Виды и содержание патентных документов. Системы патентования.
6. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в России (законы и институты).
7. Патентование объектов интеллектуальной собственности РФ за рубежом.
8. Интеллектуальная собственность и инновационная деятельность.
9. Роль промышленной собственности в системе инновационной экономики развитых стран.
10. Проблемы государственного управления интеллектуальной собственностью.
11. Актуальные проблемы развития и защиты интеллектуальной собственности в современной России.
12. Проблемы гармонизации российского и международного законодательств и практики в области интеллектуальной собственности.
В Литература________________________________
Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность: гармонизация российского и международного подходов // Наука России на пороге XXI века: проблемы организации и управления. М„ 2000.
Бромберг Г.В. Основы патентного дела. М.: ИНИЦ Роспатента, 2000.
Бромберг Г.В., Лебедев СЛ., Розов Б.С. Интеллектуальная собственность: Вводный курс. М.: МГУ, 2002.
Бромберг Г.В., Лебедев С.А. Состояние и проблемы управления интеллектуальной (промышленной) собственностью России // Наука России на пороге XXI века: проблемы организации и управления / Под общ. ред. С.А. Лебедева.
Гаврилов Э.П. Комментарий закона об авторском праве и смежных правах. М.: Фонд «Правовая культура», 1996.
Корчагин А.Д. и др. Интеллектуальная собственность: Словарь-справочник. М.: ИНФРА-М, 1995.
Растяпин В. Вузы и охрана интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. 1995. № 3 — 4. С. 65 — 68.
РАЗДЕЛ VII.
СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА

Согласно распространенному определению объективную реальность понимают как материальный мир в целом, во всех его формах и проявлениях, существующий независимо от человеческого сознания и первичный по отношению к нему. В этом определении отчетливо просвечивается принцип механистического миропредставления, сформулированный Декартом в виде противопоставления двух типов реальности — res extensa и res cogitans, мира вещей и духовного мира (мира сознания). Современная наука стремится снять это противопоставление и найти универсальную про-тоструктуру, ответственную за проявленные обоих феноменов.
Академик В.И. Вернадский, говоря о научном познании реальности, выделяет три пласта этого феномена: явления космических просторов, близкие нашей человеческой «природе», явления планетные и явления микроскопические. Научно наблюдаемые феномены жизни могут проявляться во всех трех пластах. Будем в дальнейшем вкладывать в понятие «реальность» именно такое содержание.
Житейские представления о мире как о реальности основаны на религиозных, философских, исторически-бытовых построениях. Научное отражение полностью абстрагируется от этих представлений и целиком опирается на научную методологию. Наука (греч. Episteme, лат. scientia) — это процесс, ориентированный на выявление наиболее общих свойств мира. Основой этого процесса служит научная методология — система алгоритмов решения этой задачи, а его результатом является получение научного знания, служащего удовлетворению базовых человеческих потребностей. Первая из этих потребностей — познавательная доминанта человеческой психики, вторая — научное обеспечение новых технологий, которые используются для расширения границ гомеостаза и освоения новых экологических ниш во всем многомерном пространстве существования человека.
Следующее базовое понятие, которое мы будем использовать, говоря о научной картине мира, — метафизика. В разные исторические эпохи в этот термин вкладывалось различное содержание, отсутствует общепризнанная интерпретация и в наше время. Будем понимать под «метафизикой» философское осмысление физической картины мира и в первую очередь фундаментальных понятий, лежащих в основе тех или иных научно-теоретических моделей реальности. К этому необходимо добавить, что современная наука пока не может предложить универсальную теоретическую модель мира как целостной системы, а имеет дело с совокупностью частных моделей, каждая из которых удовлетворительно отражает свойства одного из фрагментов реальности. Поэтому современную научную картину мира следует понимать как систему этих частных моделей.
Следующее существенное понятие — онтология — подобно метафизике также не имеет вполне однозначной интерпретации. Довольно часто онтологию рассматривают как самостоятельную философскую дисциплину, которая является основополагающей частью метафизики и предметом который является изучение наиболее фундаментальных структур бытия. Используя это толкование, мы можем определить онтологию науки как направление, исследующее структуру, универсальные закономерности объективной реальности и ее эволюцию.
Область научных интересов — поиск ответов на вопросы «что? как? почему?».
На вопрос «зачем?» наука раньше отвечала с трудом, проигрывая на этом «поле» философии, религии и искусству. Однако, в связи с развитием теории самоорганизующихся систем, или синергетики, при построении научной картины мира появилась возможность отразить и телеологические аспекты реальности.
Основной метод построения частных научно-теоретических моделей реального мира — это формирование ее гипотетико-дедуктивных моделей. Первый этап конструирования такой модели — построение фундаментальной гипотезы, из которой дедуктивным путем выводятся следствия и предсказания, которые на втором этапе могут быть проверены опытным путем. Если опыт подтверждает предсказания, то гипотеза получает признание в качестве теоретической модели, удовлетворительно описывающей реальность. Основания для конструирования: обобщение эмпирической информации и неалгоритмическое постижение реальности, получаемое путем интуитивного спонтанного озарения.
Рассмотрим основные методологические принципы, используемые при построении современных научных моделей реальности. Во-первых, это натурализм, т. е. отрицание существования каких-либо сверхъестественных или духовных феноменов, познание которых невозможно посредством научных методов. Во-вторых, это принцип, согласно которому не может существовать картин мира, которые не опирались бы на теоретический аппарат точных наук и в первую очередь физики. В-третьих, это фаллибилизм— убеждение в том, что мы не можем рассчитывать на получение абсолютно достоверной и полностью завершенной картины мира. Каждая конкретная теория имеет свои границы применимости и может быть подвергнута изменениям и усовершенствованиям. В-четвертых, это принцип фальсификации— возможность опытного опровержения утверждений теории. В соответствии с этим принципом любое принципиально не фальсифицируемое знание, например, религиозные догматы, нельзя считать научным. Пятый методологический принцип — историзм — является, быть может, менее строгим. Его смысл в том, что не могут существовать модели картин мира, свободные от идеологических, познавательных и телеологических влияний своей исторической эпохи. Механическая картина мира Ньютона не могла появиться в античную эпоху, а современники Ньютона были бы не в состоянии принять идеи Эйнштейна, С историзмом тесно связан и следующий, шестой методологический принцип, который мы назовем модернизмом: построение научной картины мира никогда не имело характера абстрактно-познавательного процесса, напротив, каждый раз речь шла о процессе наиболее адекватного научного отклика на очередной вызов истории — такого теоретического отклика, который послужил бы базой для создания суммы технологий, обеспечивающих модернизацион-ное преодоление очередной исторической бифуркации.
Из пятого и шестого эпистемологических принци-, пов следует, что картина мира обладает важным фундаментальным свойством: она динамична, постоянно находится в движении и способна к развитию.
ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА В ЕЕ РАЗВИТИИ
щ Модели развития научного знания
Существуют три основные концепции развития фундаментальной науки и миропредставления. Первая из них, радикальная, принадлежит Ф. Бэкону и Г. Галилею.
Согласно их точке зрения, научный взгляд на мир возник как результат революционной победы над суеверием и предрассудками. Декарт дополнил этот подход тезисами о существовании абсолютных истин и абсолютно достоверного знания, которое будучи однажды научным путем получено, ничем уже не может быть поколеблено.
П. Дюгем предположил альтернативную контину-алистскую концепцию, смысл которой состоит в том, что каждое достижение науки может быть модифицировано. Нельзя, например, опровергнуть теорию элек-тромагнитизма Максвелла, но можно видоизменить ее математический аппарат, расширив границы применимости теории.
Если концепцию Бэкона можно назвать концепцией одной единственной научной революции, а концепцию Дюгема концепцией реформ, то третья точка зрения, высказанная К. Поппером, — это концепция перманентной революции. В другом варианте эту концепцию предложил Т. Кун, которому принадлежит идея развития науки на основе смены общенаучных парадигм. Согласно его идеям, существуют периоды нормальной науки, когда новые исследования опираются на прочный фундамент ранее полученных основных достижений. Комплекс этих фундаментальных научных достижений Кун предложил назвать парадигмой. По мере накопления принципиально новых открытий возникает необходимость в пересмотре и видоизменении парадигмы, и тогда происходит научная революция. Парадигма в течение определенного времени служит теоретической основой научного миропредставления.
Сопоставляя все три концепции, Дж. Агасси приходит к выводу, что для построения наиболее адекватной картины мира и для научного творчества наиболее предпочтителен третий подход, соответствующий идеологии фаллибилизма. Известный специалист по космологии Дж. Уилер выразил эту идеологию в парадоксальной форме: «Мы знаем, что все наши теории ошибочны. Задача, следовательно, состоите том, чтобы делать ошибки раньше». Согласно этой точке зрения, хорошая картина мира обязательно является рискованной и может быть подвергнута опровержению, уточнению и исправлению. Вместе с тем крайности фаллибиллизма уравновешиваются реализмом, смысл которого состоит в допущении, что теория защищена покровом эмпирических данных.
Воспользуемся концепцией научных революций и сменой космологических парадигм для анализа эволюции научной картины мира.
1 Натурфилософская парадигма
Картина мира, соответствующая этой парадигме, возникла в античной Греции. Первая концепция Вселенной, доступная интеллектуалу, принадлежит Пифагору. Оценивая его роль в формировании миропредставления, которое можно назвать научным, Б. Рассел писал: «Пифагор по своему влиянию как на древнюю, так и на современную эпоху... является одним из наиболее значительных людей, когда-либо живших на земле, — ив том случае, когда он был мудр, и в том, когда он ошибался». Пифагору принадлежат идеи всеобщей
Гармонии Вселенной, которую он назвал космосом (cosmos по-гречески означает Мир, Вселенная, Гармония) и предположил, что его структура определяется соотношениями чисел. Математический характер имела и космогония Пифагора.
В античной философии сформировались две школы, по-разному описывавшие структуру мироздания. Сторонники Ионийской школы (Фалес, Анаксимандр, Гераклит) утверждали, что существует два слоя реальности — физический, который воспринимается нашими чувствами, и метафизический, который лежит за пределами наших восприятий и составляет «архэ» — скрытую сущность вещей. По мнению представителей другой школы — эпеатов (Парменид), абсолютно лишь вечное и неизменное, единое. Что же касается видимых явлений, то это химера, порожденная обманом наших чувств.
На следующем этапе развития античного миропредставления были оформлены две альтернативные картины мира. Первая из них принадлежит Левкиппу и Демокриту, которые считали, что в мире нет ничего, кроме разнообразных атомов и пустоты. Отсутствует и какая-либо свобода воли или выбор, т. к. все происходящее однозначно предопределено движениями атомов, в мире нет ничего случайного. Другая космологическая модель разработана Платоном, утверждавшим, что действительный мир — это идеи, а все видимое и воспринимаемое чувствами лишь их отражение, однако же — вполне реальное. Таким образом, концепция мироздания Платона дуалистична: истинный мир совершенен, вечен и неизменен и может быть постигнут лишь работой ума, а материальный подлунный мир в отличие от него подвержен изменениям и распаду. Единственной причиной космоса является Демиург, творец. Основной принцип космологии Платона — математическая Гармония, порядок, красота.
Вершиной античной натурфилософии явилась космология Аристотеля. Если у Платона субстанцией, т. е. истинной реальностью, считались эйдосы, идеи, то в учении Аристотеля роль субстанции отводилась видимому миру. Учение Аристотеля о мироздании изложено в двух книгах — «Метафизике» и «Физике». Первая посвящена исследованию высших причин космоса, т. е. всего вечного, бестелесного, неподвижного. Предметом второй является природа, материальный мир — видимый, текучий, подверженный законам случая.
Как снять фундаментальное противоречие между обоими пластами реальности? Чтобы решить эту проблему, Аристотель вводит два рода бытия — возможное и действительное. Первое — это материя, которая в первозданном состоянии напоминает хаос, второе — форма, ее воздействие на материю сообщает ей предметное бытие, движение, доступное опыту. Таким образом, потенциально возможное превращается в актуальную реальность под причинным воздействием формы. Механизм этого воздействия Аристотель называл энтелехией. Придуманную им концепцию мироздания называют гилеоморфизмом (от греческих слов hyle — материя, morphe — форма). Природа, понимаемая как совокупность вещей и энтелехии, — это уже не хаос, а гармоничный космос.
Космография античности практически полностью гелиоцентрична, единственным исключением явилось учение Аристарха Самосского, который поместил в центр мира не Землю, а Солнце. Однако греческая натурфилософия не восприняла его идей, в частности потому, что в его гелиоцентрической системе оказалось затруднительным объяснить обратное движение планет. Кроме того, гелиоцентрическая система противоречила физике Аристотеля. С этой задачей, с помощью введения эпициклов, легко справился Клавдий Птолемей в своей геоцентрической системе мироздания.
1 Механическая картина мира
Натурфилософская система Аристотеля оставалась основой общепризнанной картины мира на протяжении почти двух тысяч лет, до XVI в. Фома Аквинский объединил систему Аристотеля с христианской философией. И лишь в эпоху Возрождения большинство философов стало отдавать пальму первенства Платону.
Наступившая в XVI — XVII вв. новая историческая эпоха поставила в центр научных интересов астрономию и астрологию. В развитии первой нуждались мореплаватели, требовалось также уточнить календарь — расчет дней равноденствия, пасхалий, разобраться с вопросом об угловых размерах Луны и т. п. Что касается астрологии, то в этот век, когда все были суеверны, ее услуги пользовались большим спросом.
За решение первой задачи взялся Н. Коперник, который в своей книге «De Revolutionibus orbium coelestium» («Об обращении небесных сфер») обосновал гелиоцентрическую систему мира. «В таком великолепнейшем храме, — писал он, — кто мог бы поместить этот светильник в другом лучшем месте, как не в том, откуда он может одновременно все освещать. Конечно, именно так Солнце, как бы восседая на царском троне, правит обходящей вокруг него семьей светил». Сформулированные Коперником постулаты о движении небесных светил вокруг Солнца потребовали внести серьезные изменения в физику Аристотеля, где признавалась потенциальная бесконечность (бесконечная делимость), но была неприемлема бесконечность актуальная («бесконечность большого тела»).
«Великий круг», орбита Земли,— писал Коперник,— по отношению к звездной сфере подобен точке. «До каких пор распространяется эта необъяснимость, неизвестно», — уточнял свой вывод Коперник.
В расхождении с физикой Аристотеля современники увидели слабость системы мира Коперника. Позже эта слабость обернулась силой, т. к. послужила одной из предпосылок смены физической парадигмы. В мировоззренческом смысле система Коперника знаменовала освобождение науки от теологии, а также означала возврат от Аристотеля к Пифагору и Платону.
Над развитием идей Коперника о бесконечности Вселенной думали Николай Кузанский и Джордано Бруно. У Вселенной нет центра, — писал Кузанский, — она потенциально бесконечна. Дж. Бруно сделал следующий шаг и заявил, что Вселенная бесконечна актуально, а мир и Бог — это одно и тоже. Не нужна, согласно Бруно, и гипотеза Аристотеля о различии материи и формы — это также одно и то же. Но прославила Бруно на века другая идея — концепция множественности обитаемых миров.
Ученый мир долго не мог принять систему Коперника. Тихо де Браге придумал собственную систему мира, поместив в центр Вселенной Землю и заставив крутиться вокруг нее Луну и Солнце, вокруг которого вращались все остальные планеты. Стремясь опровергнуть Коперника, Браге полжизни потратил на то, чтобы составить новые звездные таблицы, более точные, чем у Птолемея. Уже после его смерти И. Кеплер, используя эти таблицы, открыл свои законы движения планет вокруг Солнца. Это было очередное торжество идей Коперника.
Галилео Галилей был первым ученым, который посмотрел на небо через телескоп, или perspicilium, подзорную трубу, как он его называл. Это позволило ему сделать много открытий, обогативших астрономию: спутники Юпитера, горы на Луне, пятна на Солнце, кольца Сатурна. Млечный путь оказался множеством звезд. В 1572 г. Галилей наблюдал вспышку сверхновой звезды и тем самым доказал, что звезды не вечны.
Рождение философии Нового времени связывают с именем Рене Декарта.
Фундаментальный принцип научного познания мира, согласно Декарту, состоит в том, что наука должна не просто устанавливать законы реального мира, но и находить причины всех явлений природы. Весь мир, по Декарту, — machina mundi, это сложнейший механизм, созданный величайшим мастером — Богом. Познание мира сводится поэтому к конструированию его подобия на основе умозрительных гипотез и с помощью математической теории. Если Платон утверждал, что точную науку о природе создать невозможно, то Декарт провозгласил прямо противоположное: математика — самая достоверная из наук, она — основа физики.
Образ мира у Декарта дуалистичен: существует протяженный мир вещей и предметов, res extensa и res cogitans — непротяженный и неделимый мир духа, сознания. Источником движения в мире является Бог.
Вершина механистического мировоззрения — система мира, построенная Исааком Ньютоном и описанная в его главной книге «Philosophia Naturalis Principia Mathematica» («Математические начала натуральной философии»), опубликованной в 1686 г. В основе концепции мироздания Декарта лежала гипотетическая физика, иными словами, предположения, которые не следовали непосредственно из опыта. Отказавшись от такого подхода, Ньютон провозгласил: «Hypoteses поп fingo» («гипотез не измышляю»). Его научный метод — это физика принципов, или аксиом, которые хотя и не могут быть получены логическим путем из опыта, но обосновываются непосредственным опытом. Космология Ньютона основана на законе всемирного тяготения.
где F — сила тяготения, G — гравитационная константа, mi,m2— массы взаимодействующих тел, R— расстояние между ними, а также на трех механических законах движения.
Используя математический аппарат своей теории, Ньютон теоретически объяснил законы Кеплера, разработал теорию движения Луны и комет, объяснил механику возникновения приливов, предложил теорию искусственного спутника Земли, предсказал приплюснутую форму Земли. Космология Ньютона стала первой в истории науки подлинно всеобъемлющей гипо-тетико-дедуктивной системой мироздания.
Окончательное оформление эта система мира получила к концу XVIII в. в результате трудов блестящей плеяды французских и немецких ученых А. Клеро, М. Эйлера, Ж. Лагранжа, П. Лапласа. И. Канту и Лапласу принадлежит заслуга создания динамической модели мироздания.
j Термодинамика и электромагнетизм______________
К рубежу XVIII и XIX вв. ученое сообщество пришло к мысли, что механистическая теория практически полностью сняла все проблемы научной картины мира. Казалось, оправдываются слова, сказанные об авторе «Начал»: «Ньютон был не только величайшим, но и счастливейшим из смертных, ибо систему мира можно создать только один раз».
Явления переноса теплоты объясняли с помощью механической субстанции — теплорода, были придуманы и другие такие жидкости — электрические и магнитные субстанции.
Положение начало меняться в связи с успехами термодинамики. В середине XIX в. Р. Майер, Дж. Джоуль и Г. Гельмгольц открыли закон сохранения энергии. Используя этот закон, А. Эллингтон предложил первую научную теорию, объясняющую, почему горят звезды. Согласно его теории, источник энергии звезд — превращение в тепло энергии гравитационного сжатия. В XX в. стало ясно, что этот механизм недостаточен, необходимо учитывать поступление в недрах звезд энергии, выделяющейся при термоядерной реакции превращения протонов в ядра гелия.
В 1824 г. Сади Карно открыл второе начало термодинамики, т. е. закон возрастания энтропии — меры неупорядоченности систем — во всех необратимых процессах.
Используя этот закон, А. Эддингтон сформулировал критерий, определяющий направление времени во Вселенной: стрела времени есть свойство энтропии и только ее одной.
Другое следствие из второго начала термодинамики сформулировал Р. Клаузиус, выдвинув гипотезу «тепловой смерти» Вселенной: история мира завершится, когда вследствие непрерывно продолжающегося роста энтропии он достигнет состояния термодинамического равновесия, т. е. абсолютного покоя. И тогда стрелка на часах времени упадет — добавил к этому Эддингтон.
Поскольку после работ Канта и Лапласа стало ясно, что мир никогда не был сотворен, то возникал естественный вопрос, почему этого уже не случилось. Л. Больцман — один из основоположников статистической физики — попытался снять этот парадокс, предположив, что наш мир — это не более, чем гигантская флуктуация в необъятной Вселенной, которая в целом давно уже мертва. Действительное решение проблемы удалось получить много позже, используя идеи теорий самоорганизующихся систем.
Все эти открытия существенно обогатили картину мира, но не привели к смене механистической парадигмы. По словам Гельмголыда, научное познание мира будет завершено «по мере того, как будет выполнено сведение явлений природы к простым силам и будет доказано, что это единственно возможное сведение, которое допускают явления».
Не изменилась эта точка зрения и после того, как Джеймс Кларк Максвелл, обобщая открытия А. Ампера, К. Эрстеда и М. Фарадея, сформулировал законы электромагнетизма. Из уравнений Максвелла следовало важное предсказание: в пустоте должны распространяться электромагнитные волны. В 1888 г., спустя 20 лет после опубликования теории Максвелла, Г. Герц экспериментально доказал существование этого фундаментального физического явления.
Возникал вопрос, что является носителем электромагнитного поля. Сам Максвелл считал, что эту функцию выполняет эфир. «Не может быть сомнений, — писал он, — что межпланетное и межзвездное пространство не является пустым, а заполнено некоторой материальной субстанцией или телом, несомненно наиболее крупным и, возможно, самым однородным из всех других тел».
Эта загадочная субстанция — эфирное море — должна была обладать парадоксальными свойствами: она должна быть почти абсолютно твердой, т. к. скорость света очень велика, но одновременно не должна оказывать никакого сопротивления движению небесных тел. Передавая свет и другие электромагнитные волны, она в тоже время должна быть абсолютно прозрачной. Все это изрядно запутывало физическую картину мира. «Мы не знаем источник механических процессов,— писал Гельмгольц,— в нашем распоряжении лишь символы, лишь названия переменных, входящих в уравнения».
Чтобы внести ясность в эти вопросы, надо было опытным путем обнаружить существование эфира.
Решить эту задачу можно было, воспользовавшись тем обстоятельством, что уравнения Максвелла в отличие от законов механики Ньютона неинвариантны относительно системы отсчета. Эту идею использовали А. Май-кельсон и Э. Морли, осуществившие в 1887 г. интер-ферометрическое сравнение пучков света, распространявшихся поперек движения Земли и вдоль него. Итог опытов сформулирован Майкельсоном в следующих словах: «Было продемонстрировано, что результат, предсказываемый теорией неподвижного эфира, не наблюдается, откуда с необходимостью следует вывод об ошибочности данной гипотезы».
| 1о |
|
|
X. Лоренц и Дж. фицджеральд предположили гипотезу сокращения длины тел, в том числе и интерферометра вдоль направления:
to
где с - - скорость света, a v — скорость движения.
Как видно из этих преобразований, должен меняться и темп хода времени. Эта гипотеза снимала проблему, но ценой ее замены другой, не менее трудной.
На этом проблемы механистической картины мира не закончились. Из термодинамики и законов электромагнетизма следовало, что максимальная интенсивность излучения черного тела должна приходиться на коротковолновую область спектра. Эксперимент дал прямо противоположный результат: в этой области наблюдался минимум излучения. Столь резкое расхождение теории с экспериментом получило название «ультрафиолетовой катастрофы».
Однако все эти неудачи теории мало повлияли на веру большинства ученых во всесилие механической картины мира.
Лорд Кельвин (У. Томсон), встречая новый XX век, произнес тост за успехи теоретической физики, на ясном небосводе которой осталось лишь два облачка — неудача опыта Майкельсона — Морли и «ультрафиолетовая катастрофа».
Произнося эти слова, сэр Уильям показал себя не только неисправимым оптимистом, но и провидцем: из первого упомянутого им «облачка» очень скоро родилась теория относительности, а из второго — квантовая механика.
В Кванты и относительность_____________________
Сначала была решена проблема «ультрафиолетовой катастрофы». И привело это к радикальному пересмотру фундаментальных понятий материи и поля. Первый шаг в этом направлении в 1900 г. сделал Макс Планк, выдвинувший гипотезу о квантах электромагнитного излучения. Согласно этой гипотезе, излучение испускается в виде отдельных порций энергии (квантов), величина которых пропорциональна частоте излучения:
Е= hv,
где h — фундаментальная постоянная, имеющая размерность действия (эрг ■ с) и впоследствии названная планковс-кой. Используя эту гипотезу, Планк получил выражение для распределения энергии в спектре излучения черного тела, совпадающее с экспериментом.
Следующий шаг в 1905 г. сделал Альберт Эйнштейн, который показал, что свет не только испускается, но и поглощается в форме квантов энергии. После этого такие квантованные порции электромагнитного излучения стали называть фотонами. Стало ясно, что электромагнитное излучение обладает парадоксальными свойствами: в некоторых опытах оно проявляет свои волновые свойства, в других оно напоминает поток корпускул, фотонов.
А вскоре де Бройль выдвинул гипотезу, что этот дуализм корпускулярных и волновых свойств присущ не только свету, но и веществу, элементарным частицам. Через несколько лет К. Дэвидсон исследовал рассеяние пучка электронов на монокристаллической мишени и показал, что этот процесс идет в точном соответствии с формулой де Бройля, определяющей волновые свойства электронов.
Становилось все более ясно, что физические свойства элементарных частиц — наименьших порций материи — мало напоминают то, что можно сказать о них на основании механистической картины мироздания. В 1927 г. Вернер Гейзенберг показал, что описание поведения элементарных частиц с помощью классических понятий координат, импульса и энергии лишь приблизительно соответствует их реальным свойствам. Соответствующее ограничение получило название соотношений неопределенности Гейзенберга:
Лр-Лх> —, (4)
2тг
AE-At> — , (5)
2тг
Здесь х— координата частицы, p = mV— ее импульс, Е — энергия, t — момент времени.
Смысл формул (4) и (5) состоит в том, что нельзя одновременно точно определить значения координаты и импульса частицы, а также энергии для данного момента времени.
В классической механике поведение материальной частицы описывается основным законом динамики (второй закон Ньютона). Заметим, что Ньютон сформулировал этот закон для материальной точки, которая имеет массу, но не имеет размера. Как следует из принципа дуализма волна-частица и соотношений неопределенности, для описания поведения элементарных частиц этот закон неприменим. Выход из этого положения нашел Эрвин Шредингер, который воспользовался идеей де Бройля, сопоставив движение микрочастицы с комплексной функцией координат и времени, которую он назвал волновой и обозначил буквой Ч*. Решение волнового уравнения Шредингера для функции Ч* характеризует состояние микрочастицы.
Уравнение Шредингера является основным уравнением квантовой механики, физический смысл волновой функции Ч* указал М. Борн. Квадрат модуля Ч* определяет вероятность того, что микрочастица будет обнаружена в пределах некоторого объема. Предсказания квантовой механики, таким образом, в отличие от классики носят вероятностно-статистический характер.
Переход к квантово-механической картине мира позволил снять противоречия, возникшие в связи с «ультрафиолетовой катастрофой». Чтобы сделать понятной неудачу опыта Майкельсона-Морли по поиску эфира, потребовалось описать картину мира на языке теории относительности.
В 1905 г. А. Эйнштейн опубликовал работу «К электродинамике движущихся тел», в которой заложил основы специальной теории относительности. Предложенный им способ решения проблемы состоял в том, чтобы превратить ее в принцип. В основу своей теории он положил два постулата: 1. Скорость света в вакууме одинакова во всех системах координат, движущихся равномерно и прямолинейно друг относительно друга. 2. Во всех таких системах координат одинаковы все законы природы (принцип относительности).
Из этих постулатов вытекали следствия, ведущие к радикальному пересмотру классической картины мира. Во-первых, оказалось, что не существует ни абсолютного времени, ни абсолютного пространства. Ход времени зависит от системы координат. Во-вторых, стало ясно, что законы природы инвариантны относительно преобразований Лоренца (2)-(3). Отсюда, между прочим, следовал знаменитый «парадокс близнецов».
В-третьих, оказалось, что с увеличением скорости тела кинетическая энергия как бы увеличивает его сопротивление движению, а масса тела при этом возрастает. Отсюда в свою очередь следовало установленное Эйнштейном соотношение эквивалентности массы и энергии:
Е = тс2 (6)
где с — скорость света. Стало ясно, что масса и энергия по существу сходны, это только разные выражения одного и того же свойства реальности. Формулу (6) можно рассматривать как обобщенный закон сохранения энергии. Принято считать, что именно благодаря дефекту массы при реакции превращения протонов в ядра гелия в соответствии с формулой (6) в недрах звезд выделяется достаточное количество энергии, чтобы поддерживать их существование в течение миллиардов лет.
Четвертое следствие получил Г. Минковский. Он показал, что в рамках модели мира, соответствующей теории относительности, пространство и время — это единый четырехмерный феномен, а не раздельные автономные сущности.
Осталось решить проблему гравитации. Эту задачу в 1916 г. решил Эйнштейн, создав общую теорию относительности (ОТО). Если для формулирования законов классической механики Ньютону потребовался аппарат дифференциального и интегрального исчисления, то в основу ОТО была положена неевклидова геометрия Римана и тензорный анализ. Из ОТО следовало, что гравитация — это искривление пространства вблизи массивных тел.
Картина мира, соответствующая ОТО, содержит всего две автономные реальности — вещество и поле. Законы тяготения — это структурные законы, описывающие гравитационное поле между материальными объектами. Между материей и полем в ОТО нет качественного различия: вещество находится там, где концентрация поля максимальна, поле — там, где она мала. Эйнштейн полагал, что в перспективе всю теорию удастся свести к единственной реальности — полю.
Вселенная, описываемая ОТО, была стационарной. В 1922 г. Л.А. Фридман, анализируя уравнения ОТО, показал, что теория содержит и нестационарные решения: Вселенная может расширяться. Впоследствии Эйнштейн признался, что не заметив этого решения, он совершил самую большую ошибку в своей жизни.
В 1929 г. Э. Хаббл, наблюдая красное смещение в спектрах излучения да\еких галактик, доказал, что Вселенная расширяется на самом деле. Зная скорость, с которой разбегаются галактики, можно было рассчитать, когда начался этот процесс. Согласно современным оценкам, это произошло 13,7 миллиардов лет назад. Событие, которое привело к возникновению Вселенной, получило название Большой Взрыв.
Интересно оценить масштабы пространства, времени и энергии, которые соответствуют этой стадии эволюции нашего мира. Для этого можно воспользоваться численными значениями фундаментальных констант— постоянной Планка h = 6,62-10""27 эрг-с, скоростью света с = 3-101° см/с и гравитационной постоянной
с = 6,67.10-м^^- (7)
2
и рассчитать соответствующую величину этих масштабов:
10~33с, 10"43см, 1019 ГэВ.
Эти величины длины, времени и энергии получили название планковских масштабов. Их смысл состоит в том, что они определяют ту границу, до которой применима современная физическая теория. На меньших масштабах перестают работать причинно-следственные связи и ничего нельзя сказать ни о структуре пространства, ни о поведении времени.
£3 Вакуум, микрочастицы и Всвдвнная ____
Из ОТО следует, что наш мир произошел вследствие Большого Взрыва, причем произошел из вакуума. Не противоречит ли это утверждение закону сохранения массы-энергии (6)? Полная масса замкнутой фридмановской Вселенной, а значит, и ее энергия равна нулю. Это объясняется тем, что положительная энергия (масса) Вселенной компенсируется отрицательной энергией гравитационного взаимодействия всех ее частей. Энергия вакуума тоже равна нулю, поэтому рождение из него Вселенной закону сохранения энергии не противоречит.
Однако описать этот процесс с помощью ОТО невозможно, т. к. она не учитывает квантовых эффектов, которые при планковских масштабах должны играть главную роль. Для описания свойств мира на этапе его рождения из вакуума требуется теория квантовой гравитации, которая находится пока на стадии формирования.
Большинство физиков полагает, что в наибольшей степени для моделирования этих вопросов подходит теория суперструн, самый значительный вклад в развитие которой внес Э. Виттен. Всем известно, что такое обычная струна, способная колебаться с разными частотами. Суперструна — это топологическое обобщение этого простого образа, объединяющее бесконечное число полей. Эта теория дает ответ на вопрос, откуда и каким образом возникают фундаментальные взаимодействия — гравитационные, электромагнитные и ядерные — сильные и слабые. Их источником является многомерная топология. Согласно теории, при очень больших энергиях все разновидности взаимодействий объединяются в универсальный тип — Супергравитацию. Развитие этих представлений может в дальнейшем значительно изменить современные взгляды на структуру мира.
Существуют ли прямые экспериментальные подтверждения феномена Большого Взрыва, помимо численных оценок, следующих из модели Фридмана и закона Хаббла? В 1965 г. А. Пензиас и Р. Вильсон открыли реликтовое излучение с температурой 3,5 °К, равномерно поступающее из далеких глубин Вселенной. А согласно теории Г. Гамова, температура Вселенной, которая на стадии Большого Взрыва была очень высока, в результате последующего расширения должна была обусловить возникновение к настоящему времени холодного фонового излучения с температурой около 5 °К. После этого открытия теория Большого Взрыва стала почти общепризнанной.
Как развивалась история Вселенной на самых ранних стадиях рождения нашего мира, когда его размеры были много меньше протона? На этот вопрос отвечает весьма экзотическая теория инфляции, или раздувания, предложенная А. Гутом и А.Д. Линде. Согласно этой теории, за время порядка Ю-33с Вселенная раздувается до размеров, близких к современным, а микронеоднородности, порожденные квантовыми флуктуациями (см. формулу 5), могли послужить гравитационными зародышами, из которых позже выросли звезды и галактики. Благодаря этой теории, делается более понятным и вопрос, откуда взялась энергия, необходимая на создание материи. Ее источником послужила огромная гравитационная энергия молодой Вселенной. Вот как описывает этот процесс один из авторитетных специалистов по космологии С. Хокинг: «Вселенная взяла в долг огромное количество отрицательной гравитационной энергии, которая точно уравновесила положительную энергию материи. Во время инфляции Вселенная брала огромные долги у гравитационной энергии, чтобы финансировать создание новой материи. В результате восторжествовала кейнси-анская экономика: получилась сильная экспансивная Вселенная, полная материальных объектов. А долг гравитационной энергии не будет погашен до конца Вселенной»,
Ничто, Пустота, из которой родились Вселенная, — это не тот вакуум, который в 1644 г. был открыт учениками Галилея Э. Торричелли и В. Вивиани. Это был совсем другой пласт реальности — физический, или квантовый, вакуум, открытый в 1928 г. ПА. М. Дираком. Ему удалось обобщить уравнения квантовой механики на случай скоростей, близких к скорости света. Из его теории следовало, что электрон, как и все остальные элементарные частицы, может обладать не только положительной, но также и отрицательной энергией. Понять физический смысл этого предсказания теории было непросто. Чтобы разобраться в этом вопросе, Дирак воспользовался тем обстоятельством, что помимо массы и заряда, электрон обладает и третьей столь же фундаментальной характеристикой — спином. Спин, что по-английски означает «кручение», «волчок» — это квантовое число, равное собственному моменту количества движения частицы. Для электрона
спин может иметь только одно из двух значений 5 = ± —.
2
Для подобных частиц с полуцелым спином известен принцип запрета, сформулированный В. Паули: в квантовой системе на одном энергетическом уровне могут находиться лишь две частицы с противоположно направленными спинами. Дирак воспользовался этим правилом и предположил, что в области отрицательной энергии заняты все уровни, а потому находящиеся на них электроны представляют собой квантовый вакуум. Этот феномен получил название «вакуумного моря» Дирака. Однако если на это «море» направить мощный импульс гамма-излучения, то получивший его электрон приобретет положительную энергию и перейдет в реальный мир. В «море» остается «дырка», во всем похожая на электрон, только заряд у нее будет положительным — это следствие закона сохранения заряда.
В 1932 г. К. Андерсон, исследуя космические лучи, открыл эту «дырку» и назвал ее позитроном. Андерсон получил за свое открытие Нобелевскую премию, а Дирак — подтверждение своей теории о квантовом вакууме.
Рассмотрим энергетические свойства квантового вакуума. Из соотношения неопределенности (5) и закона сохранения массы-энергии (6) можно рассчитать промежуток времени, соответствующий массе электрона: At = 10~ 21 с. Смысл этих расчетов с точки зрения классической механики кажется безумным: в течение столь малых промежутков времени энергия вакуума испытывает достаточно большие колебания, чтобы за это время из него рождались электроны —- и все прочие элементарные частицы.
Такие частицы назвали виртуальными. Индивидуально они никак не проявляют себя, но как системный ансамбль вполне заметно влияют на различие свойства материи (магнитный момент электрона, спектральные характеристики атомов и др.). Таким образом, этот вакуумный виртуальный «туман» — совершенно реальный феномен.
Флуктуации энергии квантового вакуума, определенные формулами (5) и (6) имеют бесконечно широкий диапазон частот. Если взять интеграл по всем частотам, то получим бесконечно большую величину энергии. Не находя этому факту объяснения, теоретики предложили принимать ее за нулевой уровень энергии квантового вакуума.
Поэтому есть основания думать, что именно сложные структуры квантового вакуума — та первооснова, которая определяет фундаментальные свойства нашего мира в целом. Используя эту идею, Дж. Уилер оценил минимальную величину флуктуации энергии квантового вакуума. Чтобы провести этот несложный расчет, он воспользовался численными значениями планковских масштабов (7) — и получил умопомрачительную величину:
Е = 1095г/см3= 10и6эрг/см3- (8)
Эти экстремальные оценки позволили Уилеру утверждать, что окружающий нас мир вещества, заполняющего Вселенную во всех его формах, буквально погружен в океан вакуума, насыщенный энергией. Все события, которые мы наблюдаем в нашем материальном мире, — не более, чем легкая рябь на поверхности этого океана.
| Первая научная картина мира была построена Исааком Ньютоном. Несмотря на внутреннюю парадоксальность, она оказалась удивительно плодотворной, на долгие годы предопределив самодвижение научного познания мира. В этой удивительной Вселенной не было места случайностям, все события были строго предопределены жестким законом причинности. А у времени было еще одно странное свойство: из уравнений классической механики следовало, что во Вселенной не изменится ничего, если оно вдруг начнет течь в противоположном направлении. Все было бы хорошо, если бы не одна особенность реального мира — его склонность к хаотическим состояниям. Хаос — это enfante terrible классической теории. С точки зрения классики — это нонсенс, то, чего быть не может. Открытия термодинамики заставили посмотреть на проблему по-иному: был сделан вывод, |
1 Нелинейная Вселенная что хаос, состояние «тепловой смерти» — это неизбежное конечное состояние мира.
Стало ясно, что не найдя научного подхода к изучению явлений хаоса, мы заведем научное познание мира в тупик. Существовал простой способ преодоления этих трудностей: следовало превратить проблему в принцип. Хаос — это свободная игра факторов, каждый из которых, взятый сам по себе, может показаться второстепенным, незначительным. В уравнениях математической физики такие факторы учитываются в форме нелинейных членов, т. е. таких, которые имеют степень, отличную от первой. А потому теорией хаоса должна была стать нелинейная наука.
Классическая картина мира основана на принципе детерминизма, на отрицании роли случайностей. Законы природы, сформулированные в рамках классики, выражают определенность. Реальная Вселенная мало похожа на этот образ. Для нее характерны стоха-стичность, нелинейность, неопределенность, необратимость. Понятие «стрелы времени» утрачивает для нее прежний ясный смысл.
В нелинейной Вселенной законы природы выражают не определенность, а возможность и вероятность. Случайности в этой Вселенной играют фундаментальную роль, а ее наиболее характерным свойством являются процессы самоорганизации, в которых и сам хаос играет конструктивную роль.
Формирование научного аппарата нелинейной картины мира происходило по нескольким направлениям. В математике это теория особенностей (А. Пуанкаре, А.А. Андронов, X. Уитни) и теория катастроф (Р. Том, К. Зиман, В.И.Арнольд). Ключевые термины, введенные в этих теориях, это бифуркация — процесс качественной перестройки и ветвления эволюционных паттернов системы, катастрофы — скачкообразные изменения свойств системы, возникающие на фоне плавного изменения параметров, аттрактор — «притягивающее» состояние, в котором за счет отрицательных обратных связей автоматически подавляются малые возмущения.
В физике, химии и биологии — это работы И.Р. При-гожина и возглавлявшейся им Брюссельской школы по термодинамике необратимых процессов. Итогом их исследований стало возникновение нового научного направления — теории неравновесных процессов. Профессору Штутгартского университета Г. Хакену, много сделавшего для исследования этих процессов, принадлежит удачный термин — синергетика (по-гречески synergos означает согласованный). В России это работы С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, А.А. Самарского.
Рассмотрим базовые принципы нелинейного образа мира. Во-первых, это принцип открытости. Система является открытой, если она обладает источниками и стоками по веществу, энергии и (или) информации. Во-вторых, это принципы нелинейности. Вот пример нелинейных процессов: возьмите лист бумаги и сложите его пополам. Потом еще раз пополам — и так далее 40 раз. Попробуйте угадать, какой толщины получится у вас эта стопка бумаги, не заглядывая на следующую строчку. А проведя нехитрый арифметический подсчет, вы получите поразительный результат— 350 ООО км, расстояние от Земли до Луны!
В-третьих, это когерентность, т. е. самосогласованность сложных процессов. Принцип когерентности используется, например, в лазерах.
Используя эти принципы, перечислим основные отличительные свойства мира, подчиняющегося нелинейным закономерностям.
1. Необратимость эволюционных процессов. Барьер, который препятствует стреле времени обратить свой вектор в противоположную сторону, образуют нелинейные процессы.
2. Бифуркационный характер эволюции. Принципиальная отличительная особенность развития нелинейных систем — чередование периодов относительно монотонного самодвижения в режиме аттракции и зон бифуркации, где система утрачивает устойчивость по отношению к малым возмущениям.
В результате за зоной бифуркации открывается целый спектр альтернативных эволюционных сценариев. Это означает переход от жесткого лап-ласовского принципа детерминизма к бифуркационному вероятностному принципу причинно-следственных связей.
3. Динамизм структуры саморазвивающихся систем. Существует два типа кризисов эволюционирующей системы — структурный и системный. В случае первого после зоны бифуркации она может сохранить устойчивость за счет перестройки своей структуры, во втором случае она переходит на качественно новый уровень.
4. Новое понимание будущего. К зоне бифуркации примыкает спектр альтернативных виртуальных сценариев эволюции. И следовательно, паттерны грядущего существуют уже сегодня, будущее оказывает влияние на текущий процесс — этот вывод полностью противоречит классике. Нелинейная наука ведет к эволюционной синерге-
тической парадигме. Принятие этой парадигмы означает, во-первых, отказ от базовых постулатов традиционной науки:
— от принципов существования абсолютно достоверной истины и абсолютно-достоверного знания;
— от принципа классической причинности;
— от редукционизма;
— от концепции линейности;
— от гипотезы апостериорности, т. е. приобретения знаний исключительно на основе прошлого опыта.
Во-вторых, это принятие синергетических принципов конструирования картины мира:
1. Принцип становления: главная форма бытия — не покой, а движение, становление. Эволюционный процесс имеет два полюса: хаос и порядок, деконструкция.
2. Принцип сложности: возможность обобщения, усложнения структуры системы в процессе эволюции.
3. Принцип виртуальности будущего: наличие спектра альтернативных паттернов в постбифуркационном пространстве-времени.
4. Принцип подчинения: минимальное количество ключевых параметров, регулирующих процесс происхождения бифуркации.
5. Фундаментальная роль случайностей в зоне бифуркации.
6. Принцип фрактальности: главное в становлении не элементы, а целостная структура.
7. Принцип темпоральности: суперпозиция различных темпоритмов элементов системы.
8. Принцип дополнительности: возможность моделирования эволюции системы с помощью нескольких параллельных теоретических подходов.
В свое время классическая картина мира казалась удобной для развития гуманитарных научных дисциплин. Адам Смит и Давид Риккардо, создавая политическую экономию, ввели понятие «невидимой руки рынка», принцип которой им подсказали идеи Ньютона о гравитации. Томас Гоббс, разрабатывая теорию государства, вдохновлялся теорией атомного строения материи.
Методы нелинейной науки, зародившиеся в сфере современного естественно-научного знания, оказались весьма перспективными при исследовании проблем социально-культурной динамики. Биологические и социальные констелляции относятся к классу самоорганизующихся систем, а потому моделирование методами синергетики их структурных и эволюционных характеристик позволило получить неплохие результаты, интересные в научном и практическом отношениях.
Современный глобальный кризис в значительной мере обусловлен отставанием научной методологии прогнозирования от практических потребностей. Во многом это объясняется тем, что до сих пор не преодолено наследие классической методологии, а принципы нелинейности мышления еще не получили адекватного применения в области гуманитарного научного знания.
Глава 2
ШИЛОСОШИЯ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА
1 Философия механистической картины мира
Научной философией Ньютона являлась экспериментальная философия. В ее основу были положены следующие правила философствования:
1. Не должно приписывать природных причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений.
2. Следует, насколько возможно, приписывать одним и тем же следствиям одни и те же причины.
3. Основой научных доказательств является эксперимент, причем непосредственный, а не мысленный, как это предлагал Декарт.
Принципы построения «Начал», где изложена механистическая картина мира, Ньютон заимствовал у Евклида: сначала формулируются аксиомы, или законы, затем из них выводятся следствия, которые можно проверить на опыте. Декарт развивал гипотетическую физику, в основе которой лежали умозрительные предположения, не следующие непосредственно из опыта. Физика принципов Ньютона основана на введении аксиом, которые могут не иметь логического обоснования, но истинность которых доказывается опытом.
Символом метафизики Ньютона является сформулированный им основной закон динамики:
~F = ma (8)
где F — сила, действующая на тело с массой та, а — ускорение, которое она сообщает этому телу. В этой формуле введены три метафизические категории: во-первых, масса как мера инертности тел, во-вторых, сила — фактор, который изменяет состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения, и ускорение —-характеристика свойств пространства и времени.
Эти свойства, согласно Ньютону, парадоксальны: речь идет об абсолютно пустом пространстве и абсолютном времени. Оба метафизических понятия всегда вызывали большие споры. Сам Ньютон вкладывал в них теологический смысл. Бог, —писал он, — это «бестелесное существо, живое, разумное, всемогущее, которое в бесконечном пространстве, как бы в своем чувствилище, видит все вещи вблизи, прозревает их насквозь и понимает их благодаря непосредственной близости к ним». Ко времени Лапласа эти теологические рассуждения Ньютона были прочно позабыты.
Введенная Ньютоном в законе всемирного тяготения сила гравитации также явилась метафизической категорией: речь шла о мгновенном взаимодействии тел, передаваемом на любые расстояния, причем без каких-либо посредников. Это был загадочный принцип дальнодействия. Декарт пытался снять проблему, заполнив пространство эфирными вихрями. Ньютон опроверг эту гипотезу как необоснованную: «причину свойств силы тяготения я до сих пор не смог вывести из явлений. Гипотез же я не измышляю».
Позднее стало ясно, что для гравитации и других сил можно ввести понятие потенциала, определенного в каждой точке пространства. А это уже понятие поля, которое и можно рассматривать в качестве переносчика взаимодействия. Ключевыми метафизическими категориями в механистической картине мироздания были понятия массы и инерции. Загадкой, не имевшей никакого объяснения, оставалось равенство гравитационной и инертной масс, которое с высокой точностью было доказано в конце XVIII в. в опытах Г. Кавендиша. Что касается инерции, то Ньютон мог дать о ее природе всего лишь тавтологический комментарий: «врожденная сила материи есть присущая ей способность сопротивления, по которой всякое отдельно взятое тело, поскольку оно предоставлено самому себе, удерживает свое состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения».
В этих достаточно неясных рассуждениях скрывалась еще одна метафизическая тонкость: по существу речь шла о состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения относительно абсолютного пространства, причем в абсолютном времени. Существовал только один способ определить систему координат, связанную с абсолютным пространством, — связать ее со сферой неподвижных звезд. Во времена Ньютона это могло казаться приемлемым, но для нас лишено смысла. Пространство и время в классической картине мира — абсолютно самодостаточные категории, существующие безотносительно чего-либо и никак не зависящие от присутствия в них материи.
Абсолютно пустое пространство механистической картины мира обладает свойствами однородности и изотропности, откуда следуют законы симметрии: изменение координат или их поворот не влияют на законы механики. В 1918 г. Э. Нетер показала, что отсюда следуют механические законы сохранения импульса mv и момента импульса mv2. Что касается закона сохранения кинетической энергии mv2/2, то он является следствием равномерности хода часов абсолютного времени.
Попытку объяснить свойство инерции предпринял Э. Мах, связав его с влиянием далеких звезд. Но это было объяснение ad hoc: речь шла о мгновенном воздействии на межзвездных расстояниях.
При всей своей загадочности инерция имела совершенно ясную количественную меру — массу. Со времен Ньютона ее принято рассматривать как основную характеристику материи. Напомним, что, согласно Аристотелю, материя не поддается количественному описанию, т. к. представляет собой изменчивую и текучую субстанцию, а по Декарту материя — это протяженный континуум, заполняющий все пространство и доступный математическому описанию. Существовала и еще одна точка зрения на сущность материи, которую отстаивал противник Декарта и сторонник материалистического сенсуализма П. Гассенди: материя состоит из атомов, обладающих свойствами неделимости, неизменности, тяжести и разделенных бестелесной пустотой. Близкую позицию занимал и Хр. Гюйгенс, который утверждал, что материя, состоящая из атомов, и пространство разделены, а действия на расстоянии быть не может.
физическая модель мироздания, построенная в рамках механистического мировоззрения, явилась плодом свободного творения человеческого разума. Это была превосходная материалистическая модель, позволяющая решать большое количество практических задач, включая освоение космического пространства, и в наше время.
| Философия квантовой теории____________________
Квантовая механика предсказывает не события, а их вероятности. Эйнштейн заметил по этому поводу, что он не верит, будто Бог играет в кости. Смысл кван-товомеханических предсказаний многим представлялся смутным. Р. Фейнман заявил в своей Нобелевской лекции: «Мне кажется, я смело могу заявить, что квантовой механики никто не понимает».
Рассмотрим основные варианты интерпретации смысла квантовомеханических расчетов. Наиболее распространенным является подход, предложенный Ниль-сом Бором и Максом Борном и получивший название Копенгагенской интерпретации. Разъясняя смысл этого подхода, Борн писал: «природа не может быть описана с помощью частиц или волн в отдельности, а только с помощью более сложной математической теории. Этой теорией является квантовая механика, которая заменяет собой обе эти модели и только с определенными ограничениями представляет ту или иную из них».
В мире квантовых явлений мы имеем дело с закономерностями, не поддающимися детерминистическому анализу. Существенно новой чертой исследования этих явлений оказывается фундаментальное различие между макроскопическим измерительным прибором и микроскопическими изучаемыми объектами. Работу приборов приходится описывать на языке классической физики, не вводя кванта действия. В силу этих причин, если в классике взаимодействием между прибором и объектом можно пренебречь, то в квантовой физике оно составляет неотъемлемую часть самого явления. Эта осо- G19 бенность приводит к тому, что повторение одного и того же опыта дает, вообще говоря, разные результаты, которые, следовательно, могут выражаться в форме вероятностных (статистических) закономерностей.
Обобщая этот отказ от классического идеала детерминизма, Бор сформулировал его в виде принципа дополнительности. Количественное выражение этот принцип находит, по его словам, в форме соотношений неопределенности Гейзенберга (4), (5), которые фиксируют границы применимости к квантовым объектам кинематических и динамических переменных, заимствованных из классической физики. Развивая свои мысли о принципе дополнительности, Бор отметил, что он может быть применен также и при анализе процессов социокультурой динамики.
Второй подход к интерпретации квантовой механики называют неоклассическим. Сторонники этого подхода (Д. Бом и др.) полагают, что классический принцип причинности можно сохранить, если ввести в теорию некие скрытые неизвестные пока параметры. Однако этот подход непродуктивен, т. к. никому из его защитников не удалось раскрыть природу этих скрытых параметров.
Статистическую интерпретацию отстаивал Д.И. Бло-хинцев, который обратил внимание на тот факт, что объектом применения квантовой механики по существу являются не отдельные частицы, а квантовый ансамбль. А поэтому поведение микрочастиц определяется совокупностью статистических закономерностей.
В 1957 г. X. Эверетт предложил наиболее парадоксальную интерпретацию, которая получила название многомировой. Его идея вызвала крайне противоречивую реакцию в научном сообществе, многие ее решительно отвергли как абсурдную, но некоторые ее приняли, поскольку не увидели конкурентоспособных альтернатив.
Известен квантово-механический парадокс, связанный с наблюдением интерференционной картины, возникающей при происхождении пучка электронов или светового луча (т. е. пучка фотонов) через пару узких щелей. Парадокс состоит в том, что интерференционная картина возникает даже в том случае, когда на щель падает один электрон или один фотон. С точки зрения стандартной квантовой теории, это должно означать, что фотон расщепляется на две части, одна из которых проходит сквозь одну щель, а другая через вторую, после чего обе части интерферируют на экране. Этого однако не может быть, потому, что фотон — это минимальная порция, квант электомагнитного излучения (см. формулу 3).
Чтобы снять этот парадокс, Эверетт предложил гипотезу, согласно которой, кроме реальной Вселенной, в которой мы живем, параллельно существует множество ее двойников — «теневых» Вселенных. Эти двойники, в которых обитают и бесчисленные дублеры уважаемых читателей, никак не проявляют себя. За одним исключением: при прохождении «нашего» электрона сквозь «наши» щели он взаимодействует со своим «теневым» партнером, снимая тем самым парадокс, от которого у физиков болит голова. То же самое происходит при всех других квантовых событиях.
Природа реальности, гласит гипотеза Эверетта, состоит в том, что помимо нашего мира — параллельно с ним существует множество его двойников, причем число этих двойников увеличивается с каждой наносекундой. Д. Дойч, посвятивший обоснованию этих идей книгу «Природа реальности», предложил назвать этот непрерывно ветвящийся мир Мультиверсом (Multiverse от английского слова Universe, Вселенная). Смысл этой гипотезы он комментирует следующим образом: кто такие «мы ?», пока я пишу эти строки, множество «теневых» Дойчей делают то же самое и не одна копия этих Дойчей не занимает в Мультиверсе привилегированного положения. Между собой Дойчи — двойники никак не взаимодействуют, а потому нам никогда не узнать, разделяют ли они взгляды «нашего» Дойча на проблему реальности. Именно этот более чем странный мир описывает, по его словам, квантовая механика.
«Это не бред сивой кобылы, — говорит по этому поводу патриарх отечественной физики академик В.Л. Гинзбург. — Но я лично в это не верю, хотя есть серьезные ученые, которые верят».
Значительно более простую и понятную интерпретацию парадоксов квантовой механики можно предложить, используя методологию торсионной физики. Если фотон — квант электромагнитного поля — представляет собой возмущенную под действием электрического заряда «нить» поляризованных фотонов, то при взаимодействии этой «нити» с материальным объектом — парой щелей — происходит ее расщепление, что и объясняет возникающее в итоге явление интерференции. Точно таким же образом можно объяснить и другой парадоксальный эффект — квантовую телепорта-цию, которая была предсказана Эйнштейном в его совместной работе с Розеном и Подольским и недавно осуществлена де Мартини (Рим) и Цайлингером (Вена).
Записав основное уравнение квантовой механики — волновое уравнение, — Шредингер не смог разъяснить непосредственный физический смысл волновой функции. Ответ на этот вопрос дает торсионная физика. Из теории физического вакуума Г.И. Шипова следует, что волновая функция определяется через реальное торсионное поле — поле кручения физического пространства. Источниками торсионного поля являются элементарные частицы, обладающие ненулевым спином, макроскопические тела — измерительные приборы, а также операторы, проводящие эксперимент с этой частицей. Однако, торсионные поля приборов и операторов при проведении эксперимента никак не контролируются, а потому вносят в его результат элемент случайности. Результат опыта с квантовым объектом зависит, таким образом, от взаимодействия торсионных полей, созданных тремя различными источниками, два из которых подчиняются законам случая. По этой причине результаты опытов носят вероятностно-статистический характер. Торсионная интерпретация квантовой механики значительно более наглядна, чем копенгагенская или неоклассическая, а тем более, чем «многомировая».
9 Философия теории относительности
Последние 40 лет своей жизни Эйнштейн потратил на то, чтобы понять мир материи как форму проявления пустого искривленного пространства-времени. Один из ведущих специалистов по космологии Дж. Уилер сформулировал эту мечту Эйнштейна в виде
[лава 2. Филоеопм научной картины мира
рабочей гипотезы: «материя есть возмущенное состояние динамической геометрии».
Основная категория относительности — это метрика, т. е. число, которое сопоставляется с двумя точками (событиями). Суть общей теории относительности и всей геометрической картины мира состоит в обобщении теории Евклида по двум направлениям — во-первых, по увеличению размерности, а во-вторых, по переходу к искривленным пространствам.
В 1916 г. на базе уравнений ОТО К. Шварцильд рассчитал метрику пространства —времени вокруг сферически симметричного материального объекта.
Этот расчет послужил основой последующего развития теории черных дыр — одного из наиболее интересных объектов современной космологии. Из-под гравитационного радиуса этих удивительных объектов не может выйти ничто — ни у света, ни у каких-либо других тел не хватит энергии, чтобы преодолеть силу притяжения черной дыры.
В 1921 г. Т. Калуца обобщил уравнения ОТО на случай пятимерной метрики.
Пятая координата оказалась замкнутой на планков-ском масштабе 10~43 см. Главным достижением теории Калуцы оказалась геометризация электромагнитного поля: его пятимерные уравнения содержали уравнения Максвелла.
В связи с увеличением размерности ОТО возникает вопрос, почему реальное пространство нашего мира подчиняется трехмерной геометрии Евклида. В 1919 г. эту проблему исследовал П. Эренфест. Все классические физические поля — гравитационное, кулоновское электрическое, магнитное, производимое магнитным зарядом, — убывают обратно пропорционально квадрату расстояния. В мирах более высокой размерности эти зависимости оказались бы совершенно иными и, как следствие, и атомы и планеты потеряли бы устойчивость.
Философский подход к проблемам топологии пространства развивался М.А. Марковым. Исходный тезис его рассуждений — в сопоставлении двух линий античной философии на проблему делимости материи — линии Демокрита, который был сторонником идеи неделимых атомов, и линии Эмпедокла, по мнению ко-
Раздел VII. Современна» научна» картина мира
торого число первоэлементов бесконечно велико. Марков предложил третью концепцию, альтернативную по его мнению двум классическим.
Концепция Маркова основана на двух принципиально новых идеях. Первая из них состоит в том, что структурные части материи могут строиться из элементов не меньшей, а большей массы: избыточная масса в соответствии с законом сохранения массы —энергии трансформируется в жесткое излучение. Заметим, что эту же идею использовал А.Е. Акимов в фитонной теории квантового вакуума.
Вторая идея — это так называемая «ядерная демократия»: способность элементарных частиц превращаться друг в друга, спонтанно исчезать и вновь возникать из вакуума. Классическая атомная теория не знала ничего подобного.
Используя эти идеи, Марков предложил представить элементарные частицы в виде почти замкнутых автономных вселенных, которые он назвал фридмона-ми. Из-за большого гравитационного дефекта масс полная масса замкнутой вселенной равна нулю. А если она замкнута не полностью, то ее масса может быть сколь угодно малой, например, равной массе элементарной частицы. С точки зрения внешнего наблюдателя эта малая масса будет заключена внутри сферы таких же микроскопических размеров, как и элементарная частица.
«Фридмон с его удивительными свойствами, — пишет академик Марков, — не является порождением поэтической фантазии — без всяких дополнительных гипотез система уравнений Эйнштейна —Максвелла содержит фридмонные решения... Вселенная в целом может оказаться микроскопической частицей. Микроскопическая частица может содержать в себе целую Вселенную».
Глава 3
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА
| Универсальная теория Вселенной
По мнению С. Хокинга, в настоящее время на вопрос о том, может ли существовать единая теория всего реально существующего, следует дать три альтернативных ответа:
1. Полная теория существует и когда-нибудь будет построена.
2. Окончательной теории Вселенной нет, а есть бесконечный набор все более совершенных теорий.
3. Такой теории не существует, имеется граница, за которой нельзя предсказать что-либо определенное. За этими рассуждениями Хокинга скрывается
неявный постулат, который состоит в том, что сам объект теоретизирования — Вселенная — в своих наиболее фундаментальных свойствах остается неизменным. Между тем, если вспомнить основные принципы нелинейной науки и рассматривать Вселенную как большую самоорганизующуюся систему, то можно прийти к выводу, что у нас нет достаточных оснований считать этот постулат истиной в последней инстанции.
Несмотря на эти сомнения, многие теоретики убеждены, что такая теория будет в конце концов создана. «Физика представляет собой единое целое, — пишет по этому поводу Р. Пенроуз, — и правильная квантовая теория гравитации, когда она, наконец, будет построена, должна стать основой нашего досконального понимания законов природы».
Полностью солидарен с ним и С. Хокинг, который утверждает, что «если мы действительно откроем полную теорию..., тогда все мы, философы, ученые и просто обычные люди, сможем принять участие в дискуссии о том, почему так произошло, что существуем мы и существует Вселенная. И если будет найден ответ на такой вопрос, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятным замысел Бога».
Теоретики продолжали упорно работать над этой проблемой. А. Салам и С. Вайнберг создали единую теорию слабых и электромагнитных взаимодействий. На очереди теория Великого объединения, которая будет описывать также и сильные взаимодействия, а о теории суперструн думают как о прообразе еще более общей теории — супергравитации. На этом пути, помимо больших теоретических трудностей, физиков идет еще одна тяжелая проблема — экспериментальная невесомость: предсказания теорий становится все труднее проверить на опыте.
Скорее всего, однако, до триумфа, о котором мечтают теоретики, еще далеко. К тому же есть много фундаментальных вопросов, на которые эта теория, даже если она будет создана, не может дать убедительных ответов.
| Вселенная состоит из вещества — главным образом из протонов, электронов и нейтронов, — и антивещества, т. е. антипротонов и позитронов, имеющих противоположные электрические заряды. Ни теория относительности, ни квантовая механика не дают ответа, почему при происхождении Вселенной из вакуума возникла такая асимметрия. Внести ясность в этот парадокс можно с помощью модели «фитонного моря». Согласно существующим космологическим моделям, когда закончилась самая ранняя инфляционная стадия расширения Вселенной, ее температура была очень высока— 1016 эВ. При |
9 ПроОлема антивещества такой температуре в плазме должны были начаться процессы генерации частиц и античастиц, причем практически в равных количествах. Однако вследствие эффекта аннигиляции они должны были сразу же превращаться в фитонные ансамбли, что сопровождалось испусканием жесткого излучения.
Анализируя протекание этих процессов, А.Д. Сахаров предположил, что скорости рождения частиц и античастиц должны немного различаться, а процессы разбаланса их концентрации должны протекать быстрее, чем их взаимная аннигиляция.
Достаточно, таким образом, предположить, что в силу неких нелинейных эффектов процесс генерации материи шел с небольшим переносом в пользу вещества, и тогда в итоге часть вещества осталась «невостребованной» и составила материальную основу всех ныне существующих объектов во Вселенной, а другая, причем подавляющая часть, вместе со всем антивеществом оказалась «связанной» в форме фитонов.
Что касается жестких гамма-квантов, испущенных при формировании фитонного «моря», то они сохранились к настоящему времени в форме реликтового излучения с температурой 3 °К, открытого А. Пензиасом и Р. Вильсоном. Количество этих реликтовых фотонов в миллиард раз превосходит суммарную численность протонов, из которых состоят все материальные объекты во Вселенной. Этот факт — прямое подтверждение того, что в момент своего рождения концентрации частиц и античастиц различались весьма мало, разница между ними составляла порядка Ю-9 в пользу вещества. Именно из этих «избыточных» протонов и электронов и развились позднее галактики, звезды и планеты, включая те, на которых затем зародилась жизнь.
■ Будущее Вселенной
Стандартная фридмановская модель предсказывает два варианта конца современной Вселенной — либо «тепловая смерть» в результате непрерывного расширения, либо последующее сжатие (Big Crush — Большой Хлопок). Согласно теории, первому сценарию соответствует средняя плотность материи меньше, чем 10_29r/CM3i второму— больше этой величины. По данным астрофизики, современные оценки плотности как раз дают 10~29г/см3, поэтому выбор между обоими эволюционными сценариями, оба из которых «хуже», остается как будто неопределенным.
Однако наблюдения над аномалиями в движении звезд и галактик привели астрономов к выводу, что, кроме видимого вещества, во Вселенной должна существовать недоступная прямым наблюдениям темная материя, содержание которой намного превосходит количество вещества. Вопрос о природе этой материи неясен. Возможно, это холодный межзвездный газ, белые карлики, нейтрино или другие странные частицы.
Отличный от стандартных прогнозов взгляд на будущее Вселенной можно получить, используя идеи нелинейной науки. Факт рождения Вселенной из вакуума означает, что ее нельзя рассматривать как замкнутую систему и, следовательно, ее эволюция подчиняется закономерностям теории самоорганизующихся систем. И следовательно теория Всего, о которой мечтают физики, должна включать динамическую неустойчивость. А это означает, по мнению И.Р. Пригожина, что по мере того, как Вселенная эволюционирует, обстоятельства создают новые закономерности.
Одно из таких нестандартных обстоятельств — возможность рождения дочерних вселенных. Исходный постулат этой гипотезы состоит в том, что существует пространственно-временная пена — квантовые флуктации на уровне планковских масштабов. Существование этой пены можно проверить экспериментально, наблюдая реакцию на нее мощных гамма-квантов с энергией порядка 1016ГэВ, излучаемых ядрами галактик или квазарами. Если зоны такой пены существуют, то становится возможным спонтанное рождение обособленных пространственно-временных областей, гравитационно отделенных от Вселенной-матери. Наблюдать их можно по мощным вспышкам излучения, идущего «ниоткуда».
Возможен индукционный механизм возникновения таких областей вследствие столкновения двух частиц сверхвысокой энергии (файербол).
д Днтропный принцип_________________________
Антропный принцип — это одна из наиболее острых и спорных проблем современного миропредставления. Область его применения — роль и место разумной жизни во Вселенной, а более конкретно — человека.
Существуют три исторические парадигмы, дающие ответ на этот вопрос:
1. Вселенная антропоморфна, она — целостный организм, а человеком управляют высшие космические силы (Аристотель, Птолемей).
2. Вселенная — механизм, созданный Богом, который сотворил человека по своему образу и подобию (Декарт, Ньютон).
3. Стандартная космологическая модель, в рамках которой возникновение разумной жизни — проявление законов случая.
Анализ этих проблем привел к «антикоперникан-скому» перевороту в космической философии. Оказалось, что во Вселенной существует очень точная подгонка фундаментальных физических констант, и даже малые отклонения от стандартных значений привели бы к такому изменению свойств Вселенной, что возникновение в ней человека стало бы невозможно. Эту проблему исследовал Г.М. Идельс, A.M. Зельманов, Б. Картер, Ф. Хойа, Н.Л. Розенталь, Дж. Уилер, Ф. Тип-лер, С. Хокинг и другие ученые. Эта удивительная приспособленность Вселенной к существованию в ней человека получила название антропного принципа (АП).
В наиболее парадоксальной форме так называемого сильного АП эту идею сформулировал в 1973 г. Б. Картер, использовавший парафраз известного афоризма Декарта: «Cogito, ergo mundus talis est» («Я мыслю, следовательно, Вселенная такова, какова она есть»). Есть и другие, не менее парадоксальные формулировки АП. С. Хокинг: «Вселенная такова, какой мы ее наблюдаем, по той причине, что существует человек». Ф. Хойа: «Здравая интерпретация фактов дает возможность предположить, что в физике, а также в химии и биологии экспериментировал "сверхинтел\ект" и что в природе нет слепых сил, заслуживающих внимания». Дж. Уилер: «В некотором странном смысле это является участием Бога в Создании Вселенной».
Ф. Типлер предложил финалистскую версию АП, в основе которой лежит постулат вечности жизни, точнее реализации программы производства информации. Физическая природа носителей информации при этом несущественна, это вовсе не обязательно человек. Цель этого процесса состоит в управлении крупномасштабной структурой Вселенной, а его финал — точка Омега, бесспорный Разум, потенциально владеющий бесконечно большим объемом информации.
На основании своей концепции Типлер утверждает, что Вселенная должна быть закрытой. Она потенциально содержит точку Омега как финал, в котором сливаются все мировые линии событий.
Этот всеохватывающий эволюционизм Типлера — не что иное, как тотальная колонизация Космоса антропоморфным «развертывающимся богом». Сточки зрения синергетики это несомненно модель эволюционного тупика.
Значительно более рационалистическая интерпретация АП принадлежит Н.Л. Розенталю, который представил его как принцип целесообразности. Наши основные физические законы, считает он, подчиняются гармонии, которая обеспечивает существование основных состояний. На конкретных примерах варьирования величиной фундаментальных констант Розенталю удается показать конструктивную роль АП.
Близкую точку зрения разделяют СП. Курдюмов и Б.Н. Князева. Сложное, отмечают они, связано с иерархическим принципом строения и с необходимостью должно рассматриваться в эволюционном аспекте. На этом основании они формулируют эволюционный постулат АП: сложный спектр структур-аттракторов существует лишь для узкого, уникального класса сценариев с нелинейными зависимостями. Недостаток синергетической интерпретации АП состоит в том, что авторы не смогли указать решения задачи морфогенеза, т. е. усложнения, перехода от простых структур к сложным.
р Универсальная история_______________________
И. Пригожину, Э. Янгу и Н.Н. Моисееву принадлежит идея универсального эволюционизма. Структура современной общепризнанной картины мира носит как бы мозаичный характер: она состоит из автономных блоков — физика, космология, биология, геохимия и др., — которые, хотя и связаны между собой, но не выдержаны в духе единой универсальной эволюционной парадигмы.
Смысл принципа универсального эволюционизма состоит в том, чтобы представить все эволюционные процессы, происходящие в мире, начиная с возникновения Вселенной, образования вещества, звезд и галактик и до социокультурной динамики как целостный процесс самоорганизации всего сущего, подчиняющийся общим фундаментальным закономерностям и развивающийся в целостном многомерном онтологическом пространстве.
Концепция универсального эволюционизма пока далека от завершения и существует скорее в виде исследовательской программы. Это, однако, не уменьшает ее онтологического, гносеологического и этического значения. Третий из числа этих аспектов при обсуждении проблемы может вызвать недоумение, однако именно он занимает центральное место во всей концепции.
Дело в том, что из концепции универсального эволюционизма в качестве следствия можно получить принцип коэволюции человеческого социума и среды обитания, включая космическое пространство. Этот принцип — прямой результат применения методов нелинейного мышления. Для поддержания устойчивого, неразрушающегося режима социальной эволюции этот принцип играет фундаментальную роль. Он является прямой антитезой классического принципа механистического миропредставления — «природа не храм, а мастерская, и человек в ней — хозяин»,— следование которому и привело к экологическому кризису.
j Словарь ключевых терминов___________________
Бифуркация — нарушение устойчивости эволюционного режима системы, приводящее к возникновению после точки бифуркации квантового спектра альтернативных виртуальных сценариев эволюции. Бифуркации возникают в условиях нелинейности и открытости как следствие изменения свойств, а не имманентных свойств самой системы. Вследствие потери системной устойчивости в зоне бифуркации фундаментальную роль приобретают случайные факторы. Это обстоятельство имеет важное значение в процессах социокультурной динамики и приводит к новому, нелинейному пониманию соотношения необходимости и свободы воли. В рамках нелинейного мышления свободу следует донимать не как осознанную необходимость, а как возможность выбора среди виртуальных альтернатив, но одновременно и нравственную ответственность за этот выбор.
Большой взрыв — сингулянтность пространства-времени, приведшая к возникновению 13,7 миллиардов лет назад и последующей эволюции нашей Вселенной. Согласно стандартной космологической модели, Вселенная возникла как результат этой сингулярности. Теоретическим обоснованием этой теории явилось решение нестационарных уравнений относительности, полученное в 1922 г. А.А. Фридманом. В пользу этой теории свидетельствует два экспериментальных факта. Во-первых, это открытие разбегания далеких галактик, сделанное в 1929 г. на основании регистрации красного смещения в спектрах их излучений. Во-вторых, это открытие реликтового фонового излучения с температурой 3,5 °К, равномерно заполняющего космос. Это открытие было сделано в 1964 г. А. Пен-зисом и Р. Вильсоном. В 1948 г. Г, Гамов теоретически показал, что если на ранних стадиях после Большого взрыва Вселенная была очень горячей, то впоследствии в процессе ее расширения свободный фотонный газ должен был охладиться примерно до 5 °К, что и наблюдалось на экспериментах.
Согласно современным космологическим теориям, возникновение Вселенной явилось следствием фазового перехода квантового вакуума. Ее первоначальные размеры соответствовали планковским масштабам— 10_33см, 10~43с. А. Гут, С. Хокинг, А.Д. Линде показали, что в промежуток времени от 10~34 до 10~32с Вселенная испытывала стадию сверхбыстрого, или инфляционного, расширения, когда ее размеры увеличились в 1030 раз. В процессе расширения Вселенной началось формирование элементарных частиц, а ко времени порядка 100 миллионов лет звезд и галактик.
Вакуум — в житейском понимании пустота, отсутствие реальных частиц. Но даже в классическом понимании сосуд, из которого откачали воздух, заполнен электромагнитным излучением, поступающим с его стенок. В квантовой механике вводится понятие физического вакуума как основного состояния квантовых полей, обладающих минимальной энергией и нулевыми значениями импульса, углового момента, электрического заряда, спина и др. Физический, или квантовый, вакуум также не является пустотой: он содержит виртуальные частицы, которые рождаются в нем за промежутки времени порядка 10 ~22 с как следствие квантовых флуктаций в соответствии с соотношениями неопределенности Гейзенберга. Хотя индивидуально виртуальные частицы (электроны, протоны и др.) наблюдать нельзя, как ансамбль они оказывают приборно регистрируемое воздействие на свойства реальных частиц.
Вакуум — фундаментальное понятие, т. к. его свойства определяют свойства всех относительных состояний материи. Все, что происходит в нашем мире, обусловлено в конечном счете измерениями геометрических характеристик квантового вакуума. Гносеология— общее учение о познании, его структуре, методах, принципах, закономерностях функционирования и развития.
Квантовая механика— теория, описывающая свойства и законы движения физических объектов, для которых размерность действия (эрг х с) сопоставима с планковским масштабомп.= 6,62х 10~27эргхс. Этому условию удовлетворяют микрочастицы, а потому можно сказать, что квантовая механика — это наука, описывающая свойства микромира.
Квантовая механика включает в себя систему специальных понятий и соответствующий им математический аппарат.
Законы квантовой механики образуют фундамент наук о строении вещества. Методы квантовой механики позволили решить большое количество научных задач: расшифровка атомных спектров, объяснение периодической системы элементов Д. И. Менделеева, строение и свойства атомных ядер, теория фотоэффекта, физики твердого тела и полупроводников, ядерные и термоядерные реакции и др. В области макромасштабов уравнения квантовой механики переходят в уравнения обычной классической механики.
Космология — наука, изучающая Вселенную как единое целое, ее строение и эволюцию.
Термин «космология» образован из греческих kosmos — мир, гармония и logos — учение, слово. Теоретическим базисом космологии является физическая теория, а ее экспериментальные методы основаны на использовании астрономических наблюдений и специальных космических аппаратов.
Первой научной системой мира явилась геоцентрическая система, разработанная К. Птолемеем (II в. н. э.). В XVI в. Н. Коперник проанализировал недостатки этой модели и обосновал необходимость перехода к гелиоцентрической системе. Открытие Коперника стимулировало развитие физической теории. Впервые использовав телескоп для наблюдения небесных явлений, Г. Галилей получил многочисленные экспериментальные свидетельства в пользу гелиоцентрической системы мира. И. Ньютон открыл закон всемирного тяготения и разработал классическую механику, с помощью которой удалось теоретически описать большинство небесных явлений.
В начале 1922 г. А.А. Фридман нашел нестационарные решения общей теории относительности, а в 1929 г. Э. Хаббл открыл эффект красного смещения в спектрах излучения далеких галактик. Из открытий Фридмана и Хаббла следовало, что Вселенная расширяется, причем этот процесс начался 13,7 миллиардов лет назад в процессе так называемого Большого взрыва, когда Вселенная имела микроскопические размеры.
Современная космология опирается на мощную экспериментальную базу: радиоастрономические, инфракрасные, рентгеновские и другие методы наблюдения. При исследовании планет и их спутников, астероидов и комет активно используются специализированные космические зонды, оснащенные богатой измерительной аппаратурой. Разработаны космические аппараты для наблюдений с околоземной орбиты, крупнейшим из которых является телескоп «Хаббл».
Открытия в области космологии для развития физической теории имеют принципиальное значение для совершенствования современного миропредставления.
Натурфилософия — общее учение о природе, законах ее существования и развития, как одной из «сфер» бытия, существенно отличающегося от других его «сфер» — общества, культуры, сознания, человека.
Научная картина мира — совокупность общих представлений науки определенного исторического периода о фундаментальных законах строения и развития объективной реальности.
Нелинейная наука — научное направление, исследующее процессы в открытых нелинейных системах. Нелинейная наука включает в себя комплекс близко родственных смежных научных дисциплин: термодинамику необратимых процессов (И. Пригожий), теорию катастроф (Р. Том, В.И. Арнольд), синергетику, или теорию самоорганизующихся систем (Г. Хакен, СП. Курдюмов). Методы нелинейной науки находят широкое применение не только в естественно-научных исследованиях, но также в сфере гуманитарных научных дисциплин (социо- и фу-туросинергетика, демография, образование и др.). По своему влиянию на культуру и развитие цивилизации в XX в. нелинейная наука занимает третье — в порядке очередности, но не по важности — место вслед за теорией относительности и квантовой механикой.
Нелинейная наука послужила основой существенного уточнения современной общенаучной парадигмы и привела к возникновению нового феномена в рамках системы научного миропредставления ■— нелинейного, или синер-гетического, мышления.
Онтология — философское учение о бытии, его основных видах, подсистемах, «сферах», общих закономерностях их строения, функционирования, динамики и развития.
Самоорганизация — фундаментальное понятие синергетики, означающее упорядочивание, т. е. переход от хаоса к структурированному состоянию, происходящее спонтанно в открытых нелинейных системах. Именно свойства открытости и нелинейности являются причиной этого процесса. Открытость — этосвойство систем, проявляющееся в их способности к обмену веществом, энергией и информацией с окружающей средой, а нелинейность — многовариантность путей эволюции. Математически нелинейность проявляется в наличии в системе уравнений величин в степенях выше первой либо в зависимости коэффициентов от свойств среды.
Процесс, альтернативный самоорганизации — автодезорганизация, или диссипация. Диссипация — это процесс рассеяния энергии, ее превращение в менее организованные формы — в конечном счете в тепло. Эти процессы диструкции могут иметь разную форму: диффузия, вязкость, трение, теплопроводность и т. д. Самоорганизация может вести к переходу системы в устойчивое состояние — аттрактор (attrahere на латыни означает притяжение). Отличительное свойство состояния аттрактора состоит в том, что оно как бы притягивает к себе все прочие траектории эволюции системы, определяемые различными начальными условиями. Если система попадает в конус аттрактора, она неизбежно эволюционирует к этому состоянию, а все прочие промежуточные состояния автоматически диссипируют, затухают.
Теория относительности — наука, основной смысл которой состоит в утверждении: в нашем мире не происходит ничего, кроме кручения пространства и изменения его кривизны. Возникновение теории относительности связано с неудачей обнаружить движение Земли относительно эфира, который, согласно представлениям классической физики, должен был заполнять космическое пространство. Соответствующий эксперимент был в 1887 г. поставлен А. Майкельсоном и Э. Морли и неоднократно повторен впоследствии. Чтобы объяснить этот результат, X. Лоренц выдвинул гипотезу о сокращении мины тел вдоль направления их движения. Но это была всего лишь теория ad hoc. Решение проблемы было найдено в 1905 г. А. Эйнштейном в его работе по специальной теории относительности. В основе этой теории лежат два постулата: 1. Все законы физики имеют один и тот же вид во всех инерциональных системах отсчета. 2. Во всех системах скорость света постоянна. Развивая эту теорию, в 1918 г. Г. Минковский показал, что свойства нашей Вселенной следует описывать вектором в четырехмерном пространстве-времени. В 1916 г. Эйнштейн сделал следующий шаг и опубликовал общую теорию относительности (ОТО) — фактически теорию гравитации. Причиной тяготения, согласно этой теории, является искривление пространства вблизи массивных тел. В качестве математического аппарата в ОТО использован тензорный анализ.
глаВа з. философские нровлемы современной научной картины мира
Из теории относительности следует род важных следствий. Во-первых, закон эквивалентности массы и энергии. Во-вторых, отказ от гипотез о мировом эфире и абсолютных пространстве и времени. В-третьих, эквивалентность гравитационной и инерционной масс.
Теория относительности нашла многочисленные экспериментальные подтверждения и используется в космологии, физике элементарных частиц, ядерной технике и др. физика — наука, изучающая фундаментальные и наиболее общие свойства и законы движения объектов материального мира. Понятия физика и физические законы — основа всего естествознания.
Термин «физика» (от греческого physis — природа) введен в науку Аристотелем. Развитие физики как современной науки началось после обоснования Н. Коперником гелиоцентрической системы мира: физика Аристотеля противоречила этой системе. Принципиальной важности шаг сделан Г. Галилеем, который превратил физику в экспериментальную науку. И. Ньютон ввел в физическую теорию математический аппарат изобретенного им (и независимо от него Г. Лейбницем) дифференциального и интегрального исчисления. Используя синтез экспериментальных и теоретических методов, Ньютон создал классическую механику, которая к началу XIX в. приобрела современную форму.
Целью физики является формулировка общих законов природы и объяснение конкретных явлений. Основные разделы физики: классическая механика, термодинамика и статистическая физика, теория электромагнетизма, теория относительности, квантовая механика. Физика служит научной основой большого числа технических приложений (гидромеханика, теория тепломассообмена, техническая механика, микроэлектроника и др.).
3 Вопросы для оОсуждвния
1. Парадигма античной натурфилософии.
2. Гипотетическая физика Декарта и физика принципов Ньютона.
3. Метафизика в физике Ньютона.
4. Механистическая картина мира.
5. Философские основания и принципы теории относительности.
Раздвл VII. Современная научная картина мира
6. Стандартная космологическая модель.
7. Философские основания и мировоззренческое значение квантовой механики.
8. Философские основания и принципы нелинейной науки и синергетического мышления.
9. Эволюционная парадигма в современной картине мира.
10. Принципы самоорганизации и бифуркационный характер эволюции открытых нелинейных систем.
11. Онтологические и гносеологические проблемы современной научной картины мира.
1 Литература
Владимиров Ю.В. Метафизика. М., 2002. ГейзенбергВ. Физика и философия. Частьицелое. М., 1989. Каменев А.С. Современное естествознание. М., 2007. Концепции современного естествознания / Под ред. С.А. Лебедева. М„ 2007.
Курдюмов СП., Князева Е.Н. Основания синергетики. М.,
2002.
Лебедев С.А. Современная философия науки. М., 2007.
Лесков Л.В. Нелинейная Вселенная. М., 2003.
Линде А. А.. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. М., 1990.
Пенроуз Р. Новый ум короля. М., 2003.
Приюжин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 2000.
Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: наука о взаимодействии. М.; Ижевск, 2003.
Хокинг С. От Большого взрыва до черных дыр. М., 1990.
Шипов Г.И. Теория физического вакуума. М., 1997.
Эйнштейн А., ИнфельдЛ. Эволюция физики. М., 2001.
Laszlo У. The Whispering Pound. A Personal Guide to the Emerging Vision of Science. Rockport MA, 1996.
РАЗДЕЛ VIII.
ФИЛОСОФИЯ, НАУКА, КУЛЬТУРА
1
Как было показано в предыдущих разделах, проблемное поле философии науки в существенной степени зависит от понимания сущности науки, ее общей структуры, а также от содержания науки в его многообразии и исторической изменчивости. Однако, не в меньшей, если не в большей, степени проблемное пространство философии науки зависит от того или иного понимания философии, ее предмета, природы философского знания, характера и механизма взаимосвязи философского и конкретно-научного знания.
Философия, безусловно, является более общей когнитивной структурой по сравнению с частными науками и ее отношение к последним во многом аналогично отношению теоретического и эмпирического знания в рамках самих конкретных наук. Другими словами, философское знание выполняет функции интерпрета-тивной матрицы по отношению к частным наукам и особенно — фундаментальным теориям. Однако, имманентно присущий философии плюрализм неизбежно порождает соответствующий плюрализм философских интерпретаций науки, задает различное видение ее философских проблем и способов их анализа. Среди огромного числа конкретных вариантов философской интерпретации содержания науки, которые имели место в истории их взаимоотношения и наличествуют сегодня, можно выделить, на наш взгляд, четыре основных традиции: трансценденталистскую («метафизическую»), позитивистскую, антиинтеракционистс-кую, диалектическую. Каждая из них в свою очередь представлена различными версиями. Например, в рамках трансценденталистской традиции философии на-
уки можно указать на такие оппозиционизирующие друг другу ее варианты как кантианская, гегелевская или феноменологическая «философии науки». Столь же хорошо известны различия между первым (Конт, Спенсер, Милль), вторым (Мах, Дюгем и др.) и третьим (Шлик, Рассел, Карнап и др.) позитивизмом.
Столь же многообразны варианты антинтеракцио-нистской и диалектической традиций. О сущности и возможностях каждой из них будет сказано ниже. То или иное понимание «философии науки», ее предмета, основного содержания и проблематики существенно зависит от принятого (явно или неявно) решения о взаимоотношении, способах и механизмах взаимосвязи «философии» и «науки». Эти решения имеют своей необходимой предпосылкой то или иное истолкование природы философского и научного знания, те или иные ответы на следующие кардинальные вопросы. Как возможна философия? Как возможна наука? Является ли философское знание априорным или апостериорным, обобщающим или конструирующим, аналитическим или синтетическим? Должна ли философия в своих концептуальных построениях опираться только на содержание науки или на весь тотальный опыт освоения человеком действительности, включающий в себя также различные формы вненаучного знания? Является ли научное знание результатом предварительного накопления значительного числа эмпирических данных и их последующего обобщения, или в науке эмпирическим исследованиям всегда предшествует некоторая теоретическая гипотеза, направляя и интерпретируя их? Существуют ли логические методы открытия научных законов и теорий, а если — нет, то как и за счет чего последние появляются и утверждаются в научном сообществе? Способны ли данные эмпирического опыта доказать истинность какой-либо научной теории или хотя бы сделать ее вероятно истинной? Является ли аргументация от частного к общему, от опыта к теории вообще законной операцией с логической точки зрения (проблема индукции) ? Используются ли философские идеи в процессе выдвижения, обоснования и принятия фундаментальных научных гипотез и теорий и насколько необходимо использование этого когнитивного ресурса для развития науки? Возможна ли философия как наука и какой позитивный смысл возможен у понятия «научная философия»? Что означает постоянное и все увеличивающееся в ходе развития науки множество конкурирующих моделей, теорий, исследовательских программ, относящихся к описанию и объяснению не разных, а одной и той же предметной области? Плюрализм в науке — это закономерное, неизбежное состояние науки или случайное и преходящее? Все сформулированные выше вопросы образуют основное содержание проблемы соотношения философии и науки, взаимосвязи философского и конкретно-научного знания.
Очевидно, что и философия и наука являются органическими элементами более широкой реальности — культуры, понимаемой как совокупность всех способов и результатов взаимодействия человека с окружающей его действительностью, как тотальный опыт освоения человеком мира и адаптации к нему. В рамках этой тотальности философия и наука не только каким-то образом влияют друг на друга, но испытывают на себе влияние со стороны других элементов культуры (обыденного опыта, права, искусства, политики, экономики, религии, материальной деятельности и др.). Достаточно в этой связи указать на хорошо известные исторические примеры мощного воздействия религии на философию и науку в средние века. С другой стороны, столь же хорошо известно сильное влияние, которое испытали философия и наука со стороны потребностей экономического и политического совершенствования общества в эпоху Возрождения и Новое время. Хотя, влияние культуры отнюдь не может отменить внутреннюю логику развития и философии и науки, как и других подсистем культуры. Наконец, очень важное значение для понимания предмета философии науки, характера ее проблематики и способов решения имеет обсуждение темы «наука и культура». И здесь центральным является вопрос: может ли быть адекватным основанием развития современной культуры только ее ориентация на естествознание и
технические науки? Или развитие культуры возможно только при ее ориентации на взаимодействие естественных и гуманитарных наук, на критическое осмысление и обобщение всей человеческой культуры в ее историческом и конкретном разнообразии, а не только на ту ее часть, которая поддается научной интерпретации? Вопрос о весе и значении науки как факторе развития современной культуры — одна из актуальных тем обеспечения высоко адаптивного существования настоящего и будущего человечества. Амбивалентное влияние науки на современный социальный прогресс и возможное будущее человечества и необходимость гармоничного дополнения научного мышления различными вненаучными формами (мораль, искусство, религия и др.), во многом задающих и воспроизводящих целостного, гармоничного и гуманитарного Человека, известна в современной философской литературе как проблема сциентизма и антисциентизма. Она не только широко обсуждается в средствах массовой информации всего мира, но и служит идейной основой таких протестных общественных движений как «антиглобализм», «зеленые», «экологизм», «новый гуманизм» и т. д. Экологический и этический контроль со стороны общества за развитием науки и ее применениями в гражданской и военной сферах стал актуальным как никогда ранее в человеческой истории. От взвешенного и мудрого решения этой проблемы напрямую зависит ближайшее и отдаленное будущее человечества.
Глава 1
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ШИЛОСОШИИ И НАУКИ: ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
За весьма длительную историю сосуществования философии и науки как самостоятельных и во многом различающихся (по предметам, средствам, методам и функциям) форм познавательной и ориентировочной деятельности человека, был сформулирован ряд концепций о их взаимоотношении. Исторически первой, прошедшей длительную эволюцию и долгое время (вплоть до середины XIX в.) признававшейся бесспорной подавляющим большинством философов и ученых и по существу не имевшей альтернатив, была концепция, которую мы считаем правильным назвать «транс-ценденталистская», хотя в работах по философии она часто называлась и «метафизической» (особенно у позитивистов) и «натурфилософской» (особенно, когда речь шла о соотношении философии и естествознания). В чем сущность трансценденталистской концепции соотношения философии и науки? Кратко она может быть выражена формулой: «Философия — наука наук» (или «Философия — царица наук»). Что означает эта формула? Во-первых, подчеркивание гносеологического приоритета философии как более фундаментального вида знания по сравнению с конкретными науками. Во-вторых, руководящую роль философии по отношению к частным наукам. В-третьих, самодостаточность философии по отношению к частно-научному знанию и, напротив, существенную зависимость частных наук от философии, относительность и партикулярность истин конкретных наук.
Впервые трансценденталистекая концепция была сформулирована и в достаточной мере обоснована уже в рамках античной культуры, где частно-научному познанию заведомо отводилась подчиненная роль по отношению к философии, как «прекраснейшей и благороднейшей» из наук. Фактически все крупные философы античности, начиная с Пифагора, Фалеса, Парменида, Платона и Аристотеля, несмотря на существенные различия их философских взглядов, придерживались трансцендента\истской концепции. Более того, в силу значительного развития философии, которое она получила в Древней Греции, и неразвитости только-только зарождавшихся частных наук, транс-ценденталистская концепция выглядела как естественная, само собой разумеющаяся и полностью соответствующая их реальному взаимоотношению в рамках существующей культуры. Каковы же гносеологические основания, на которые опирается трансценденталист-ская концепция? Наиболее существенными из них являются следующие: 1) философия формулирует наиболее общие законы о мире, человеке и познании; 2) философия стремится к достижению объективно-истинного и доказательного («эпистемного») характера своих всеобщих утверждений («первых принципов», «аксиом» всего рационального знания); 3) частные науки (многие из которых сформировались в античную эпоху: геометрия, механика, оптика, история, политика, биология, физика, астрономия и др.) в отличие от философии изучают не мир в целом, а только отдельные его фрагменты («сферы») и потому их истины не имеют всеобщего характера; философское знание — всеобще, частно-научное — партикулярно; 4) поскольку мир («космос») целостен, а целое всегда определяет свои части (их функции и предназначение), постольку истины философии «выше» истин частных наук; последние должны «подчиняться» первым и соответствовать им; 5) источником философских истин является самопознающее мышление, Логос, Разум (иначе им и неоткуда появиться), тогда как источником частных наук является эмпирический опыт и последующая его логическая обработка с помощью мышления (абстрагирования, индукции и интуиции —Аристотель); 6) истины разума в своей сущности необходимы, поскольку основаны на интеллектуальной очевидности («умозрении» — Аристотель) или припоминании своего бытия в мире чистых сущностей («идей» — Платон); поэтому истины философии — необходимые истины; 7) истины опыта, из которых исходит наука, сами по себе всегда только вероятны (во-первых, в силу конечности, ограниченности любого опыта; во-вторых, из-за того, что . чувства могут иногда обманывать нас, и, наконец, потому, что частно-научные обобщения получаются всегда с помощью перечислительной индукции, которая в целом (кроме крайне редкого случая — полной индукции) является не-доказательной формой умозаключения; 8) частно-научные, опытно приобретенные истины также могут получить доказательный статус, но только в том случае, если будут выведены из всеобщих и необходимых истин философии, «подведены» под них.
Таким образом, истины философии «выше» истин частных наук по своему гносеологическому происхождению и статусу (как аксиомы геометрии «выше» ее теорем); частные науки своими собственными методами не способны достичь необходимо-истинного, а тем более — всеобщего знания. Единственный способ для них добиться этого — приобщение к философским истинам, логическое выведение из последних. Сформулированные выше представления о природе философского и частно-научного знания с необходимостью приводят к необходимости подчинения частных наук философии, желательности редукции частно-научных истин к философским, во-первых «во благо» первым, а во-вторых, для достижения целостности всей сферы истинного знания.
Несмотря на многочисленные исторические коллизии в ходе реального взаимодействия философии и частных наук (например, абсолютизация от имени аристотелевской философии геоцентрической системы мира Птолемея как необходимо истинной, или последующая мощная философская критика, не говоря уже о религиозной, гелиоцентрической системы мира Коперника — Галилея), в целом трансценденталистская В47 концепция сыграла положительную роль в развитии частных наук, так как философия долгое время в силу неразвитости частных наук служила для них огромным когнитивным резервуаром. Философия также всегда поддерживала, защищала и развивала культуру рационального мышления, в рамках которой только и могли развиваться научные исследования. Охранительная и эвристическая роль философии по отношению к науке четко проявилась даже в Средние века, когда роль жреца Высшей Истины взяла на себя религия. Иррациональность религии и рациональность науки были несовместимы по существу, тогда как и философия и частные науки при всех коллизиях их взаимоотношений все же имели своим основанием общий источник — мышление, разум.
В период позднего средневековья, благодаря четкому различению истин веры и истин разума, Фоме Аквинскому удалось смягчить несовместимость между религией и наукой, поместив философию в качестве необходимой прослойки («посредствующего звена») между религией и наукой. Однако, этот синтез имел тот существенный недостаток, что только одна философская система, а именно философия Аристотеля, была объявлена от имени религии Истинной философией. Благодаря такой «услуге» со стороны религии философия Стагирта оказалась в амбивалентном положении по отношению к науке.
С одной стороны, она оправдывала и защищала науку, а с другой — тормозила ее развитие, привязывая ее к философии Аристотеля слишком тесными узами. Не случайно, когда в эпоху Возрождения и Новое время наука под влиянием экономических и политических потребностей общества стала стремительно развиваться, ученые и философы выступили за освобождение науки не только от жесткого контроля со стороны церкви, но и от аристотелевской философии («схоластики») (Г. Галилей, Р. Декарт, Ф. Бэкон и др.).
Итак, на первом этапе эволюции трансцендента-листской концепции взаимоотношение между философией и наукой понималось как отношение между «всеобщими объективными истинами» (философия) и «частными объективными истинами» (конкретные науки). Истина при этом понималась как абсолютное тождество содержания сознания и бытия. Исходя из идеи логической целостности и гомогенности всей системы истинного знания, философия мыслилась в качестве ее аксиоматической составляющей, а частные науки — теоремной части. Такой взгляд имел объективные со-цио-культурные основания: 1) относительно небольшой объем эпистемного знания (вплоть до середины XIX в. объем этого знания был таким, что им мог полностью овладеть отдельный ученый-энциклопедист), 2) слабое развитие частных наук (как в плане опытно-экспериментальной базы, так и отсутствия у науки собственного теоретического языка), их малого относительного веса в структуре материальной и духовной культуры общества, 3) существенной роли философии и религии в мировоззренческой и духовной жизни античной и средневековой цивилизаций.
Второй этап эволюции трансценденталистской концепции охватывает период «Новое время — середина XIX в.». В это время происходит стремительное развитие частных наук, экспериментально-математического естествознания, математики, гуманитарных наук, дисциплинарная организация науки, создание новой системы высшего образования (естественнонаучных, политехнических и инженерных вузов), ин-ституализация науки (создание национальных академий наук, научных лабораторий, обсерваторий,станций и экспедиций).
Частные науки начинают играть все большую роль в развитии производительных сил общества, повышать свой вес, практическую и теоретическую значимость в общей системе культуры, оформляться в ее относительно независимую подсистему, развитие которой все в большей мере начинает определяться ее внутренними потребностями и закономерностями. Завершением этого процесса становится создание такой новой культурной реальности, которая получила название «классическая наука». Ее символом становится «механика Ньютона» или «классическая механика». Основным и очевидным фактором, способствовавшим стремительному росту системы частно-научного знания, было прежде всего эмпирическое исследование природы и общества, создание твердой фактуальной базы науки, точное ее математическое описание и обобщение, а вовсе не выведение научных законов и теорий из некой «истинной философии». Сознавая необходимость, с одной стороны, согласования любых научных теорий с фактами, а с другой, — опоры на некие философские предпосылки о методах истинного познания, ученые того времени при конфликте «упрямых» фактов и философских оснований, как правило, отдавали решительное предпочтение первым (Галилей, Коперник, Сервет, Бюффон, Лавуазье и др.). Наука все больше осознавала и идентифицировала себя в качестве особого, самостоятельного и относительно независимого от философии вида рационального познания. Лозунгом ее бытия стало знаменитое изречение Ньютона: «Физика, берегись метафизики!» Идея единой гомогенной системы рационального знания во главе с философией уже к началу XIX в. явно не соответствовала реальному месту и роли частно-научного и философского знания в культуре. Со временем наука все более твердо и решительно стала заявлять о своей значимости и суверенности. В результате объективно существовавшая система рационального знания (философия + наука) все больше эволюционировала от гомогенного способа своей организации куровневому, где частные науки и философия уже понимались как качественно различные (и по предмету, и по результатам) виды рационального знания, отношения между которыми не могут пониматься в духе логического соподчинения, выводимости одного из другого.
Можно без преувеличения сказать, что эта проблема стала одной из ведущих тем в развитии философии XVII — XIX вв., решение которой во многом определило ее содержание и основные направления (отнаукоцен-тризма и гносеологизма Декарта, Бэкона, Канта и др. до иррационализма романтиков, экзистенциалистов, философов жизни, культуры и т. д.). Описанные выше существенные изменения в мире рационального знания не могли не сказаться и на эволюции трансценденталистской концепции соотношения философии науки. Наибольший вклад в ее трансформацию внесли представители немецкой классической философии и, прежде всего, Кант и Гегель. Кант путем разведения предметов философии и науки, Гегель — путем определения и разведения их методов. Кант вывел за пределы философии сферу онтологии, область объективного рационального знания, оставив ее исключительно за наукой. По Канту («критическому») предмет философии — сознание, гносеология и теория ценностей. При этом, сохраняя верность трансценденталист-ской концепции соотношения философии и науки, Кант ставит гносеологию, общую теорию сознания и познания выше онтологии, считая, что то или иное решение гносеологических проблем определяет соответствующее решение наукой ее по существу онтологических проблем, хотя последние в существенной степени и опираются на эмпирическую информацию об объектах, которая не может быть выведена из философских систем. Согласно Канту, наука не выводима из философии, но все же определяется ею, так как ученые в ходе осуществления процесса познания не могут не опираться на те или иные представления о возможностях и способах достижения истинного знания об объектах (предметах).
В условиях очевидного расслоения и самоорганизации системы объективного рационального знания на два качественно различных уровня: частно-научный и философский, Гегель попытался спасти трансценден-талистскую концепцию их соотношения путем разработки и приписывания истинно-философскому и естественно-научному познанию двух различных методов воспроизведения сущности познаваемых объектов — диалектического и метафизического методов. Гегель полагал, что в силу всеобщего характера развития, как характеристики бытия любых объектов, только диалектический метод познания способен привести к абсолютно-истинному постижению реальности, в том числе, к построению истинной системы природы. И такой системой может быть только диалектическая онтология, диалектико-логическая «философия природы».
Частно-научный же тип познания, как он реализовался в ново-европейской культуре — это по Гегелю односторонний, метафизический способ познания. Поскольку частные науки при построении своих теорий абстрагируются от идеи развития изучаемых ими объектов (например, та же механика Ньютона) и делают ставку на эмпирический опыт, математику и формальную логику, которые по самому своему существу, считает Гегель, являются метафизическими науками, отрицающими необходимость и полезность логических противоречий при описании объектов, постольку новоевропейское естествознание для достижения объективной истины о природе нуждается в радикальном методологическом переоснащении, в замене метафизического метода познания диалектическим. В своей «Философии природы» Гегель от имени диалектически развивающейся Абсолютной Истины, составляющей по его мнению субстанцию всякого истинного мышления, отстаивает в целом вполне перспективную и эв-ристичную идею всеобщей эволюции природы, развития ее от более простых форм организации к более сложным. Это развитие включает в себя: внутренние объективные противоречия как источник развития, переход количественных изменений в качественные, сохранение законов функционирования низших форм в высших путем их подчинения законам последних («диалектического снятия» первых вторыми). С другой стороны, от имени той же Абсолютной Истины и ее развития Гегель доказывал, что число планет солнечной системы должно быть равно семи (именно столько их было известно современной ему астрономии), что пространство — трехмерно и эвклидово и не может быть другим, что необходимость первичнее случайности, что мир — детерминистичен, а случайность есть лишь проявление (правда, объективное) необходимости. Таким образом, Гегель от имени своей диалектики просто-напросто абсолютизировал многие положения современного ему естествознания, что в общем-то явно противоречило самой идее универсальности развития науки и тормозило это развитие, что и подтвердила в скором история науки. Дело в том, что построение любой теоретической системы, в том числе и системы «Философии природы», всегда требует опоры на какой-то эмпирический материал и Гегель вынужден был заимствовать у современной ему науки многие ее положения, казавшиеся тогда доказанными или, во всяком случае, бесспорными истинами. Таким образом, любая диалектическая система как нечто по необходимости определенное («конечное») всегда будет противоречить самой себе с точки зрения диалектического метода, видящего на всем определенном печать его ограниченности и конечности. Та же участь постигла и «Философию природы» Шеллинга, когда от имени философии теоретическому естествознанию навязывался некий истинный метод познания, которому ученые должны непременно следовать, если хотят получить абсолютно-истинное и объективное знание об изучаемых ими предметных областях, по необходимости конечных и ограниченных. Новая версия трансцен-денталистской концепции соотношения философии и науки утверждала, что только философия и философы находятся в положении универсального субъекта познания, обладающего истинным методом и масштабом видения любых объектов. Однако, такой «империалистический» подход к науке уже не мог найти поддержки у большинства ученых XIX века, которые на своем опыте постоянно убеждались в огромной предсказательной и объяснительной мощи конкретно-научного знания, его практической применимости и эффективности. В сознании ученых все больше назревало недовольство менторской и поучающей позицией философии по отношении к науке, стремление освободится от ее опеки и зависимости как от факторов, все более становящихся тормозом в развитии науки. В 30-х гг. XIX в. это умонастроение ученых было теоретически сформулировано и обосновано в позитивистской концепции соотношения философии и науки, в работах О. Конта, Г. Спенсера, Дж.Ст. Милля.
Сущность этой концепции была четко выражена словами Конта: «Наука — сама себе философия». Что означала эта формула? Во-первых, то, что историческая миссия философии по отношению к науке закон-
Раздел VII!. Философия, наука, культура
чилась. Философия, утверждал Конт, безусловно сыграла необходимую положительную роль как в рождении науки в целом, так и в возникновении многих научных теорий. Этому она способствовала двумя путями: 1) формированием и развитием культуры абстрактного (теоретического) мышления и 2) умозрительным конструированием ряда общих идей и гипотез о структуре мира (идеи атомизма, существования объективных законов, системной организации действительности и эволюции ее объектов, единства человека и Космоса и т. д.). Однако, полагает Конт, во взаимоотношении философии и науки мы имеем дело с ситуацией, когда ребенок (наука) стал взрослым, когда ученик (наука) превзошел учителя (философия) и когда прежняя патронистская и полезная позиция философии по отношению к науке является уже не только неуместной, но и вредной для развития науки, объективно тормозя развитие последней. В XIX в. наука прочно встала на свои собственные ноги и в плане накопления большого количества фактов, и в отношении методологической и методической оснащенности своих исследований, и в плане создания значительного числа собственных теоретических построений, и в отношении признания обществом ее огромной практической и познавательно-мировоззренческой значимости. Теперь задача виделась в обратном — в недопущении философского стиля мышления и его умозрительных спекуляций в науку, как разрушающих точный и эмпирически проверяемый язык научных теорий (позитивное мышление). Более того, сама философия должна быть построена теперь, если это возможно, по канонам конкретно-научного (положительного) мышления. Традиционной философии как форме и методу познания отныне место на интеллектуальном кладбище человеческой истории, рядом с мифологией и религией, как столь же несовершенными по сравнению с наукой формами познания.
Согласно позитивистам польза от тесной связи конкретных наук с философией — проблематична, а вред — очевиден. Для конкретно-научных теорий единственной, пусть и не абсолютно надежной основой и критерием их истинности, должна быть только степень их соответствия данным опыта, результатам систематического наблюдения, измерения, эксперимента и статистическим данным.
Однако, как показала дальнейшая история науки, позитивистская концепция, хотя и отражает реальную научную практику многих успешно работающих ученых в их взаимоотношении с философией (часто не знающих глубоко философию и ее историю и, тем не менее, получающих блестящие эмпирические и теоретические результаты), в целом является ложной. Во-первых, потому что большинство создателей новых теоретических концепций (Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, Борн, Вернадский, Винер, Пригожий и др.) сознательно использовали когнитивные ресурсы философии и при выдвижении и при обосновании новых исследовательских программ, демонстрируя необходимость и эффективность обращения ученых-теоретиков к профессиональным философским знаниям. Что заставляло их действовать подобным образом? Во-первых, четкое осознание того, что научные теории логически не выводимы из эмпирического опыта, а свободно конструируются (изобретаются) мышлением и надстраиваются над опытом в качестве его теоретических объясняющих схем. Во-вторых, в понимании того, что один и тот же эмпирический опыт может быть в принципе совместим с разными (часто взаимоисключающими) теоретическими схемами (волновая и корпускулярная теория света, номологическое и стохастически-случайное объяснение результатов эволюции и т. д. и т. п.). Таким образом, поскольку локальный эмпирический опыт (а он всегда «локален») принципиально не дает возможность сделать окончательный выбор в пользу той или иной научной гипотезы, то было бы, видимо, вполне уместно использовать в качестве дополнительного ограничения, влияющего на предпочтение одной из конкурирующих теорий, ее соответствие тем общим философским идеям, которые уже хорошо себя зарекомендовали в различных областях науки и культуры. Дело в том, что с адаптационной точки зрения человечество «взыскует» не просто истинных идей, а плодотворных теорий, приносящих благо и практическую пользу. Помимо этого, соответствие научных идей определенным философским концепциям способствует достижению единства, интеграции человеческой культуры, ее обозреваемости и управляемости как целого. Вписывание с помощью философии (этого универсального теоретического языка культуры) той или иной научной концепции в наличную культуру в качестве ее органического элемента придает этой концепции статус онтологической подлинности, ибо культура и есть та главная и единственная тотальная реальность, в которой непосредственно живет человек.
Необходимо подчеркнуть, что хотя позитивистская концепция уже не пользуется доверием среди современных философов (она основательно раскритикована и как бы «изжила» себя с помощью внутренней и внешней критики), позитивизм отнюдь не преодолен и постоянно воспроизводится в качестве стихийного умонастроения ученых. И для его воспроизводства имеются серьезные объективные основания: структурированность самой научной деятельности, подавляющую часть которой (примерно 97 %) занимают эмпирические и прикладные исследования и разработки, успех в которых действительно напрямую никак не связан с профессиональным знанием философии. Постоянно воспроизводясь, эта социальная база составляет объективный источник безразличного или даже негативного отношения значительной части ученых к философии как необходимому и важному условию развития науки. Позитивизм, однако, не прав в главном — в абсолютизации подобной установки и распространении ее на всю научную деятельность. Ибо можно уверенно сказать, что без тех 3% ученых-теоретиков, которые, как показывает опыт развития науки, активно используют когнитивные ресурсы философии, находятся с ней в постоянном контакте, создают новые фундаментальные направления и программы научных исследований и тем самым задают определенный вектор развитию науки, прогресс в науке невозможен ни сегодня, ни в будущем.
Справедливость, однако, требует отметить, что, начиная с О. Конта, позитивисты считали вредным для развития науки контакт ее не с философией вообще, а только со старой, умозрительной, ненаучной философией («метафизикой»). Многие из них верили в возможность построения «хорошей», научной философии. Такая философия, считали они, возможна только в одном случае, если она ничем не будет отличаться от других частных наук по своему методу. Будучи наукой (а любая наука по определению возможна только как «частная»), философия должна отличаться от остальных наук только своим предметом, чем соответственно каждая наука и отличается от других. В ходе развития позитивизма на роль научной философии выдвигались разные теории:
1) общая методология науки, как результат эмпирического обобщения, систематизации и описания реальных методов различных конкретных наук (О. Конт);
2) логика науки как учение о методах открытия и доказательства научных истин (причинно-следственных зависимостей) (Дж.Ст. Милль);
3) общая научная картина мира, полученная путем обобщения и интеграции знаний разных наук о природе (О. Спенсер);
4) психология научного творчества (Э. Мах);
5) всеобщая теория организации (А. Богданов);
6) логический анализ языка науки средствами математической логики и логической семантики (Р. Карнап и др.);
7) теория развития науки (К. Поппер и др.);
8) теория, техника и методология лингвистического
анализа (Л. Витгенштейн, Дж. Райл, Дж. Остин и др.).
Однако, как показал анализ указанных выше мно-
гочисленных попыток позитивистов построить различ-
ные виды «научной философии», все они оказались
несостоятельными. Им были присущи два коренных
недостатка: во-первых, каждая из них неявно опира-
лась на «метафизические» идеи, которые были отвер-
гнуты как бессмысленные. Во-вторых, все они были
малоэффективными с точки зрения возможностей сво-
его практического применения в реальной научной
практике.
Следующей из весьма распространенных в современной культуре концепцией соотношения философии и науки является антиинтеракционистская концепция, проповедующая дуализм во взаимоотношении между ними, абсолютное культурное равноправие и самодостаточность каждой из них, отсутствие внутренней взаимосвязи и взаимовлияния между ними в процессе развития и функционирования каждого из этих важнейших элементов культуры. Развитие, функционирование частных наук (особенно естествознания) и философии идет как бы по параллельным курсам и в целом независимо друг от друга. Сторонники антиин-теракционистской концепции (а это в основном представители философии жизни, экзистенциалистской философии, философии культуры и др.) обосновывают свои взгляды тем, что полагают, что у философии и науки свои, совершенно несхожие предметы и методы, исключающие саму возможность сколько-нибудь существенного влияния философии на развитие науки и обратно. В конечном счете они исходят из идеи разделения всей человеческой культуры на две разные культуры: естественно-научную (нацеленную в основном на выполнение прагматических, утилитарных функций адаптации и выживания человечества за счет роста его материального могущества) и гуманитарную (нацеленную в конечном счете на увеличение духовного потенциала человечества, взращивание и совершенствование в каждом человеке его духовной составляющей, единящей его с Богом). Философия в этом разделении относится к гуманитарной культуре, наряду с искусством, религией, моралью, историей и другими формами самоидентификации человека, отграничивающего его от других существ и предметов. С точки зрения гуманитарного видения философии ее главным предметом является вовсе не мир и его законы, и даже не сознание, если последнее понимать в качестве особой (психической) реальности, а человек и его отношение к окружающим событиям: Богу, космосу (природе) , обществу, другим людям и, наконец, к самому себе. А отношение человека к окружающему его бытию зависит не столько от характера бытия, сколько от понимания человеком своих целей, интересов и предназначения в этом мире.
Отношение человека к миру и осознание им смысла своего существования никак не выводятся из знания объективного мира, а задаются некоторой системой ценностей, системой представлений о добром и злом, о значимом и пустом, о святом, непреходящем и тленном. Мир ценностей, не имеющий фактически никакого отношения к существованию и содержанию объективного мира — вот главный предмет философии с позиций антиинтеракционистов. Может ли философ для решения этих проблем почерпнуть что-нибудь из естествознания, его многообразных и зачастую альтернативных концепций? Ответ антиинтеракционистов отрицателен, философу—философово, а ученому — науково. Более того, все философы жизни, особенно экзистенциалисты, вполне серьезно утверждают, что тесная связь философии с наукой не только не помогает, но и вредит философии в решении ее проблем, так как приводит к подмене внутреннего опыта переживания ценностей, которые только таким образом и могут быть постигнуты и усвоены, к внешнему предметному опыту познания, чуждому философии как таковой. Излишне сосредотачиваясь на познании объективного мира и его законов, мы неизбежно уходим от познания самих себя, предаем самих себя ради познания чего-то внешнего. Наблюдение над жизнью, искусство, знакомство с человеческой историей, опыт личных переживаний — все это гораздо более значимый материал для решения философией своих проблем, нежели знание законов и научных теорий. Семантически строгий, логически жесткий язык науки, ее общезначимые стандартные процедуры весьма чужды философии, для которой ближе метафорический язык художественной литературы, музыки, поэзии, живописи с их демонстрацией конструктивной свободы человеческого сознания и его творческой природы. Никакая система ценностей не может стать для человека истинной, быть принята им до тех пор, пока не будет им лично пережита на своем собственном, уникальном опыте. В отличие от научной истины, внешним опытом удостоверяемой и многократно воспроизводимой разными учеными, философские утверждения получают статус истины только в результате интимного, индивидуального переживания, как личного порождения. Сократовский диалог, гуссерлевское «эпохе», экзистен-циалистско — философское эссе, августиновско-пас-калевские Исповеди и «Опыты» Монтеня — вот повивальные атрибуты самопорождения философской истины каждой личностью отдельно. Однако, с точки зрения антиинтеракционистов, не только конкретные науки (и особенно естествознание) ничего не могут дать философии для решения ее проблем, но и философия ничего не может дать науке, ибо методы у них совершенно разные. С точки зрения антиинтеракционистов выражение «научная философия» в любом из смыслов входящих в него слов столь же противоречиво, как и понятие «философское естествознание».
Наконец, четвертой концепцией взаимоотношения философии и науки является диалектическая. С нашей точки зрения именно эта концепция является наиболее корректной и приемлемой. В чем коротко ее суть? В утверждении внутренней, необходимой, существенной взаимосвязи между философией и наукой, начиная от момента их выделения в качестве самостоятельных подсистем в рамках рационального сознания вплоть до сегодняшнего дня; диалектически противоречивого единства между ними; их взаимодействия на принципах равенства; структурной сложности и развитии механизма взаимодействия частно-научного и философского знания. То, что многие мыслители, особенно в прошлом, одинаково успешно проявляли себя и на философском поприще и в области науки, равно как и то, что многие выдающиеся ученые-теоретики написали немало блестящих книг и статей по философии науки в целом и по отдельным ее философским проблемам — хорошо известный эмпирический факт из истории науки. Но доказывает ли он существование необходимой внутренней взаимосвязи между философией и частными науками? Ведь в качестве контраргумента можно привести доводы, что, во-первых, подавляющее большинство хороших ученых вообще серьезно не интересуется философскими вопросами науки, а во-вторых, мало ли чем занимаются гениальные ученые помимо науки (искусством, общественной деятельностью, религией и т. д.). Это — дело личного интереса ученого и необходимым образом с его профессиональной деятельностью никак не связано. Доказательство внутренней, необходимой связи философии и науки лежит не в плоскости социологического анализа частоты обращения ученых к философскому знанию при решении своих научных проблем, а в анализе возможностей и предназначения конкретных наук и философии, их предметов и характера решаемых проблем.
Предмет философии, особенно теоретической — чистое всеобщее, всеобщее как таковое. Идеальное всеобщее — цель и душа философии. При этом философия исходит из возможности постигнуть всеобщее рационально-логически, вне-эмпирическим путем. Предметом же любой частной науки является частное, единичное, конкретный «кусок» мира, эмпирически и теоретически полностью контролируемый, а потому осваиваемый и практически. Характер внутреннего взаимоотношения философии и частных наук имеет диалектическую природу, являя яркий пример диалектического противоречия, стороны которого, как известно, одновременно и предполагают и отрицают друг друга, и поэтому необходимым образом дополнют друг друга в рамках некоего целого. Таким целым выступает человеческое познание со сложившимся в нем исторически разделением труда, имеющим под собой сугубо оптимизационно-адаптивную, экономическую основу эффективной организации человеческой деятельности. В этом разделении труда по познанию окружающей человека действительности как некоей противостоящей ему целостности философия акцентирует в своем предмете познание (моделирование) всеобщих связей и отношений мира, человека, их отношения между собой, ценой абстрагирования от познания просто общего, а тем более частного и единичного. И единственно, где она серьезно спотыкается при таком рационально-всеобщем подходе к изучению бытия, это — человек, который интересен и возможен в качестве человека только своей индивидуальной, уникальной экзистенцией. Любая же конкретная наука не изучает мир в целом или в его всеобщих связях. Она абстрагируется от этого. Но при этом всю свою когнитивную энергию направляет на познание своего частного предмета, изучая его во всех деталях и структурных срезах. Собственно наука стала наукой только тогда, когда сознательно ограничила себя познанием частного, отдельного, конкретного, относительно которого возможно эмпирически собирать, количественно моделировать и контролировать достаточно полный и потому впоследствии практически используемый объем информации. С точки зрения познания действительности как целого, и философия и частные науки — одинаково одно-сторонни. Объективная действительность как целое безразлична к способам человеческого познания, она суть — единство всеобщего, особенного и единичного. Всеобщее в ней существует не иначе как через особенное и единичное, а единичное и особенное существует не иначе как единичное и особенное проявление некоего всеобщего. Поэтому адекватное познание действительности как целого, составляющее высшую теоретическую и практическую (биологически-адаптивную) задачу человечества, требует дополнения и «взаимопросвечивания» результатов философского и частно-научного познания. Ясно, что интеграцией философского и частно-научного знания, наведением «мостов» между ними профессионально может заниматься и занимается достаточно небольшое количество ученых и философов, испытывающих в этом наибольшую потребность и имеющих соответствующую подготовку как в философии, так и в той или иной области частно-научного познания. Среди ученых такую деятельность осуществляют, как правило, крупные теоретики, работающие на границе пространства «наука» и последовательно раздвигающие его за счет освоения новых территорий. Общий и фундаментальный характер решаемых ими проблем часто однопорядков с масштабом, сложностью и неоднозначностью философских тем. Философы же часто обращаются к частным наукам как материалу, призванному подтвердить одни философские конструкции и опровергнуть другие. Особенно это относится к тем философам, которые интересуются построением онтологических моделей, особенно, структурой, всеобщими законами и атрибутами объективного мира.
Несмотря на диаметральную противоположность трансценденталистской и позитивистской концепций соотношения философии и конкретных наук, для них характерно нечто общее — стремление противопоставить один вид знания другому как более ценный. Это, на наш взгляд, фундаментальная ошибка, связанная с непониманием специфики и самоценности как философского, так и конкретно-научного знания, их относительной самостоятельности и вместе с тем внутренней взаимосвязи между собой как разных типов и уровней рационального знания. И для философии и для науки характерно следование идеалу рациональности, т. е. достижению определенного , обоснованного, системно-организованного, объективно-истинного, открытого к изменениям знания. Конечно, степень реализации этого идеала в конкретных науках значительно выше, чем в философии. И поскольку это различие обусловлено прежде всего предметами и задачами философского и конкретно-научного познания, постольку оно принципиально неустранимо. Вместе с тем, философское и конкретно-научное знание представляют собой не только два различных типа рационального знания, но и одновременно два его различных уровня.
Представляется, что отношение между философским и конкретно-научным знанием во многом аналогично (хотя отнюдь не тождественно) тому, которое имеет место между теоретическим и эмпирическим уровнями знания в конкретных науках. Известно, что научная теория всегда согласуется некоторым образом с данными наблюдения и эксперимента. Однако, ни одна научная теория не является ни краткой суммой («стенографической записью» — Милль) результатов наблюдения и эксперимента, ни их индуктивным обобщением. Будучи продуктом специфической идеализации, теоретические понятия (материальная точка, иде- ВБЗ альный газ, бесконечность, абсолютно прямая линия, пси-функция) включают в себя такое содержание, которое в принципе не может быть сведено к характеристикам знания на уровне наблюдения. Поскольку в заключении любого формального вывода должны иметь место термины того же уровня, что и в посылках, постольку между теоретическим и эмпирическим уровнями знания не существует формально-логического моста (В.А. Смирнов, Ст. Кернер). Создание научных теорий — это творческий акт, в ходе которого создается качественно новая по сравнению с эмпирическим знанием понятийная реальность, обеспечивающая определенный способ видения, объяснения и предсказания фактов, проникновения в сущность наблюдаемых явлений. Между эмпирическим и теоретическим уровнями знания существует взаимосвязь, однако, эта связь не непосредственная, а опосредованная, и осуществляется она с помощью такой специфической методологической операции как эмпирическая интерпретация теории. Последняя представляет собой особый вид творческой, содержательно-конструктивной деятельности ученых, результатом которой является совокупность интерпретативных предложений.
Подобная ситуация имеет место и в отношении между философией и конкретно-научным теоретическим знанием с той лишь разницей, что последнее теперь само выступает в качестве одного из элементов «ф актуально го» базиса философии. Для философской теории «фактуальным» основанием служат не только результаты конкретно-научного (как эмпирического, так и теоретического) познания, но осмысления и других способов духовного и практического освоения человеком действительности. Посредством своего категориального аппарата философия пытается в специфической форме отразить реальное единство всех видов человеческой деятельности, осуществить теоретический синтез всей наличной культуры. Отражая это единство, философия выступает самосознанием эпохи, ее духовной «квинтэссенцией» (Гегель, Маркс). В философии наличная культура как бы рефлексирует саму себя и свои основания.
Глава 1. Взаимоотношение рлвсври и науки: вснвввыв концепции
Подчеркивая апостериорное, «земное» происхождение философских принципов, необходимо в то же время видеть специфику их генезиса по сравнению с принципами конкретных наук. Различие здесь заключается, во-первых, в широте объективного базиса абстрагирования и, соответственно, в степени общности и существенности принципов. Во-вторых, в самом характере базисов. И наконец, в-третьих, в способе отражения и предъявляемых к процессу и результатам этого отражения требований рациональности. В то время как эмпирический базис любой конкретно-научной теории носит достаточно определенный и относительно гомогенный характер, «фактуальный» базис философии является в высшей степени гетерогенным и неоднозначным по содержанию. Он и не может быть другим, так как включает в себя результаты теоретического и практического, научного и обыденного, художественного и религиозного и других способов освоения человеком действительности. Ясно поэтому, что философское знание не может в той же степени удовлетворять критериям рациональности, что и конкретно-научное знание. Благодаря предельной общности и ценностно-мировоззренческой ориентации, философское знание является более умозрительным и рефлексивным, но, вместе с тем, менее строгим и доказательным, чем конкретно-научное познание.
Чем же диктуется необходимость обращения ученых к философии? Во-первых, объективной взаимосвязью предметов их исследования. А, во-вторых, характером самого процесса конкретно-научного познания. Дело в том, что научное познание совершается отнюдь не учеными-робинзонами, имеющими якобы дело с «чистыми фактами» и обладающими логическим методом открытия и обоснования научных законов, а реальными учеными-индивидами, живущими в определенную эпоху и испытывающими на себе в той или иной степени влияние культуры своего времени. Процесс научного познания имеет ярко выраженный творческий и социально-обусловленный характер. Такой вещи, как чистое, беспреддосылочное знание в науке просто не существует. Открытие новых научных законов и теорий всегда происходит в форме конструктивной умственной деятельности по выдвижению, обоснованию и принятию определенных гипотез. Этот мыслительный процесс обусловлен не только имеющимися в распоряжении ученого эмпирическими данными, но и опосредован целым спектром составляющих социокультурный фон данной науки представлений и принципов научного и вненаучного порядка. Важнейшим элементом этого фона является философия. Как показывает реальная история науки, именно на основе определенных онтологических, гносеологических, логических, методологических и аксиологических оснований строятся различного рода конкретно-научные модели изучаемых явлений, дается интерпретация теоретических построений, оцениваются возможности и перспективы использования определенных методов и подходов в исследовании объективной реальности. Философские основания науки и являются тем посредствующим звеном, которое связывает философское и конкретно-научное знание. Эти основания не являются «личной собственностью» ни науки, ни философии. Они представляют собой граничное знание и могут быть с равным правом отнесены к ведомству как философии, так и науки.
Каково основное содержание и специфика различных типов философских оснований науки? Онтологические основания науки представляют собой принятые в той или иной науке общие представления о картине мира, типах материальных систем, характере их детерминации, формах движения материи, общих законах функционирования и развития материальных объектов и т. д. Так, например, одним из онтологических оснований механики Ньютона являлось представление о субстанциональном характере пространства и времени, их независимости друг от друга и от скорости движения объекта. Гносеологические основания науки суть принимаемые в рамках определенной науки положения о характере процесса научного познания, соотношении чувственного и рационального, теории и опыта, статусе теоретических понятий и т. д. Например, именно на основе определенного истолкования статуса теорети-
Глава 1. Взаимввтнвшвнив философии и науки: основные концепции
ческих понятий Э. Мах в свое время отверг научную значимость молекулярно-кинетической теории газов Л. Больцмана. Как известно, Мах придерживался взгляда, что все значимые теоретические понятия должны быть редуцируемы к эмпирическому опыту. Понятие же «атом», на котором была основана молекулярно-кинетическая теория, не удовлетворяло этому условию, так как в то время атомы были ненаблюдаемы. На этом же гносеологическом основании Мах отверг абсолютное пространство и время И. Ньютона. Логические основания науки — принятые в науке правила абстрагирования, образования исходных и производных понятий и утверждений, правила вывода и т. д. Например, в конструктивной математике запрещается использовать понятие актуальной бесконечности, закон исключительного третьего в рассуждениях о бесконечных множествах и т. д. Методологические основания науки представляют собой принимаемые в рамках той или иной науки представления о методах открытия и получения истинного знания, способах доказательства и обоснования отдельных компонентов теории и теорий в целом и т. д. Очевидно, что методологические основания науки могут не совпадать, быть различными не только в разных науках (например, в естественных, математических, технических и гуманитарных), но и в одной и той же науке на разных стадиях ее развития. Так, например, имелось существенное различие в методологических основаниях древнегреческой и древнеегипетской геометрии. Столь же существенным было различие в методологических основаниях физики Аристотеля и физики Галилея—Ньютона. Наконец, ценностные, или аксиологические, основания науки представляют собой принятые представления о практической и теоретической значимости науки в целом или отдельных наук в системе духовной и материальной культуры, о целях науки, о научном прогрессе, его связи с общественным прогрессом, об этических и гуманистических аспектах науки и т. д.
Рассматривая механизм влияния философии на науку, необходимо иметь в виду существенные различия в характере, способах и силе этого влияния в зависимости от уровня научного познания (теоретическое или эмпирическое), этапа развития науки (нормально-эволюционный или кризисно-революционный), степени ее зрелости (ранняя или имеющая развитый концептуальный аппарат). Такой дифференцированный подход позволяет выработать более конкретное представление о механизме влияния философии на развитие и функционирование конкретно-научного познания. Так, имеется существенное различие в характере влияния философии на теоретический и эмпирический уровни познания в науке. Содержание эмпирического познания определяется в основном непосредственными данными наблюдения и эксперимента, а также частично — его теоретической интерпретацией с позиции определенной частно-научной теории. Содержание же теоретического уровня научного познания существенно определяется его связью не только с эмпирическим знанием, но и с философией. Связь с философией необходима для научной теории как на этапе ее возникновения, так и на этапе ее обоснования. Именно теоретики науки чаще всего обращаются к философии и ее проблематике. На эмпирическом же уровне познания непосредственное влияние философии если и имеется, то только в качестве критико-рефлексивной деятельности, но не в плане обоснования знания,
Различной является также сила влияния философии на эволюционной стадии науки и в период научных революций. Это связано с тем, что эволюционный период в развитии науки представляет собой период реализации тех возможностей, тех потенций, которые были заложены в принятой данной наукой системе ее исходных абстракций и идеализации. Эти концептуальные образования играют в структуре науки роль ее фундаментальных внутринаучных или собственных оснований. Они выполняют не только функции интег-ративного и организующего начала познавательной деятельности в конкретной науке определенного периода, но и охранительные, защитные функции, отторгая проникновение в нее чуждых, дезорганизующих элементов, разрушающих достигнутую в ней целостность
Глава 1. Вззимовтнвшение философии и науки: основные концепции
и гармонию. В эволюционный период развития науки ее собственные теоретические основания выполняют роль своеобразного экрана и одновременно фильтра. С одной стороны, они отторгают иррелевантные данной науке внешние факторы, а с другой — пропускают через себя те воздействия и, в частности, те философические концепции, которые имманентны имеющимся собственным теоретическим основаниям. Таким образом, в эволюционные периоды развития науки влияние на нее философии и других факторов социокуль-туры во многом является внешним, несущественным и уж во всяком случае контролируемым со стороны науки, которая не допускает проникновения в нее идей, противоречащих ее собственным основаниям. Вот почему в структуре стандартной науки трудно выделить и сформулировать явным и однозначным образом ее философские основания. Последние оказываются как бы снятыми в ее собственных теоретических основаниях.
Другое дело — периоды научных революций, когда происходит отказ от ранее принятой научной теории, выработка данной наукой новых собственных теоретических оснований и их обоснование. Здесь наука становится открытой к философии, которая оказывает на нее существенное влияние. Особенно это относится к так называемым глобальным научным революциям, когда происходит смена господствовавшей научной картины мира или смена идеалов и норм научного исследования. Яркими примерами подобных глобальных научных революций являются: коперникан-ско-галилеевско-ньютонианская революция в естествознании XVIII в., революции в физике и математике в конце XIX — начале XX в., современная научно-технологическая революция. Возникающие в ходе таких революций собственные теоретические основания наук во многом несовместимы со старыми и требуют для своего обоснования выхода в область более общих, философских принципов и представлений. Попытки ряда авторов (например, Т. Куна) ограничиться в объяснении научных революций только представлением их в качестве своеобразных внутринаучных мутаций выглядят уходом от раскрытия их действительного механизма.
Таким образом, анализ природы философского и конкретно-научного знания, механизма их функционирования и развития показывает, что несмотря на качественное отличие между ними, а во многом и благодаря ему, философия и конкретные науки вынуждены обращаться друг к другу. Реальное отношение между ними не может быть понято ни с позиций редукционизма, ни с точки зрения абсолютной автономии. Взаимосвязь между философским и конкретно-научным знанием носит характер диалектического единства качественно различных уровней в рамках общего рационального способа познания как целого. Как и всякое диалектическое единство, единство философского и конкретно-научного знания является опосредованным. Прежде всего, таким специфическим концептуальным образованием как «философские основания науки». В силу качественного различия конкретно-научного и философского знания они не могут быть соотнесены друг с другом непосредственно. Конкретно-научное знание может выступить как подтверждение или опровержение некоторой философской концепции не само по себе, а лишь после его философской интерпретации. С другой стороны, и философия может оказать влияние на конкретную науку не непосредственно, а только в результате либо ее философской интерпретации, либо соответствующей научной конкретизации философской теории. Важнейшим следствием опосредствованного характера взаимосвязи философского и конкретно-научного знания является отсутствие между ними однозначной связи.
Наряду с философскими основаниями науки, другим важнейшим когнитивным посредствующим звеном между философским и частно-научным знанием являются философские проблемы науки. В чем отличие последних от философских оснований науки? Во-первых, они отличаются по логико-синтаксической форме. Тогда как философские основания науки суть некоторые утверждения, философские проблемы науки — вопросительные предложения. Например: какова структура физической реальности? (Онтологическая философская проблема физики.) Какова логика квантовой механики? (Логическая проблема физики). Отражает ли что-нибудь математическое знание в объективной реальности и если да, то что именно? (Гносеологическая проблема математики.) Во-вторых, имеется различие в концептуальной структуре философских оснований и философских проблем науки. Тогда как первые непосредственно связаны только с фундаментальными понятиями научных теорий, философские проблемы науки могут включать в свой состав также и производные понятия науки, ее так сказать «теоремную часть». Многообразие философских проблем конкретных наук ставит проблему их классификации, упорядочения по типам. Среди основных форм классификации можно выделить следующие: 1) в зависимости от специфики содержания философской части проблемы (онтологические, гносеологические, логические, методологические, онтологические); 2) в зависимости от специфики содержания конкретно-научной части проблемы (философские проблемы физики, биологии, химии, психологии, истории и т. д.); 3) в зависимости от направленности возникновения и целей исследования (от философии к науке или от науки к философии).
Ясно, что все эти классификации не исключают друг друга и могут быть совмещены в рамках более сложной и полной классификации. Существование различных типов философских проблем науки требует для их решения привлечения в каждом случае специфического философского и конкретно-научного инструментария.
Вместе с тем, необходимо учитывать при постановке и решении любой философской проблемы науки ряд общих методологических положений независимо от ее конкретного содержания. Главное из них состоите том, что любая философская проблема науки представляет собой специфическую познавательную реальность: органический, диалектически-противоречивый синтез философского и конкретно-научного знания. Дело в том, что входящие в состав единой философской про- 671 блемы науки философские и конкретно-научные понятия имеют с семантической точки зрения существенно различные характеристики. В отличие от конкретно-научного знания, особенно от строгих математических и естественно-научных теорий, многие философские категории по своим семантическим характеристикам весьма близки к понятиям обыденного (естественного) языка с его открытостью, отсутствием жестких значений терминов, существенной описательностью и содержательностью рассуждений и др. Эту семантическую гетерогенность философских проблем науки важно четко осознавать, чтобы не впадать в иллюзию логических позитивистских или аналитических философов, что философскую проблему можно решить с помощью только логического или лингвистического анализа языка.
Наконец, третьим важным когнитивным звеном, опосредующим отношение между философией и наукой, выступает такая комплексная дисциплина как «философия науки». Ее основными задачами являются: систематическая философская рефлексия над наукой, вписывание достижений науки в наличный социокультурный контекст эпохи, осуществление синтеза философского и частно-научного знания. Рассмотрим взаимоотношение между философией и наукой на примерах взаимодействия философии с теориями классического и современного естествознания. Как известно, парадигмальными науками классического естествознания являлись механика Ньютона, классическая космология, электродинамика Максвелла, термодинамика Клаузиуса, теория эволюции Дарвина, физиология Павлова, теория бессознательного Фрейда и др. Несмотря на очевидное содержательное различие перечисленных концепций классического естествознания, все они исходили из неких общих философских принципов, которые считались единственно верными. Это принцип детерминизма, господства однозначных причинно-следственных отношений между явлениями природы; принцип «чистой» объективности научного знания и его абсолютной истинности; принцип невозможности альтернативных научных теорий об одном и том же предмете; принцип непрерывного, постепен-
Глава 1. Взаимоотношение рлосорн и науки: основные конценцнн
ного развития науки; принцип наличия универсального научного метода; принцип прогрессивного развития научного знания и др.
Чему учат нас современные концепции естествознания? Прежде всего тому, что всему естественнонаучному знанию, всему развитию науки присущи скачки, революционные концептуальные изменения, что возможно принятие качественно несовместимых с прежними теориями концепций в одной и той же области науки. Классической механике Ньютона, господствовавшей в Европе в качестве непререкаемого эталона научной истины более чем 200 лет, были выдвинуты в качестве альтернативных теорий механического движения специальная и общая теория относительности и квантовая механика. В отличие от механики Ньютона, специальная теория относительности утверждает изменяемость пространственных промежутков и временных интервалов, зависимость их друг от друга и от скорости движения тел. С точки зрения теории относительности о пространственных и временных свойствах тел самих по себе ничего определенного сказать нельзя, а можно — только по отношению к выделенной конкретной системе отчета. В механике Эйнштейна утверждается также, что и масса тел меняется вместе со скоростью их движения, и поэтому говорить что-либо о массе тела самого по себе'вне отнесенности его к какой-либо системе отсчета также бессмысленно, как и в отношении пространства и времени. Пространство, время и массу тел Эйнштейн лишил абсолютной субстанциальности, сделав их атрибутивными, относительными свойствами тел, значение которых существенно зависит от выбора наблюдателем некоторой системы отсчета.
При этом все наблюдатели, утверждая разные значения пространства, времени и массы одних и тех же тел относительно своих систем отсчета, будут одинаковы правы, если не сделали ошибок в вычислениях. Более того, в рамках общей теории относительности Эйнштейна утверждается, что пространственные и временные свойства событий зависят не только друг °т друга и от выбора системы отсчета (возможность 073
абсолютной, привилегированной системы отсчета в механике Эйнштейна полностью отвергается как вне-эмпирическое допущение), но и от влияния на них других масс или тяготения. Сам факт возникновения и принятия научным сообществом механики Эйнштейна утвердил, во-первых, принципиальную возможность и правомерность в науке альтернативных теорий об одной и той же предметной области, а, во-вторых, не абсолютно истинный характер физических истин, а лишь — относительно-истинный. При этом релятивизм отнюдь не означает утверждение субъективного характера научного знания, а лишь отрицает его объективно-трансцендентальный характер. Следующий революционный шаг в развитии естествознания, в становлении неклассической науки был связан с возникновением и утверждением квантовой механики — другой фундаментальной концепции современного естествознания. Если Эйнштейн разрушил веру в трансцендентальный, абсолютный характер научного знания, в возможность абсолютно-истинной научной картины мира, то создатели квантовой механики Бор, Гейзенберг, Борн, де Бройль и др. подорвали всеобщность и непререкаемость другого фундаментального онтологического принципа классического естествознания — принципа детерминизма, принципа господства в природе причинно-следственных законов, имеющих необходимый характер связи причины и следствия («причина всегда с необходимостью порождает свои следствия», «следствие всегда есть необходимый результат какой-то причины»). Этой концепции, получившей название лапласовского детерминизма, до конца своей жизни придерживался Эйнштейн. Так что и в науке можно быть революционером в одном деле и консерватором в другом. И это для большинства ученых не исключение, а скорее — правило, ибо радикальное отрицание чего-то существующего конструктивно возможно только на основе безусловного принятия каких-то позитивных утверждений в качестве истинных.
В отличие от классической механики, в квантовой механике выдвигается положение о принципиально вероятностном характере поведения любых физических тел, а не только микрообъектов, как это иногда полагают. Невозможность однозначного описания движения тел связана с теми ограничениями, которые накладывает принцип неопределенности Гейзенберга на возможность одновременно абсолютно точного измерения многих сопряженных величин, входящих в физические законы. Согласно этому принципу, невозможно например одновременно точно измерить координату и скорость (или импульс) тела и тем самым однозначно предсказать его будущее состояние. Нижняя граница неопределенности определяется весьма небольшой величиной — постоянной Планка, но преодолеть это значение невозможно в принципе. Таким образом, согласно квантовой механике, условия физического познания мира задают возможность описывать его адекватно только вероятностно. Необходимые же законы, которыми оперирует классическая наука, суть не что иное как огрубленное, неадекватное описание действительности, которое, правда, часто целесообразно из прагматических соображений простоты, когда для многих случаев успешной практики не требуется абсолютной точности. Квантовая механика решительно сформулировала перед философией и наукой важный и для философии и для науки тезис: с точки зрения возможностей человеческого познания мир — индетер-министичен, им управляет вероятность, а не необходимость, а в основе вероятности лежит множество случайных событий. Кроме того, квантовая механика научила философию еще двум принципиальным вещам. Первая. Для большинства объектов и систем невозможно их единственное непротиворечивое описание, поскольку многие из них имеют частично или полностью взаимоисключающие свойства: например фотоны и электроны обладают и корпускулярными и волновыми свойствами. Поэтому полное их описание возможно только в виде двух дополняющих друг друга картин: волновой и корпускулярной. Свойства волны и частицы являются у элементарных объектов диспозицион-ными, а реально они проявляют себя всегда либо как волны, либо как корпускулы. А как конкретно они себя проявят в каждом случае, зависит от условий их познания, в частности, от условий наблюдения с помощью различных приборов. Таким образом, с точки зрения квантовой механики физическая истина не только относительна, но и субъект-объектна, поскольку условия познания (наблюдения) существенно влияют на результат познания и не могут быть элимированы из последних в принципе, как это допускала классическая механика. И это — второй урок, преподанный квантовой механикой философии. Абстракция чисто объективного познания физической реальности при исследовании классических объектов с большими массами и относительно малыми скоростями (по сравнению со скоростью света) верна только с практической точки зрения (так как отвлечение от малых, с точки зрения макропрактики, величин значительно упрощает при этом описание реальности), но она неверна теоретически, с философско-гносеологической позиции. Таким образом, философские основания классической и неклассической механики не просто различны, но и отрицают друг друга, т. е. несовместимы.
Третьим показательным уроком динамики естествознания для философии явилось создание современной космологии, которая сознательно положила в фундамент своих философских оснований распространение принципа эволюции с живой природы также и на всю неживую природу, поместив начало его действия в точку сингулярности, т. е. в момент Большого Взрыва — начало образования нашей Вселенной. Более того, современная космология исходит не только из универсального характера действия принципа эволюции, но и вводит в число своих философских оснований так называемый антропный принцип, согласно которому эволюция во Вселенной носит целесообразный, направленный характер, целью которой является порождение разумных существ, человека, в частности. На языке теории систем и кибернетики это означает, что наша Вселенная по существу является системой с рефлексией, т. е. самопознающей и (с'амо)управляемой с самого начала своего возникновения (и в данном случае несущественно — с вмешательством Творца или нет). Как показывают многочисленные физические и
Глава 1- Взаимрртнашвнив рлосори и науки: основные концепции
математические расчеты, без допущения антропного принципа, или принципа рефлексивного характера Вселенной как системы, невозможно объяснить очень тонкий характер согласования многих многократно подтвержденных на опыте фундаментальных физических констант и законов. С точки зрения вероятностного мышления величина вероятности того, что эти тонкие физические согласования имеют случайный характер должна быть приравнена к нулю. С этих позиций взгляды ранних античных философов о разумном устройстве космоса и о «нусе» (Анаксагор) как об естественном объективном разуме — высшем законе Природы, равно как и взгляды объективных идеалистов об объективном (внечеловеческом) характере мышления не кажутся такими уж фантастическими и сказочно-умозрительными. Можно утверждать, что именно современная космология являет собой начало и яркий образец того, что многие философы (B.C. Степин и др.) называют постнеклассической наукой, приходящей на смену неклассической науке, парадигмальную основу которой составляли теория относительности и квантовая механика. Сущность современной постнеклассической науки действительно состоит в том, что она перешла к изучению сверхсложных, в высшей степени организованных систем, часто включающих в себя человека в качестве одного из важнейших элементов и подсистем (биосфера, геосфера, техносфера, экономика, глобальные проблемы и т. д.).
Наконец, последний и по времени и по важности из уроков современного естествознания для мировоззрения связан с возникновением и бурной экспансией во все фундаментальные области современной науки (механика, химия, биология, космология, техника) идей новой фундаментальной концепции современного естествознания — синергетики. Возникнув в 50-х годах XX века вначале как вполне безобидное распространение идей классической термодинамики на описание поведения открытых стохастических механических систем при взаимодействии их с окружающей средой путем обмена с ней энергией, массой и информацией, творцы синергетики (И. Пригожий, Г. Хакен, С. Курдюмов и др.) обнаружили, что в открытых диссипатив-ных системах в целом не действуют линейные зависимости при описании поведения отдельных элементов такой системы и системы в целом. Диссипативные системы эволюционируют в целом не постепенно, а скачкообразно, траектории их эволюции всегда имеют выделенные точки (бифуркационные точки), где происходит «выбор» одной из множества возможных траекторий следующего этапа эволюции системы. В точках бифуркации выбор системой дальнейшей траектории движения определяется в целом случайным образом и не связан линейной или причинной зависимостью с ее предшествующими состояниями (в этих точках система как бы «забывает» весь свой прошлый опыт). Современное естествознание безусловно меняет свой концептуальный облик, переходя при описании движения и взаимодействия своих объектов с языка линейных уравнений и причинно-следственных зависимостей на язык нелинейности и кооперативных, резонансных связей между объектами. Фактически, налицо новая революция в естествознании, по своей методологической значимости ни в чем не уступающая появлению в свое время таких теорий как неевклидова геометрия, эволюционная теория Дарвина, теория относительности и квантовая механика. Новая парадигма современного естествознания — синергетика — является выражением, обоснованием и универсализацией идеологии нелинейного мышления в науке, основанного на признании фундаментальной и творчески-конструктивной роли случая в мире природы, значимость и вес которого в структуре бытия, по крайне мере, не меньше законосообразности, а тем более — необходимости. По существу, квантовая механика нанесла лишь первый и притом отнюдь не смертельный удар по лапласовско-му детерминизму. По-настоящему это сделала лишь синергетика, изящно и естественно объяснив вторич-ность порядка по отношению к хаосу, возможность математически обосновать происхождение первого из второго (а, впрочем, откуда же было, спрашивается, и взяться порядку как не из хаоса).
глава т. Взаимоотношение рлосорн и науки: основные концепции
Конечно, об уроках, преподанных философии развитием современного естествознания, можно говорить всерьез только с позиций философии, ориентированной на науку, как на один из важнейших элементов своего концептуального и проверочного базиса. Для сторонника антиинтеракционистской концепции соотношения философии и науки, драма научных идей, перипетии эволюции естествознания никакого существенного отношения к философии не имеют. С этих позиций философия для решения своих проблем может и должна черпать силы только из самой себя. Наука, как оказалось, переменчивая в своих взглядах, не может быть твердым основанием для истинной философии. Антиинтеракционисты видимо правы, предостерегая философию от безоглядного, некритического взгляда на науку, а тем более от когнитивного пресмыкания перед ней. Но и полное абстрагирование от опыта научного познания, одного из важнейших культурных институтов вряд ли уместно для тех, кто претендует на серьезную философию. Различие, как известно, не только не исключает, но и требует определенной кооперации для более эффективного существования в рамках целого, функции которого человечеством возложены на культуру. Мудрость случайной кооперации, пожалуй, не ниже знания причинной необходимости. По крайней мере, если считать всеобщее учение о бытии (онтология) необходимым и. важным разделом философии, вряд ли можно надеяться на серьезное принятие онтологических построений философии без соответствующего их соотнесения с теми концепциями о бытии, которые поставляет современное естествознание.
Однако, современное естествознание не только преподало определенные «уроки» философии, но и само получило их от нее. Если исходить из того, что главной задачей философии является построение общих рациональных моделей основных типов отношения человека к окружающему его миру, то одними из главных уроков, которые преподала философия современному естествознанию следующие: 1) утверждение концепции непричинного отношения между бытием и сознанием (в том числе между объектом и научным знанием о нем); 2) утверждение взгляда о конструктивном и творческом характере мышления по созданию моделей объекта и теоретически возможных миров; 3) утверждение принципиально плюралистичной природы философии и предлагаемых ею решений собственных проблем; 4) осознания точечного, селективного, а отнюдь не фронтального воздействия философии на развитие и функционирование естественно-научного познания как в диахронном (историческом), так и в синхронном аспектах их взаимодействия; 5) необходимость осознания социальной, коллективной природы научного познания, для функционирования которого социокультурный контекст науки, коммуникационные связи и консенсус в достижении и утверждении научной истины играют не меньшую роль, чем сам предмет (объект) той или иной естественной науки и получаемая о нем эмпирическая информация. И самый главный урок, преподанный философией современной науке заключается в том, что как бы не велика была относительная самостоятельность и мощь науки и ее роль в развитии цивилизации, ученые всегда должны помнить, что их главное предназначение — способствовать продолжению человеческого рода, росту не только его материально-энергетического, но и духовного могущества.
НА ПУТИ К ЕДИНСТВУ ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНПЙ И ГУМАНИТАРНПЙ КУЛЬТУРЫ
Проблема диалога культур является, возможно, центральной проблемой наших дней и важнейшей из оставленных «в наследство» нашему, XXI веку веком ушедшим, XX.
Конечно, эта проблема далеко не исчерпывается вопросом об отношении естественно-научной и гуманитарной культуры. В своем полном виде она может трактоваться и как проблема соотношения науки в целом с миром художественного творчества или даже еще шире — как проблема соотношения науки, искусства и религии'. А в своем глобальном выражении она вообще выходит на проблему, названную популярным современным американским политологом С. Хантингтоном «столкновение цивилизаций»2. Но и взятая в таком, сравнительно узком аспекте, она чрезвычайно актуальна и важна. Немало бед, видимо, удалось бы избежать человечеству в XX в., если бы отношения между представителями этих двух культур строились не на началах противостояния и вражды, а на пути конструктивного диалога и сотрудничества.
| 2 См. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М: УРСС, 2003. |
О расколе двух культур (естественно-научной и гуманитарной) как тревожном факте жизни современной цивилизации активно заговорили где-то на рубеже 60 —70-х гг. XX в. У многих на памяти яркие выступления известного английского писателя и ученого Ч.П. Сноу, подытоженные им в книге именно с таким названием — «Две культуры»'. Но уместно будет заметить, что не он один забил в это время в колокола. Например, в эти же годы выдающийся американский ученый-медик и гуманист Ван Ронселлер Поттер в целой серии выступлений и публикаций, сложившихся затем в книгу с не менее знаменитым названием «Биоэтика — мост в будущее», призвал к полной трансформации сферы этического на базе современной биологии (и других естественных наук) как путь решения все той же центральной проблемы — наведения моста между двумя культурами (естественно-научной и гуманитарной)2. Не случайно поэтому, что тема эта проходит как сквозная через работы 70-х гг, XX в. многих выдающихся ученых современности. Достаточно назвать имена только таких лауреатов Нобелевской премии как В. Гейзенберг, И. Пригожий и К. ЛоренцЗ. А в 80 — 90-е гг. задача выработки единого языка (или хотя бы немногих языков) широкого междисциплинарного общения как абсолютно необходимого условия решения важнейших глобальных проблем современности осознается в научном мире как центральная задача наших дней.
| 2 См. Поттер Ван Ранселер. Биоэтика: мост в будущее. Киев, 2002. 3 См., напр., Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое, М: Наука, 1989; Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. М: Прогресс, 1986; Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М: Республика, 1998. |
Эта озабоченность выдающихся ученых нашла живой отклик в широких кругах общественности и была связана с осознанием того, что западная цивилизация в своем триумфально развитии путем научно-технического прогресса неожиданно подошла к некоему критическому рубежу. Неуклонный рост населения, хищническое истребление невозобновимых природных ре-
Глава 1. Взаимоотношение философии и вар: оеввввыв концепции
| ' Лоренц К. Указ. соч. С. 4 — 61. 2 Печчеи А. Человеческие качества. М: Прогресс. С. 259 — 280. 3 Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизацион-ные разломы. Эколого-политологический анализ // Вопросы философии, 1995, № 1. 4 См., например, Отчет о деятельности Римского клуба за 25 лет // Вопросы философии, 1995, № 3. |
сурсов, катастрофическое загрязнение природной среды промышленными и бытовыми отходами, разрушение естественных биоценозов и многое многое др. — все это вдруг было осознано как неумолимая неотвратимость, грозящая человечеству неслыханными бедами. Стали появляться публикации, проводиться международные конференции по так называемым «глобальным проблемам человечества»; возникли первые международные неправительственные организации, объединяющие крупнейших ученых, общественных деятелей, мыслителей-гуманистов (одной из наиболее известных и авторитетных организаций такого рода явился знаменитый Римский клуб), которые стали проводить в жизнь широкомасштабные программы по исследованию и разъяснению необходимости принятия самых неотложных и радикальных мер по предотвращению наступающих кризисов. Крупнейшие ученые буквально забили в набат, предлагая самые радикальные рецепты спасения человечества. К. Лоренц оповестил мир о «восьми смертных грехах цивилизованного человечества»'. Аурелио Печчеи— создатель и многолетний лидер Римского клуба, сформулировал шесть стартовых целей для человечества2. Академик Н.Н. Моисеев наметил пять основных направлений деятельности, которые могли бы лечь в основу того, что он называл Стратегией выживания человечества3. Можно было бы привести много и других примеров. Но сейчас важнее обратить внимание на другое. С тех пор прошло уже не одно десятилетие. За это время, безусловно, многое было сделано, и были получены некоторые обнадеживающие результаты4. И тем не менее основные угрозы человечеству не только не были преодолены, но даже не отодвинуты. И есть все осно
| 1 Павленко А.Н. «Экологический кризис» как псевдопроблема // Вопросы философии, 2002. № 7. |
вания считать, что сейчас мы оказались в ситуации, когда вновь требуется возвращение, так сказать, к истокам, к поиску корней и первопричин цивилиза-ционных кризисов, как уже переживаемых человечеством, так и тех, что грозным призраком выступают из будущего. Как совершенно справедливо пишет отечественный исследователь этих проблем А.И. Павленко, «для решения проблемы преодоления кризиса созданы многочисленные международные организации, издаются тысячи периодических изданий, собираются конгрессы, пишутся воззвания и декларации. Между тем проблема до сих пор не только не решена, но, вполне возможно, во всей своей полноте еще даже и не осознана, а кризис оказывается «удаленным» от своего преодоления сегодня еще больше, чем это было на момент начала его осознания — 1960— 1970-е гг.»'. Действительно, на сегодня очевидно, что практический успех в решении глобальных проблем напрямую зависит от дальнейшей углубленной теоретической проработки этих проблем, которые все носят,— и это сейчас совершенно очевидно,— в высшей степени комплексный и междисциплинарный характер. Несмотря на совершенно неоспоримую мощь современных методов математического и компьютерного моделирования, сами по себе они не всемогущи. А методология исследования такого рода проблем, особенно в части, затрагивающей тонкие содержательные аспекты, до сих пор далека от ясности. И в немалой степени это проистекает как раз из отсутствия до сих пор надлежащего взаимопонимания между представителями двух научных культур — естественно-научной и гуманитарной. Ядром всех этих проблем, вне всякого сомнения, является проблема человека как центральная комплексная и междисциплинарная научная проблема наших дней. «Ибо, — как писал А. Печчеи еще в 70-е годы,— суть проблемы, которая встала пред человеком на нынешней стадии его эволюции, заключается именно в том, что люди не успевают адаптировать
Глава 1. Взаимоетввшевив взилвсввзии и науки: основные концепция
свою культуру в соответствии с теми изменениями, которые сами же вносят в этот мир, и источники этого кризиса лежат внутри, а не вне человеческого существа, рассматриваемого как индивидуальность и как коллектив. И решение всех этих проблем должно исходить прежде всего из изменения самого человека, его внутренней сущности»1. Между тем, как показывает анализ дискуссионной литературы по проблеме человека, столь стремительно нарастающей в последние десятилетия, современная наука находится еще весьма далеко не только от ее решения, но и от сколь-нибудь приемлемого единства в понимании ее сути. В настоящее время ощущается настоятельная потребность в дальнейшем продумывании самой сути проблемы человека как целостного, единого во всех своих измерениях космобиопсихосоциального существа. В качестве важнейших этапов и связующих звеньев, способных объединить усилия представителей самых разных наук и научных культур (как естественно-научной, так и гуманитарной) должна явиться дальнейшая углубленная проработка проблем гуманизма и научной рациональности как высших ценностей европейской цивилизации, а в современных условиях,— вне всякого сомнения,— и всего человечества2. А это, в свою очередь, предполагает дальнейшее наращивание усилий по прояснению вопроса о самой природе разрыва, раскола двух культур — естественно-научной и гуманитарной, его истоков, оснований, форм выражения, как непременного условия осознания возможных путей преодоления этого раскола.
Науки о природе и науки о культуре: конфликт двух культур — в чем его суть?
| 1 Печчеи А. Указ. соч. С. 14. 2 Лебедев С.А. Концепции современного естествознания и философия // Концепции современного естествознания. М., 2004. |
Как подчеркивают многие авторы, истоки раскола двух культур лежат глубоко в недрах процесса формирования европейской науки Нового времени, а некоторые исследователи относят их даже к античности, к особенностям формирования первых научных и философских программ древних греков. Наверное, это так и есть, но для наших целей нет необходимости углубляться в столь далекие времена, поскольку действительно масштабное и развернутое выражение этого раскола и четкое его философское осмысление происходит на исходе XIX и в самом начале XX в. К этому времени завершилось формирование того, что сейчас называется классической наукой. В основных областях естествознания — физике, химии, биологии — были сформулированы фундаментальные обобщения (законы И. Ньютона в теоретической механике, уравнения К. Максвелла в электродинамике, система элементов Д.И. Менделеева в химии, теория эволюции живой природы Ч. Дарвина в биологии). Казалось, что все явления природы охвачены естественно-научным знанием, поняты в своем существе с единой точки зрения и выстроены в некоторую единую «картину мира». И что касается явлений природы, то казалось, что дело только за объяснением частностей и деталей конкретных явлений и в разработке практических, технологических приложений фундаментальных законов. На повестку дня, как актуальная, встала задача исследования и объяснения в ТОМ ЖЕ СТИЛЕ и явлений человеческого мира, самого человека и продуктов его деятельности, мира человеческой культуры. Вот это важно отметить: задача объяснения человека и человеческой культуры НАУЧНО, читай — ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНО, т. е. теми же познавательными средствами и в рамках тех же познавательных установок, которые продемонстрировали такую эффективность при изучении природы. Не случайно к этому времени появилось и получило чрезвычайную популярность целое направление в философии — позитивизм, представители которого пытались теоретически обосновать неизбежность такого поворота гуманитарной сферы к научной (т. е. естественно-научной) методологии познания. Начало этому, как известно, было положено еще в первой половине XIX в. философией О. Конта, в рамках которой всем системам человеческого знания как бы предписывалось проходить определенные стадии научной
| 1 Тэн И. Философия искусства. М.: Республика, 1996. С. 13. |
зрелости (от религиозно-мифологической к позитивно-научной), а все науки по степени их зрелости выстраивались в единую иерархию: от математики и астрономии до социологии и этики. Во второй половине XIX в. это направление мысли получило мощное дальнейшее развитие в системе эволюционного натурализма Г. Спенсера, опиравшееся на авторитет эволюционной концепции Ч. Дарвина. Поскольку из теории Ч. Дарвина прямо вытекало, что человек со всеми его уникальными особенностями и способностями является прямым продуктом биологической эволюции, то Г. Спенсер и попытался одним из первых и вполне последовательно сделать все логические следствия для научного объяснения таких особенностей человека, как его социальность, этичность и т. д., исходя из дарвиновской концепции эволюции путем борьбы за существование и естественного отбора. Это направление мысли получило чрезвычайную популярность и авторитет во второй половине XIX в. В качестве примера можно привести высказывание одного из самых известных и авторитетных гуманитариев этого времени — французского историка и философа И. Тэна: «новый метод, которому я стараюсь следовать и который начинает входить во все нравственные науки, — писал он,— заключается в том, чтобы смотреть на человеческие произведения, и в частности на произведения художественные, как на факты и явления, характерные черты которых должно обозначить и отыскать их причины, — более ничего. Наука, понимаемая таким образом, не осуждает и не прощает... Она поступает, подобно ботанике, которая с одинаковым интересом изучает то апельсиновое дерево и лавр, то ель и березу; сама она — нечто вроде ботаники, только исследующей не растения, а человеческие произведения. Вот почему она следует общему движению, которое в настоящее время сближает нравственные науки с науками естественными и, сообщая первым принципы, благоразумие и направление последних, придает им ту же прочность и обеспечивает за ними такой же успех»1.
И вот в этих условиях перед гуманитариями и философами, интуиции которых претила такая установка на превращение социальных и гуманитарных наук в раздел естествознания, встала серьезная проблема: а насколько обоснованы эти притязания естественнонаучного метода на объяснение мира человеческой культуры и если эти притязания не обоснованы, то чем культура качественно отличается от природы, а науки о культуре (гуманитарные науки) от наук о природе (естественных наук)? Чтобы сделать рассмотрение этих принципиальнейших вопросов более живым и предметным, ограничимся примером только двух выдающихся представителей этого направления мысли — В. Дильтея и Г. Риккерта.
Одним из первых к рассмотрению этой проблемы обратился крупный немецкий историк и философ В. Дильтей (1833— 1911). В работе «Введение в науки о духе» он категорически противопоставил всю совокупность наук, имеющих своим предметом социально-историческую реальность, названных им обобщенно «науки о духе», естествознанию или «наукам о природе». Логика его аргументации может быть изложена следующим образом. Исходно, говорит Дильтей, любая действительность — будь то природная или социальная — дана нам постольку, поскольку она осознается нами в виде наших переживаний. Но если естествознание конституируется установкой на впечатления, идущие от внешнего мира (природы), то «науки о духе» конституируются благодаря переключению внимания на те психические события и действия, которые могут быть названы «внутренним миром человека». «Еще и не думая исследовать происхождение духовной сферы, человек,— обращал внимание Дильтей,— обнаруживает в своем самосознании такую суверенность воли, такое чувство ответвенности за свои действия, такую способность все подчинить своей мысли и всему противостоять в неприступной крепости своей личностной свободы, которые и отделяют его от всей природы... И поскольку для него существует только то, что стало фактом его сознания, в этом его самостоятельном внутреннем духовном мире — вся ценность, вся
| ' Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX —XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987, С 115. 2 Там же. С. 117. |
цель его жизни, а в создании духовных реальностей — весь смысл его действий. Так среди царства природы он творит царство истории, где прямо в гуще объективной необходимости, какою предстает природа, бесчисленными там и здесь проблескивает свобода»1. Эти факты внутреннего опыта и являются материалом для построения гуманитарных наук или «наук о духе». «И пока никто не заявит, — говорит Дильтей,— что он в состоянии вывести всю совокупность страстей, которую мы называем жизнью Гете, из строения его мозга и из свойств его тела... самостоятельный статус подобных наук не может быть оспорен. А поскольку все для нас существующее держится на этом внутреннем опыте и все, что для нас обладает ценностью или является целью, дано нам как таковое только в переживаниях наших ощущений и движений воли, то в вышеописанной науке залегают первопричины нашего познания, определяющие, в какой мере существует для нас природа, и первопринципы наших действий, объясняющие наличие целей, интересов и ценностей,— основы всего нашего практического общения с природой2. Но в соответствии с такой спецификой предмета гуманитарных наук ее метод также качественно отличается от естественно-научного метода. Если в естествознании главным является объяснение, т. е. подведение явления под общий закон (или совокупность законов), то в гуманитарных науках главным является понимание, т. е. умение видеть за событиями движение ищущего человеческого духа. Проникнуть в «переживание» исторического человека позволяет, по Дильтею, лишь то же «переживание» исследователя. В основе исторического процесса скрывается, считает он, тайна и приоткрыть ее дано лишь подобному же началу. Здесь творческая стихия в науке ведет беседу (диалог) с творческой стихией в человеке и его истории.
Другой вариант аргументации в защиту тезиса о полной автономии гуманитарных наук развил в те же годы один из лидеров баденской школы неокантианства Г. Риккерт (1863— 1936). В отличие от Дильтея он предпочитал именовать гуманитарные науки не как «науки о духе», а как «науки о культуре» (почему для нас сейчас это несущественно). В работе, которая называется «Науки о природе и науки о культуре», Г. Риккерт также начинает с выражения резкого неприятия той мощной волны позитивизма и натурализма (т. е. попыток распространить естественно-научный метод и на сферу человеческой культуры), которая возникла во 2-ой половине XIX в., и с констатации того, что гуманитарные науки (или науки о культуре) не имеют еще ясного сознания основ своей самостоятельности, автономности и независимости от естествознания. А поскольку принято различать науки как по предметам, так и по методам, то он и предпринял попытку поиска решающего отличия «наук о природе» от «наук о культуре» как с материальной (т. е. предметной), так и с формальной (т. е. методологической, по методу) точек зрения.
Г. Риккерт обращает внимание, что естествознание конституировалось в единую область благодаря достижению единства в понимании сути того главного, что характеризует предмет его интересов, — природы. И это понимание наиболее кратко и точно, считает он, выразил в свое время И.Кант, определив природу как «бытие вещей, поскольку оно определено общими законами»». С этой точки зрения, говорит Риккерт, единственным понятием, которое логически противостоит природе, это понятие ИСТОРИИ как единичного бытия во всей его неповторимой индивидуальности. Решающий же шаг в его аргументации заключается в том, что, с его точки зрения, исторический метод в собственном смысле слова имеет место только в связи с понятием человеческой культуры. Главное же отличие культуры от природы заключается в том, что, если явления природы возникли как бы «сами собой», то явления культуры всегда продукты целенаправленной и ценностно-ориентированной человеческой деятельности.
Глава I На жри it единству зстествеиив-щчивй и гуманитарной культуры
«Как бы широко мы ни понимали эту противоположность, — пишет Г. Риккерт, — сущность ее остается неизменной: во всех явлениях культуры мы всегда найдем воплощение какой-нибудь признанной человеческой ЦЕННОСТИ, ради которой эти явления или созданы, или, если они уже существовали раньше, взлелеяны человеком; и наоборот, все, что возникло и выросло само по себе, может быть рассматриваемо вне всякого отношения к ценностям, а если оно и на самом деле есть не что иное, как природа, то и должно быть рассматриваемо таким образом1. «Легко показать, — продолжает он далее эту мысль, — что эта противоположность природы и культуры...действительно лежит в основе деления наук. Религия, церковь, право, государство, нравственность, наука, язык, литература, искусство, хозяйство, а также необходимые для его функционирования технические средства являются, во всяком случае на определенной ступени своего развития, объектами культуры или культурными благами в том смысле, что связанная с ними ценность или признается значимой всеми членами общества, или ее признание предполагается2. Так было найдено предметное основание для различения «наук о природе» и «наук о культуре».
| 1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре.— М.: Республика, 1998. С. 55. 2 Там же. С. 55 — 56. |
Что же касается формального критерия, то вкратце оно сводится к следующему. Целью естественных наук является познание общих законов природы, поэтому ее метод может быть назван генерализирующим (обобщающим). Индивидуальное интересует естествознание только в качестве представителя определенного класса явлений, только как определенный экземпляр ТИПА явлений. Историю же, напротив, интересует именно индивидуальное и неповторимое. История, как выражается Риккерт, «не хочет генерализировать так, как это делают естественные науки». Но с другой стороны, она не может интересоваться всем и стремиться изобразить все события человеческой жизни — это попросту физически невозможно. Следовательно, должен существовать какой-то принцип выборки, отбора материала. И он действительно существует: из всей необозримой массы индивидуальных объектов и событий историк всегда останавливает свое внимание только на тех, которые в своей индивидуальности воплощают определенные культурные ценности. Поэтому, как замечает А.Ф. Зотов, поясняя эту мысль Риккерта, «переход Цезаря через Рубикон есть, безусловно, историческое событие, а переход через эту же реку стада коров таковым не сочтет никто»1. Ясно, что в силу своей ЗНАЧИМОСТИ для всей последующей общественной жизни человечества переход Цезаря через Рубикон стал явлением историческим. «Итак,— говорит Риккерт,— понятие культуры дает историческому образованию понятий такой же принцип выбора существенного, какой в естественных науках дается понятием природы как действительности, рассматриваемой с точки зрения общего (законов). Лишь на основе обнаруживающихся в культуре ценностей становится возможным образовать понятие доступной изображению исторической индивидуальности»2. Но с другой стороны, становится ясным, что только человеческая культура представляет собой подлинно ИСТОРИЧЕСКИЙ универсум, т. е. единственный в своем роде процесс последовательного созидания явлений и институтов, являющихся носителем определенных ценностей, процесс, который в этой связи и сам наполняется глубоким смыслом и значимостью, чем он и отличается от просто эволюционных процессов, протекающих в природе, в том числе в эволюции живой природы.
| 1 Зотов А.Ф. Генрих Риккерт и неокантианское движение // Там же, где Риккерт Г. С. 9. 2 Риккерт Г. Указ. соч. С. 91. |
Дав на этих двух примерах возможность прочувствовать живую ткань весьма продуманной аргументации, сформулируем обобщенную картину тех основных оппозиций, по которым, как выяснилось, происходит раскол двух культур — естественно-научной и гуманитарной.
Глава Z. На пути к единству вствстввинр-научнрй и гуманитарий культуры
По предметному основанию:
1) Если природа выступает в естествознании всегда в виде объекта познания, независимого от познающего его субъекта, то в гуманитарной области субъект сам становится предметом познания самого себя.
2) Если природа внеисторична, то культура — это и есть исторический процесс созидания все новых и все более совершенных форм значимостей и смыслов.
3) Если природа есть царство необходимых законов, то культура — продукт деятельности свободного человека.
4) Если в природе господствует причинность, причинные отношения и взаимодействия, то культура есть продукт деятельности человека, преследующего всегда определенные цели и руководствующегося при этом определенными нормами, идеалами 'и ценностями.
5) Если, говоря предельно общим языком, природа есть сфера бытия (сущего), то культура— это прежде всего сфера должного, ценностно нагруженного.
По методологическому основанию:
1) Если целью познания в естественных науках является открытие и формулирование общих законов, то целью гуманитарных наук является познание индивидуальных, всякий раз уникальных в своей неповторимости явлений человеческой культуры.
2) Если главной операцией, с помощью которой постигаются конкретные явления природы в рамках естествознания является их ОБЪЯСНЕНИЕ (как частных случаев общих законов), то главной операцией в сфере гуманитарного знания является ПОНИМАНИЕ культурно-исторических явлений путем постижения того смысла, носителями которого они являются, методами диалога, эмпатии (сочувствия, со-переживания), герменевтики (истолкования, интерпретации) и др.
Все эти оппозиции (а число их, видимо, можно увеличить) стали предметом как тщательного анализа, так и ожесточенных дискуссий в течение всего XX в. Их не мог обойти вниманием ни один сколь-нибудь крупный ученый-исследователь или философ, ни одно направление как в области специфически человековед-ческой проблематики (философская и культурная антропология, этнография, этнология и пр.), так и в области теоретической культурологии. Из авторов, внесших наиболее значительный вклад в дальнейшее прояснение всей этой проблемной области еще в первой половине XX в., заслуживает быть отмеченным прежде всего Э. Кассирер (1874— 1945). В своей монументальной трехтомной «Философии символических форм» и особенно в некоторых последующих трудах («Логика наук о культуре», «Натуралистическое и гуманистическое обоснование философии культуры» и др.). Э. Кассирер, опираясь на труды своих предшественников (В. Диль-тея, Г. Риккерта, Э. Гуссерля и др.), во-первых, существенно углубил понимание логико-методологической специфики понятий теории культуры (таких, как форма, стиль, композиция и др.) на фоне и в сопоставлении с фундаментальными понятиями классического естествознания (вещь, закон, причинность, пространство, время и др.), а, во-вторых, одним из первых (если не первым) выявил глубокие парралели между понятиями теории культуры и понятиями нового, только нарождающегося тогда неклассического естествознания (релятивистские понятия пространства и времени, неоднозначная, статистическая причинность в квантовой теории, понятие целостности живого в теоретической биологии, структуры (гештальта) в гештальт-психологии и др.). Тем самым он с полным правом может рассматриваться как основоположник современного (как мы увидим далее) подхода и современного стиля рассмотрения проблемы соотношения двух культур.
В 50 — 60-е гг. эта работа была продолжена, с одной стороны, в русле набиравшего тогда силу и популяр-нось структурализма (К. Леви-Стросс и др.), а, с другой,— по линии дальнейшей разработки проблематики герменевтики как специфического метода гуманитарных наук (Г.Г. Гадамер и др.). 70-е гг. XX в. были отмечены новой развилкой. В это время, с одной стороны, начинает набирать силу и популярность постструктуралистское и постмодернистское движение (М. Фуко, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида и др.), представители которого пошли по пути дальнейшей углубленной (но не всегда оправданной) проблематизации всей антропологической и гуманитарной проблематики, а, во-вторых, складывается движение нового (эволюционного) натурализма, представители которого увидели в новейших разделах естественных и математических наук (кибернетика, теория информации, синергетика, социобиоло-гия, этология и мн. др.) мощный ресурс для обогащения научного инструментария при исследовании проблем человека, общества, культуры и т. д. Результаты, полученные именно в рамках этого второго, натуралистического направления, дают все основания говорить, что естествознание XX в. сделало решительный шаг в направлении преодоления раскола двух культур. И главный парадокс состоит в том, что процесс этот идет в направлении, обратном по отношении к ожиданиям позитивистов XIX в. Они ведь, как мы теперь знаем, ожидали, что по мере своего как бы «взросления» социально-гуманитарные науки все более и более будут приобретать тот образ «настоящей науки», который приобрели к середине XIX в. все естественные науки, т. е. освобождаться от всякого налета телеологии и аксиологии, этих, как тогда считалось, чисто мифологических и антропоморфических пережитков; и что это даст возможность объяснять социальные и культурные явления и институты на основе чисто причинных взаимодействий и законов (вспомним И. Тэна). Нужно со всей определенностью подчеркнуть, что эти ожидания не явились полностью беспочвенными. Более того, они во многом оправдались. Но процесс развития наук в XX в. приобрел значительно более сложный, неожиданный и интересный характер. Вскрытие причинных механизмов и формулировка законов функционирования общественных явлений и артефактов культуры вовсе не потребовали отказа от понимания их как продуктов свободной творческой человеческой деятельности, наполненных глубоким смыслом и значимостью. Более того, сами естественные науки по
мере вовлечения в орбиту своих научных интересов все более сложных и все более системно организованных объектов все чаще стали допускать в состав своих фундаментальных теорий и объяснительных схем такие понятия, которые, как думалось раньше, являются исключительной прерогативой наук о человеке и гуманитарных наук, в том числе и понятия истории, цели, смысла, значимости, ценности и др. А это означает, что природа в естествознании конца XX —начала XXI в. вдруг обнаруживает черты, близкие человеку, человеческому миру, а научная картина мира, которая складывается на наших глазах, включает в себя и природу, и человека, и культуру как органически взаимосвязанные части единого в своей основе целостного Универсума. Представляется, что развитие науки XX в. (и здесь особое место принадлежит биологии) дает веские основания считать, что раскол между естествознанием и гуманитарной сферой если и не преодолен, то во всяком случае решительно и неумолимо начинает преодолеваться. Этот процесс идет на самых разных уровнях общности и в самых разных формах: и на уровне чистой логики, когда, опираясь на известные результаты в области модальной и деонтической логик, делаются попытки доказательства ложности противопоставления, скажем, объяснения пониманию (и наоборот) и, соответственно, естествознания гуманитарному знанию; и на более конкретном уровне построения теоретических моделей возникновения, функционирования и эволюции сложных систем любой природы в рамках кибернетики, теории информации, синергетики и других междисциплинарных подходов и направлений в науке 2-й половины XX в.; и наконец, на уровне теоретических идей и построений в рамках более специальных областей физики, биологии, культурной антропологии, психологии и т. д., (скажем, квантово-ре-лятивистская космология и астрофизика, этология и генетика поведения животных и человека, социобио-логия, гуманистическая психология и т. д.), из которых выстраивается современная научная картина мира и человека, самым радикальным образом отличающаяся от той, из которой исходили участники дискуссий по проблемам соотношения «наук о природе» и «наук о культуре» первых десятилетий XX века.
Пожалуй, самые радикальные и наиболее определенные и неоспоримые изменения в этой картине произошли по линии «внеисторическая природа — историческая культура». С объединением идей теории относительности и квантовой механики, физики элементарных частиц и космологии в рамках теорий Большого взрыва, расширяющейся и раздувающейся Вселенной и других (что окончательно обрело свои очертания в рамках «стандартных» вариантов этих теорий лишь к середине 80-х гг. XX в.) все известные уровни структурной организации Универсума: от элементарных частиц, атомов, молекул и молекулярных комплексов до звездных и звезднопланетных систем, от простейших органических молекул, самовоспроизводящихся химических гиперциклов до живых организмов и биосферы в целом, от первых предгоминидов до человека и человеческого общества современного типа, от простых коммуникативных сигналов до человеческого языка, от первых проблесков сознания до наивысших продуктов духовной творческой деятельности — все это предстает в современной картине мира как части единого в своей каузальной и номонологической основе Космоса и как последовательные этапы процесса его эволюционно-исторического развития, длящегося, приблизительно, 15 миллиардов лет. В последнее десятилетие ушедшего века весь этот богатейший материал из различных областей естествознания XX в. был подвергнут глубочайшей теоретической проработке с позиций синергетики, динамики нелинейных систем и теории информации. В работе В. Эбелинга, А. Эн-геля, Р. Файстеля «Физика процессов эволюции. Си-нергетический подход» представлен один из таких грандиозных опытов синтетического, междисциплинарного подхода к теоретической реконструкции процесса эволюционно-исторического развития Универсума как единого целого по линии: космическая эволюция (от Большого Взрыва до образования химических элементов, на одном уровне, и звезд и планет — на другом); химическая эволюция (вплоть до об-
разования сложных органических соединений); геологическая эволюция (образование структур земной коры, гор, воды и т.д.); возникновение и эволюция протоклетки; дарвиновская эволюция видов животных и растений; также экосистем живой природы; эволюция человека (развитие труда, языка и мышления); эволюция общества; эволюция информации и обмена информацией (обогащение и хранение знания, развитие связи, науки и т.д.). «Исследование процессов эволюции, — формулируют свое кредо авторы, — принесли в физику новое мышление и новый метод работы, которые до того были достоянием только биологических и общественных наук: историческое мышление и исторический метод... Авторы настоящей книги убеждены, что перед эволюционными методами открывается прекрасное будущее, и усматривают в их разработке основное назначение физики процессов эволюции»1.
Серьезные коррективы в классической трактовке природы научной деятельности произошли в науке XX в. и по линии «объект — субъект». Первый серьезный удар по наивно-догматическому представлению классической науки о возможности (и даже необходимости) четкого проведения разграничительной линии между субъектом и объектом познания, как известно, был нанесен копенгагенской интерпретацией квантовой механики. Хотя статус этой концепции в деталях до сих пор вызывает разногласия и обсуждается, основной урок, вытекающий из нее и сформулированный В.Гейзенбергом в словах: «Мы должны помнить, что то, что мы наблюдаем, — это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов»2, — вряд ли на сегодня может быть оспорен.
| 1 См. Эбелинг, Энгель А., Файстель Р. Физика процессов эволю-• ции.'Синергетический подход. М., 2001. С. 10. . 2 Гейзенберг В.. Указанное сочинение. С. 27. |
С другой стороны, развитие психологии показало, что, вопреки сторонникам «понимающей психологии» начала XX в. (противопоставлявших ее «объясняющей психологии», ориентированной на методы и идеалы научного познания естественных наук XIX в.), внутренний, субъективный, душевный и духовный мир человека вполне доступен объективирующему научному познанию методами эмпатии и психоаналитической герменевтики. Так, выдающийся американский психолог, представитель гуманистического направления в психологии XX в. К. Роджерс в статье «К науке о личности» подчеркивал: «Это направление ведет к НАТУРАЛИСТИЧЕСКОМУ (выделено нами), эмпатичес-кому, тонкому наблюдению мира внутри значений индивида. Таким образом, вся сфера человеческих состояний в полном своем объёме открывается для исследования...
Это течение содержит в себе истоки новой науки, которая не побоится заниматься проблемой личности — личности как наблюдателя, так и наблюдаемого, — используя как субъективное, так и объективное познание. Оно проводит в жизнь новый взгляд на человека как на субъективно свободного, выбирающего, создающего свое «Я», ответственного за него»1.
| 1 Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии. Тексты. М.: МГУ, 1986. С. 213. |
Не менее напряженные и интересные дискуссии шли в XX веке и по линии других выделенных выше оппозиций: «необходимость— свобода», «причинность — телеология» (или, по другой терминологии, — «каузальность— целевой подход»), «фактическое — должное», а также оппозиции «объяснение — понимание», которая в известной мере интегрирует все предыдущие оппозиции, выражает их в обобщенной форме. Эта проблема оказалась в центре внимания специалистов по логике и философии науки в 60 — 70-х годах XX в. В связи с тем, что в эти годы шел процесс интенсивного становления таких новых систем логики как деонтическая логика, логика норм и оценок, модальная логика и др., появилась надежда на общее решение проблемы чисто логическими средствами. О стиле и возможностях этого подхода можно составить представление по работам А.А. Ивина, давно и плодотворно работающего в этой области1.
| 1 См., напр., Ивин А.А. Ценности в научном познании // Логика научного познания. Актуальные проблемы. М., 1987; Иви-нА.А. Истина и ценность // Мораль и рациональность. М., 1995 и др. 2 Ивин А.А. Ценности и проблема понимания // Полигнозис, 2002, № 4. „С. 137. |
В одной из своих последних публикаций он предпринял решительную попытку обосновать положение о единстве естественно-научного и гуманитарного знания, исходя из тезиса о том, что объяснение и понимание есть универсальные операции мышления, взаимно дополняющие друг друга. «Долгое время, —отмечает он, — вни противопоставлялись одна другой. Так, позитивизм считал объяснение если не единственной, то главной функцией науки, а философская герменевтика сферу объяснения ограничивала естественными науками и понимание выдвигала в качестве основной задачи наук гуманитарных. Сейчас становится все более ясным, что операции объяснения и понимания имеют место в любых научных дисциплинах — и естественных, и гуманитарных — и входят в ядро используемых ими способов обоснования и систематизации знания»2. В основе рассуждений А.А. Ивина лежит концепция двойственности всех принципов и общих законов научной или иной теории. Это означает, что все они представляют собой описательно-оценочные (или дескриптивно-прескриптивные) выражения. В зависимости от ситуации своего использования они или описывают или оценивают, но нередко даже знание ситуации не позволяет с уверенностью сказать, какую из этих двух функций выполняет рассматриваемое выражение. Решающим пунктом в этой концепции является утверждение, что моральные принципы также относятся к двойственным выражениям. В них содержится описание сферы моральной жизни и опосредованно этими же принципами предписываются определенные формы поведения. Таким образом «проблема обоснования моральных принципов — это проблема раскрытия
| 1 Ивин А.А. Истина и ценности. С. 40 — 42. |
их двойственного, дескриптивно-прескриптивного характера. Принцип морали напоминает двуликое существо, повернутое к действительности своим регулятивным, оценочным лицом, а к ценности — своим «действительным», истинностным лицом: он оценивает действительность с точки зрения ее соответствия ценности, идеалу, образцу и одновременно ставит вопрос об укорененности этого идеала в действительности»1. То же верно и для общих утверждений естествознания, хотя в обычной практике научного познания явно доминирует их описательная функция. Начало было положено возникновением кибернетики и теории информации. Кибернетика ввела и легализовала применительно к описанию природных (и прежде всего — живых) процессов такие телеологические понятия как «цель», «функция», а теория информации такие казалось бы сугубо аксиологические и гуманитарные понятия как «ценность» и «смысл». Долгое время, особенно в отечественной литературе, значимость кибернетики и теории информации для преодоления раскола двух культур рассматривался лишь с точки зрения возможности повышения уровня строгости и точности рассуждений в тех разделах гуманитарных наук («науках о культуре»), в которых можно было продуктивно пользоваться их методами. Но у этого процесса была и другая сторона. Использование понятий и методов кибернетики и теории информации в технической сфере и в области естествознания означало наделение чисто человеческими чертами не только живые организмы (и живые системы вообще), но и не живые автоматические системы. В свое время это вызвало целую бурю возражений со стороны механистически — позитивистски ориентированных философов науки. Реки чернил были затрачены на то, чтобы доказать, что все эти телеологические, семантические и аксиологические понятия в применении к живым формам и техническим системам имеют смысл не более как «эвристических метафор», что все они используются в естествознании сугубо «в условном смысле». Строились
| '* Чернавский Д.С. Информация, самоорганизация, мышление. С. 153. |
хитроумные логические схемы, чтобы продемонстрировать полную сводимость телеологических утверждений (даже и применительно к описанию поведения человека и человеческих действий, не говоря уже о просто живых организмах или искусственных автоматических устройствах) в сугубо причинные. Однако, вопреки ожиданиям, этот процесс экспансии телеологических и аксиологических понятий при НАУЧНОМ описании сложных естественных систем любой природы со временем только усилился. И в настоящее время, когда появилась возможность объединения методов теории информации, нелинейной динамики и теории самоорганизации (т. е. синергетики) для построения конструктивных моделей происхождения жизни, сознания, мышления, языка, культуры и т. д,, эти вопросы вновь стали в высшей степени злободневными. В самом деле, становится все более очевидным, что центральным базовым понятием при научном осмыслении феноменов жизни, сознания, мышления является понятие информации. Но не просто информации, а информации осмысленной и ценной. Ценность же информации зависит от цели, с которой эта информация используется. И тогда, как пишет известный отечественный специалист по биофизике Д.Г. Чернавский, вновь «возникнет вопрос: могут ли другие живые существа, включая простейших, ставить перед собой цель? Ответ известен: главная цель — выживание — имеется у всех живых существ. У человека она, как правило, осознана; у простейших — не осознана, но это не значит, что она отсутствует. Отсюда ясно, что ценность информации — понятие содержательное и даже необходимое для описания живой природы. Оно связано с высшим свойством живой природы — способности живых существ к целеполаганию»1. Именно такое понимание информации, как подчеркивает Д.Г. Чернавский, «позволяет понять такие тонкие явления как возникновение жизни и механизма мышления с естественно-научной точки зрения. Иными словами — построить мост между естественными науками и гуманитарными»'.
| 2 См. Wilson Я. О. Sociobiology. The New Synthesis, Cambridge (Mass.) et al., 1975. |
В этом мощном процессе взаимного сближения методов и концептуальных оснований естественных и гуманитарных наук особое место принадлежит современной биологии, точнее, — той обширной междисциплинарной сферы научного исследования мира чисто человеческих и гуманитарных ценностей (политики, морали, познания, языка, мышления, художественного творчества и пр., и пр.), основу и центральное ядро которой составляет современная биология в целом и дарвиновская теория эволюции путем естественного отбора (в ее современной генетической интерпретации, разумеется) в особенности. Именно с возникновением и бурным развитием в последней четверти XX в. этой сферы заговорили о возрождении натуралистической линии в философии, о современном эволюционном натурализме. Имея в виду, однако, что современный эволюционизм явно приобрел «глобальный» характер, эту часть эволюционистской натуралистической философии, возможно, уместнее именовать, -~- как это все чаще делается в последнее время, — биофилософией. В широком общественном сознании факт ее рождения обычно связывается с выходом в свет в 1975 г. книги известного американского энтомолога Э. Уилсона «Со-циобиология. Новый синтез»2, породившей, с одной стороны, целое «социобиологическое движение», а с другой, — вызвавшей целую бурю протестов и различных критических отзывов. В чем только не обвиняли Э. Уилсона и других социобиологов: в генетическом детерминизме, биологическом редукционизме, попытке полной замены философской этики биологической наукой и т. д., и т. п., не говоря уже о чисто политических и идеологических обвинениях и ярлыках. Какая-то доля вины за это совершенно превратное понимание целей и задач социобиологии лежит, правда, и на самом Уилсоне, который в первых своих публикациях (в том числе и в монографии «Социобиология. Новый синтез») не скупился на такие размашистые формулировки, призывы и обещания, как создать «новую науку о человеке», «изъять этическую проблематику у философии и биологизировать ее», «превратить все гуманитарные науки в один из разделов этологии, одного из видов животного царства на Земле» и т. д. Между тем, как выяснилось, социобиология вовсе не собирается покушаться ни на один из результатов философии, этики, культурной антропологии и любой другой гуманитарной дисциплины. В ее притязаниях на объяснение этих феноменов понятийными средствами биологических наук (генетики, физиологии ВНД, теории естественного отбора и др.) не больше «незаконной» редукции и столь же мало претензий на «замену» социальных и гуманитарных наук биологией, чем содержащихся в биохимии и биофизике, в их попытках объяснить специфические биологические процессы в понятиях и терминах «обычных» физики и химии. Социобиология, как известно, интегрируете себе данные всего разветвленного комплекса биологических дисциплин, имеющих отношение к социальному поведению различных групп живых организмов (этологии, приматологии, зоопсихологии и многих др.). А по мере все более полного и все более достоверного накопления этих данных становилось все более очевидным как широко представлены в живой природе черты поведения, которые человек в течение тысячелетий склонен был считать «сугубо человеческими» (например, взаимопомощь, забота о потомстве, ухаживание, альтруизм и др.). Важным этапом на пути к социобиологии явилось построение строгих генетико-популяционных моделей эволюционного формирования таких «человекоподобных» форм поведения, формируемых и закрепляемых механизмами дарвиновского естественного отбора (родственный отбор, реципрокный отбор и др.). А поскольку никакого сомнения в- том, что человек также является продуктом биологической эволюции, быть не могло, возникал вопрос: как далеко можно было пойти
в понимании чисто человческих особенностей поведения (а в их существовании тоже сомневаться не приходится: ярчайшим свидетельством этого является, например, мораль), исходя из принципов дарвиновской теории эволюции? И вот здесь опять решающим обстоятельством явилось то, что в философии уже существовали достаточно разработанные теории морали. Как известно, наиболее влиятельными из них явились утилитаристская концепция этики, согласно которой ключом к справедливым поступкам является счастье, и что человек различает хорошие и дурные поступки (добро и зло) как раз в зависимости от того, увеличивают ли они количество всеобщего счастья или уменьшают; и, во-вторых, концепция все того же великого немецкого философа И. Канта, выдвинувшего свой знаменитый «категорический императив», согласно которому (по одной из формулировок) человек для другого человека всегда должен выступать только как цель, но не как средство. Совершенно очевидно, что и та, и другая этика описывают реальные принципы поведения людей, которые следуют им, чаще всего не отдавая себе в этом отчета.
С другой стороны, уже прочно утвердилось мнение, что человек (каждый индивид) появляется на свет отнюдь не в виде tabula rasa. Человек рождается снабженный не только большим набором инстинктивных реакций, но и с большим набором диспозиций (пред-расположенностей) вести себя определенным образом (строго ограниченным числом способов). Это не только не отрицает, но, напротив, предполагает важную (и даже во многом решающую) роль внешней среды, культурного воспитания ребенка для усвоения конкретных форм поведения. Тем не менее, как говорит М. Рьюз, наиболее знаменитый защитник правомочности эволюционной этики, «согласно современным эволюционным представлениям, на то, как мы мыслим и действуем, оказывает тонкое, на структурном уровне, влияние наша биология. Специфика моего понимания социального поведения может быть выражена в утверждении, что эти врожденные диспозиции побуждают нас мыслить и действовать моральным образом. Я полагаю, что,
Раздел VIII. Философия, паука, культура
поскольку действовать сообща и быть «альтруистом» — в наших эволюционных интересах, постольку биологические факторы заставляют нас верить в существование бескорыстной морали. То есть: биологические факторы сделали из нас альтруистов»1.
Совершенно поразительно, что сходным (до совпадения) путем рассуждений формировалась и современная биологическая (эволюционная) эстетика. Здесь также научные исследования многообразия эстетических мнений и оценок вскрыли поразительное единство некоторых общих принципов и критериев прекрасного, по которым представители различных этносов и культур оценивали те или иные выдающиеся произведения искусства. Все это приводило к мнению, что из всего множества эстетических теорий, разрабатывающихся философами в русле эмпиризма, платонизма, априоризма и т. д. наиболее убедительной является трансцендентальный подход все того же Канта. А если это так, то сразу же был поставлен вопрос о необходимости рассмотрения конкретных биологических гипотез, которые могли бы иметь отношение к трансцендентализму, в том числе и гипотез относительно принципа функционирования человеческого мозга. Так вот, биологические исследования последних десятилетий убедительно показали: мозг и процессы переработки информации в нем обладают следующими свойствами: они а) активны, б) ограничительны, в) установочны,
г) «габитутивны» (т. е. отдают предпочтение обработке
новых стимулов, а не тех, которые стали привычными),
| 1 Рьюз М. Эволюционная этика: здоровая перспектива или окончательное одряхление? // Вопросы философии, 1989, № 8. С. 39. 2 Пауль Г. Философские теории прекрасного и научное исследование мозга // Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики. М.: Мир, 1995. С. 26. |
д) синтетичны (т. е. склонны к отысканию целостных
образов — даже там, где их вовсе нет), е) предсказа-
тельны, ж) иерархичны, з) полушарно-ассиметричны,
и) ритмичны, к) склонны к самовознаграждению,
л) рефлексивны (самосозерцательны), м) социальны2.
Как известно, большей частью этих (или сходных)
свойств наделял человеческое сознание еще Кант. Что же касается общечеловеческих представлений о прекрасном, то и здесь, оказывается, выступают на сцену почти все эти свойства. Так, например, особенно важную роль в наших эстетических переживаниях играет «самовознаграждающая» переработка информации мозгом. И опять-таки это сильно напоминает одну из гипотез Канта. «Поскольку методы философской эстетики и естественных наук различны, — завершает свой обзор Г. Пауль, — такое совпадение результатов приобретает особое значение. Результаты эти можно считать убедительно подтвержденными, и поэтому они заслуживают пристального внимания. Впрочем, на фоне такого сходства возрастает также значение расхождений и несоответствий. Современная философская эстетика должна учитывать все важнейшие данные науки относительно того, как люди воспринимают мир, как они видят изображения, как слышат музыку, как выражают свои чувства и побуждения, как едят и как танцуют. Трансцендентальная философия задает некие рамки, в которых все эти результаты можно обсуждать. Наши восприятия и наше поведение отражают человеческую природу. Философия, не уделяющая этому обстоятельству должного внимания, безосновательна»1.
| 1 Там же. С. 26-27. 2 См. Lumsden С. and Wilson Е.О. Genes, Mind and Culture. Cambbridg (Mass.). 1981. |
Известная характеристика биофилософии как «моста», соединяющего генетико-органическую и социокультурную эволюцию, весьма быстро стала наполняться конкретным содержанием. Так, еще в начале 80-х гг. Е, Уилсон в соавторстве с молодым тогда физиком Ч. Ламсденом предложил теорию геннокультурной коэволюции, направляемой особыми эпигенетическими правилами2. Эта идея была использована Е. Уилсоном и М. Рьюзом для прояснения вопроса о возможных генетических механизмах фиксации человеческой способности (и даже потребности) поступать морально. Поскольку наличие эпигенетических правил означает попросту наличие некоторого рода врожденного начала в психике человека (как функции определенных участков мозга), которое направляет наше мышление, они сделали попытку показать, что и «принцип наибольшего счастья» утилитаристской этики и кантовс-кий «категорический императив» принимают форму вторичных эпигенетических правил. «Мы хотим сказать, — пишут они, — что мы, люди, осознаем эти моральные принципы в качестве части нашей врожденной биологической структуры. Несомненно, эти принципы влияют на наше мышление и поведение»1. Как пишет в одной из своих поздних публикаций Ч. Ламс-ден, «потребуется еще много дополнительных знаний и данных, прежде чем мы должным образом поймем корни и функции таких эпигенетических правил, особенно если они действуют внутри контекста геннокуль-турной коэволюции»2.
Таким образом, мы видим, что самим ходом развития науки XX в. был подготовлен решительный рывок к преодолению раскола двух культур — естественнонаучной и гуманитарной. Это преодоление обозначилось в последнее десятилетие этого века. На наших глазах рождается новый тип науки или, во всяком случае, новый тип научной деятельности, удачно символизируемой метафорой «моста в будущее», но, разумеется, нуждающейся в своей точной логической и логико-методологической экспликации.
| 1 Рыоз М., Уилсон Э. Дарвинизм и этика // Вопросы философии, 1987, № 1. С. 101. 2 Ламсдеи Ч. Нуждается ли культура в генах? // Эволюция, культура, познание. М., 1996. С. 137. |
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что проблема диалога культур является одной из центральных в жизни современного общества. И весьма отрадно, что именно через призму этой проблемы просматривают и оценивают смысл своей научной деятельности сами творцы и лидеры современных направлений в науке. Так например, вся работа «Оборотная сторона зеркала» К. Лоренца, положившая начало эволюционной эпистемологии, пронизана заботой — способствовать преодолению того трагического раскола двух куль
| 1 Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М,: Республика, 1998. С 260. |
тур, под знаком которого европейская наука существует со времен Г. Галилея. «Большая часть духовных болезней и расстройств,— писал он в этой работе,— ставящих под вопрос дальнейшее существование нашей культуры, касается этического и морального поведения человека. Чтобы принять против них надлежащие меры, нам нужно естественно-научное понимание причин этих патологических явлений; а для этого надо пробить стену между естественными и гуманитарными науками в том месте, где ее защищают с обеих сторон: естествоиспытатели, как известно, воздерживаются обычно от любых ценностных суждений, тогда как, с другой стороны, гуманитарные ученые во всех ценностных вопросах философии находятся под сильным влиянием идеалистического мнения, будто бы все объяснимое естественно-научным путем ipso facto должно быть безразлично к ценностям. Таким образом, зловредная стена укрепляется с обеих сторон как раз в том месте, где особенно необходимо ее разрушить...-Путь к самопознанию человека все еще прегражден глухой стеной. Мало, слишком мало тех, кто трудится, чтобы устранить это препятствие. Но число их все время растет, и вместе с убеждением, что судьбы человечества зависят от их успеха, растет их рвение в труде. Нет сомнения, что истина в конечно счете победит; остается мучительный вопрос: победит ли она, ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО»1. Той же заботой пронизана и работа наших ведущих ученых-синергетиков СП. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого и СП. Капицы «Синергетика и прогнозы будущего». Отметив, что «пожалуй, в полный рост проблема диалога двух культур, естественно-научной и гуманитарной, встала в нашем веке», они далее пишут: «В конце нашего века междисциплинарный синтез, направленный на выработку новых императивов развития, технологий выживания, идеологии XXI в., стал не игрой ума, не академической программой, родившейся в кабинетной тиши, а насущной необходимостью. К сожалению, «физики» и «ли-
рики» по отдельности не выдержали экзамена в XX веке. В следующем веке его придется сдавать вместе»1. И хотелось бы, чтобы человечество сдало его с честью.
| Словарь ключевых терминов
Аксиология — (от греч. Axios — ценность и logos — слово, учение) в общем случае — учение о ценностях; но весьма различным образом трактуемое в зависимости от общих исходных философских установок и предпосылок учения — от естественно-натуралистических до метафизически-религиозных.
Антиинтеракционизм — концепция соотношении философии науки, согласно которой философия и наука настолько различны по своим целям, предметам, методам, что между ними не может быть никакой внутренней взаимосвязи (представители экзистенциализма, философии культуры, философии ценностей, философии жизни и др.). Каждый из этих типов знания развивается по своей внутренней логике и влияние философии на науку, как и обратно, может быть только чисто внешним, иррелевантным или даже вредным для них обеих. «Философия — не научна, наука — не философична», — так можно сформулировать кредо антиинтеракционизма.
| 1 Капица СЛ., Курдюмов СМ., Малинецхий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: Наука, 1997. С. 11, 12. |
Антисциентизм — философская концепция, обосновывающая антигуманитарную сущность науки и технического прогресса в его современных формах. Наука с ее жестким рационализмом и стандартизацией не способна адекватно репрезентировать ценностный мир человека, его индивидуальный жизненный мир и свободу, без которых нет человеческой личности. Наука чужда человеку не только потому, что усредняет и стандартизирует всех, способствуя развитию тоталитарного сознания в обществе, но и из-за своих опасных технологических и экологических ' применений, когда партикулярная, краткосрочная выгода становится ведущим мотивом. Только гуманитарный, ценностный контроль за развитием науки со стороны всего общества способен как-то ослабить мощь взлелеянного наукой монстра научно-технического прогресса. Организационными формами протестного движения антисциентизма является различного рода религиозные, религиозно-экологические, антивоенные, анархистские течения. Биофилософия — вариант натуралистической (см. НАТУРАЛИЗМ) ориентации в философии, исходящий из убеждения, что исходным и центральным при решении мировоззренческих и смысложизненных проблем должно быть понятие ЖИЗНИ в ее научно-биологической интерпретации.
Герменевтика — один из главных методов гуманитарных наук, заключающийся в искусстве толкования и интерпретации текстов любой природы (т. е. литературных, религиозных, юридических и т. д.).
Гуманитарные науки — в широком смысле — науки о всех продуктах деятельности человека (науки о культуре). В более специальном смысле — науки о продуктах духовной творческой деятельности человека (науки о духе). Их обычно отличают от общественных (социальных) наук, изучающих различные стороны и институты экономической и социально-политической жизни человека (экономика, социология, политология и др.), а также от антропологии как общего учения о человеке как таковом.
Диалектическая концепция соотношения философии и науки — учение о взаимоотношении философии и науки, согласно которому они представляют собой качественно различные по многим параметрам виды знания, однако, внутренне взаимосвязаны между собой и активно используют когнитивные ресурсы друг друга в процессе функционирования и развития каждого из них. Это доказывается всей историей их развития и взаимодействия. Конкретным выражением внутренней взаимосвязи философии и науки является, с одной стороны, наличие слоя философских оснований у всех фундаментальных научных теорий, а с другой — слоя частно-научного знания, используемого в философской аргументации и построениях. Граница между философским и конкретно-научным знанием является исторически подвижной и относительной. Однако, она всегда имеет место, благодаря структурированности сознания и наличия в нем различных типов и слоев знания и ценностей. Философия выполняет по отношению к частным наукам интерпретативную, оценочную и общекультурную адаптивную функции. И это связано с тем, что наука есть органическая часть культуры, а с помощью философии культура рефлектирует себя как целое и свои основания. Вторым конкретным выражением необходимости внутренней взаимосвязи философии и науки является разработка такой
«кентавровой» области знания как «философия науки». Большой вклад в ее становление и развитие внесли как крупные философы (Платон, Аристотель, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Гегель, Кант, Рассел, Бергсон и др.), так и классики науки (Галилей, Ньютон, Эйнштейн, Пуанкаре, Гильберт, Бор, Гейзенберг, Пригожий, Моисеев и др.).
Естествознание — науки о природе (см. ПРИРОДА) в том числе и о человеке как ее части.
Кибернетика — наука о процессах и законах УПРАВЛЕНИЯ, протекающих в сложных динамических системах природы, общества и человеческой культуры на основе использования информации.
Культура — в широком смысле — вся совокупность продуктов материальной и духовной целенаправленной деятельности человека — от орудий производства, зданий, социальных институтов и политических учреждений до языка, произведений искусств, религиозных систем, науки, норм нравственности и права.
Метафизика — категория философии, имеющая два основных значения: 1) всеобщее, синтетически-априорное знание (философия в этом смысле есть синоним рациональной или теоретической метафизики); 2) философия, абстрагирующаяся при создании теоретических моделей мировоззрения от идеи развития, как всеобщего, необходимого и первичного свойства всех явлений и процессов (как материальных, так и духовных). Во втором значении термин «метафизика» ввел в свои построения Гегель, а после него в этом значении он употреблялся также и в марксистско-ленинской философии, а также других философских течениях (неогегельянство и др.). Бинарной оппозицией категории «метафизика» в ее первом значении является категория «апостериорное знание» или «конкретно-научное знание». Бинарной оппозицией категории «метафизика» во втором ее значении является термин «диалектика» как всеобщая теория развития, которую Гегель и марксисты рассматривали как единственную истинную философию и всеобщий метод мышления (правда, каждый в своей интерпретации).
Натурализм — (от лат. natura — природа) — в общем случае — философская позиция, считающая понятие ПРИРОДА исходным и главным при рассмотрении мировоззренческих и смысложизненных проблем и отвергающая при этом любые допущения о существовании каких-либо трансцендентных (сверхъестественных) сущностях, недоступных обычному научному познанию.
Наука — специализированная когнитивная деятельность сообществ ученых, направленная на получение нового научного знания о различного рода объектах, их свойствах и отношениях. Научное знание должно отвечать определенным критериям: предметности, воспроизводимости, объективности, эмпирической и теоретической обоснованности, логической доказательности, полезности. Сегодня наука является сверхсложной социальной системой, обладающей огромной степенью самоорганизации, мощной динамикой расширенного воспроизводства, результаты которой образуют основу развития современного общества.
Научное мировоззрение -— мировоззрение, ориентирующееся в своих построениях на конкретные науки, как на одно из своих оснований, особенно на их содержание как материал для обобщения и интерпретации в рамках философской онтологии (всеобщей теории бытия). Сама наука в ее современном понимании как опытно (экспериментально) —■ теоретическое (математическое) изучение различных объектов и явлений действительности в целом мировоззрением не является, так как, во-первых, наука изучает саму объективную действительность, а не отношение человека к ней (а именно эта проблема является основным вопросом всякого мировоззрения), а, во-вторых, любое мировоззрение является ценностным видом сознания, тогда как наука — реализацией его когнитивной сферы, целью которой является получение знания о свойствах и отношениях различных объектов самих по себе. Особенно большое значение для научного мировоззрения имеет его опора на знание, полученное в исторических, социальных и поведенческих науках, так как именно в них аккумулируется знание о реальных формах и механизмах отношения человека к действительности во всех ее сферах.
Объяснение — главная познавательная операция всех естественных наук (от физики до биологии, геологии и географии), заключающаяся в том, что любое природное явление, его свойства, изменения и пр. трактуются как прямое следствие «слепо» действующих материальных причинных взаимодействий в соответствии с определенными законами природы.
Позитивистская концепция соотношения философии и науки — концепция, возникшая в 30-х гг. XIX в. (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Ст. Милль) и получившая впоследствии широкое распространение в философии и среди ученых. Она состоит в утверждении приоритета частно-научного
познания по сравнению с традиционной философией. Последняя уничижительно объявляется позитивистами псевдознанием, мимикрией под науку, спекулятивным, умозрительным теоретизированием, не имеющим для современной науки не только никакого позитивного значения, а скорее — отрицательное, так как философский дискурс способен «заразить» науку вирусом псевдознания. Согласно позитивистам, чтобы исследовать научным способом природу, общество, познание и человека философия должна использовать для познания этих предметов научный метод, то есть наблюдение, обобщение и математическую формулировку своих законов. Пока этого нет— не существует и научной философии. «Наука — сама себе философия» (О. Конт), «Физика, берегись метафизики!» (И. Ньютон) — вот формулы позитивистского решения вопроса о соотношении философии и науки. Однако, все многочисленные попытки позитивистов построить научную философию или философию как одну из конкретных наук, отличающуюся от других только ее специфическим предметом (научная система мира — Г. Спенсер, методология науки — Дж. Ст. Милль, психология научной деятельности — Э. Мах, логико-математический анализ языка науки — М. Шлик, Б. Рассел, Р. Карнап, теория развития научного знания — К. Поппер и др., лингвистический анализ языка науки) закончились провалом. Наука принципиально не свободна от определенных философских допущений «метафизического» характера, что обусловлено целостностью функционирования человеческого сознания и внутренней взаимосвязью всех его когнитивных структур.
Понимание — главная познавательная операция гуманитарных наук, вытекающая из того, что любой материализованный продукт человеческой деятельности рассматривается как воплощающий в себе определенный замысел, цель его создателя; в таком случае «понять что-то» — значит проникнуть в смысл произведенного человеком, ответить на вопросы «зачем? », «для чего? » оно сделано, какую функцию выполняет, какую реализует в себе ценность и т. д.
Природа — в широком смысле — вся совокупность вещей, явлений и процессов, существующих по своим собственным законам до и независимо от человека и человеческого общества; природа в этом смысле, с одной стороны, выступает как необходимое условие существования человека, а с другой,— как потенциальный объект его практической и познавательной деятельности и материал для формирования КУЛЬТУРЫ.
Синергетика — наука о процессах и законах САМООРГАНИЗАЦИИ сложных нелинейных динамических систем в природе, обществе и человеческой культуре, находящихся в состояниях, далеких от термодинамических равновесных.
Социобиология — в широком смысле — исследование биологических основ всякого социального поведения (как в живой природе, так и в человеческом обществе). В более специальном смысле — исследование генетически-попу-ляционных механизмов формирования эгоистических и альтруистических форм поведения в живой природе на основе различных типов естественного отбора.
Сциентизм — философская концепция, заключающаяся в абсолютизации роли науки в системе современной культуры, в социальной и духовной жизни общества. В качестве образца науки сциентисты обычно рассматривают естественные математические и технические науки. Сциентисты полагают, что только наука способна дать ответ на все конкретные проблемы бытия. Одной из форм теоретического обоснования сциентистской позиции является позитивистская философия. Основой распространения сциентистских умонастроений в обществе явились огромные успехи частных наук в познании природы, общества, познания и человека. В то же время, недооценивая ценностные формы познания (философию, религию, мораль, искусство и др.), которые принципиально несводимы к объективному типу научного познания, сциентисты тем самым объективно принижают роль гуманитарной компоненты в развитии общества.
Телеология— (от греч. telos— цель, завершение, конец и logos — учение, слово) — в общем случае — такой способ понимания и объяснения явлений объективного мира и человеческой деятельности, при котором важное (иногда даже решающее) место отводится понятиям цели, функции, смысла, значения и т. д.
Технократизм — социально-философская концепция, преувеличивающая роль техники, технологий, ученых в развитии не только материальной деятельности человека, но и всей социальной жизни, общества в цаадм. Концепциям технократизма (К. Штайнбух, Г. Краух, Дж.Г. Гэлбертидр.) противостоят, с одной стороны, концепции приоритета духовных ценностей в жизни общества (религия, философия культуры, философия жизни, экзистенциализм), а с другой,— концепции сбалансированного взаимодействия технического прогресса и духовной сферы, осуществляемого
Раздел Vlll . Фидвсвфия, наука, культура
с позиций гуманизма, под контролем всего общества с помощью его демократических политических институтов.
Трансценденталистская концепция соотношения философии и науки — исторически первая, прошедшая длительную эволюцию от античности до нашего времени, до середины XIX в. занимавшая монопольное положение в культуре концепция, утверждавшая и обосновывавшая гносеологический и социокультурный приоритет философии («метафизики», «натурфилософии») по отношению к частным наукам. Сущность этой концепции выражена ее адептами в виде формул: «Философия— наука «наук»; « Философия — царица наук». На практике это приводило к навязыванию умозрительных философских схем бытия и познания частным наукам и стало существенным фактором, тормозящим развитие науки уже к середине XIX в. Наиболее яркими выразителями данной концепции явились Аристотель, Аквинский, Спиноза, Гегель, Шеллинг, ортодоксальные представители диалектического и исторического материализма и др. Хотя по мере эволюции трансценденталистской концепции, претензии ее представителей на универсальную, объективную и абсолютную истину философии были осознаны как несостоятельные, однако и сегодня философское знание объявляется ими имеющим более высокий гносеологический статус и общекультурное значение нежели частно-научное знание, интерпретируемое лишь как множество полезных инструментальных гипотез (Тейяр де Шарден и др.).
Философия науки — область философии, предметом которой является общая структура и закономерности функционирования и развития науки как системы научного знания, когнитивной деятельности, социального института, основы инновационной системы современного общества. Одной из важных задач философии науки является изучение механизма взаимоотношения философии и науки, исследование философских оснований и философских проблем различных наук и научных теорий, взаимодействия науки, культуры и общества. Основными разделами современной философии науки являются: онтология науки, гносеология науки, методология и логика науки, аксиология науки, общая социология науки, общие вопросы экономического и правового регулирования научной деятель-ности, научно-технической политики и управления наукой.
Философия — теоретическая форма мировоззрения, сосуществующая в человеческой культуре наряду с другими
Глава 2. На пути к Единству вствстввнно-научнвн и гуманитарной культуры
формами мировоззрения (обыденным опытом, религией, мифологией, искусством). Главная проблема мировоззрения — решение вопроса об отношении человека к окружающей его действительности (природе, обществу, другим людям, самому себе). Это отношение регулируется принятой (и определенным образом понимаемой) субъектом (отдельным человеком или некоторой социальной группой) системой общих ценностей (добро — зло, истина — ложь, гармония — дисгармония, долг — вседозволенность, любовь — ненависть, надежда — отчаяние, польза — вред, активность — недеяние и др.). Все формы мировоззрения (кроме обыденного) имеют специализированный характер, то есть обладают своим особым языком и методами решения мировоззренческих проблем. Отличительной чертой философии является ее теоретический характер. В решении различных мировоззренческих проблем (онтологических, гносеологических, этических, эстетических, экзистенциальных, праксеологических и др.) философия делает «ставку» на разум, понятийное мышление, доказательство как на главные средства их решения. В этом сила философии, но в этом же ее слабость по сравнению с другими формами мировоззрения, так как ценностные суждения трудно поддаются логическому обоснованию и принятию их на чисто рациональных основаниях. Поскольку философия не может быть в силу своей природы (стремление к всеобщему знанию) эмпирическим обобщением весьма противоречивого человеческого опыта, постольку единственным выходом для нее остается построение различных логически возможных теоретических, мировоззренческих схем, их анализ и сравнение в отношении лучшего решения тех или иных проблем. В силу своей природы философия не может не быть плюралистичной. Однако, с общеадаптационной точки зрения плюрализм философии является скорее положительной ее характеристикой, нежели отрицательной. Во-первых, потому что само человеческое сообщество слишком разнообразно и противоречиво внутри себя по своим ценностным характеристикам и установкам, которые поэтому в принципе не могут получить свое рациональное обоснование в рамках некой универсальной, а тем более «единственно-научной» философской системы. А, во-вторых, плюрализм философии является по-своему опережающим (избыточным) по отношению к реальной истории человечества, конструируя («заготавливая») заранее различные рациональные мировоззренческие схемы как ответы на любые возможные вызовы, ожидающие человечество.
Философская проблема науки — проблема, относящаяся к философским основаниям науки в целом, а также отдельных наук и научных теорий, философской интерпретации содержания фундаментальных теорий — логико-математических, естественно-научных, инженерно-технических, социальных и гуманитарных научных дисциплин. Примеры философских проблем науки: 1. Какова природа математического знания? 2. Каковы философские основания и сущность теории относительности и квантовой механики? 3. Что такое вероятность, детерминизм, индер-терминизм? 4. Какова роль случайности в эволюции любых систем вообще, биологических систем, в частности? 5. В чем специфика гуманитарного познания? И т. д. и т. п. Особенность философских проблем науки (ф.п.н.) состоит в том, что они являются комплексными, включающими в свой состав весьма разнородные когнитивные элементы — философские и конкретно-научные категории в их органическом единстве. Эффективное решение ф.п.н. требует профессионального знания как содержания определенной науки, ее истории, так и профессионального владения философским языком, умения философски мыслить. Разработка ф.п.н. способствует развитию как философии, так и конкретных наук. Большое место ф.п.н. занимают в деятельности крупных ученых-теоретиков, создателей новых научных концепций и направлений (Г. Галилей, И. Ньютон, А. Пуанкаре, В.И. Вернадский, Д. Гильберт, А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, Н. Бор, Н. Винер, П. Капица и мн. др.).
I Вопросы для обсуждения
1. Что такое природа? Что такое культура? Чем культура качественно отличается от природы?
2. Что такое естествознание? Чем науки о культуре (гуманитарные науки) отличаются от естествознания (наук о природе)?
3. Что такое объяснение как познавательная операция? Чем понимание отличается от объяснения?
4. Что такое кибернетика? Чем синергетика отличается от кибернетики?
Глава I На при к единству встестввнно-научнрй и гуманитарной культуру
5. Что такое герменевтика? Можно ли говорить о герменевтике применительно к явлениям природы?
6. Что такое социобиология? Каково ее значение для становления эволюционной этики?
7. Что такое эволюционная эпистемология? Каково значение идей И.Канта в ее становлении?
8. Каково содержание современного эволюционного натурализма? Каково место биофилософии в системе современного натурализма?
9. В чем суть конфликта между естествознанием и сферой гуманитарного знания?
10. Каковы основные направления преодоления конфликта двух культур (естественно-научной и гуманитарной) ?
11. Можно ли говорить о телеологии и аксиологии применительно к явлениям природы?
12. Сущность и основное содержание проблемы взаимоотношения философии и науки.
13. Трансценденталистская концепция соотношения философии и частных наук, ее сущность и основные этапы.
14. Позитивистская концепция соотношения философии и науки, ее гносеологические и социокультурные основания.
15. Антиинтеракционистская концепция соотношения философии и науки, ее сущность и гносеологические основания.
16. Диалектическая концепция взаимосвязи философии и науки. Ее сущность и гносеологические основания.
17. Механизм и формы взаимосвязи философского и конкретно-научного знания.
| Литература _______________________________
Бор Н. Избранные произведения. М., 1976. Борзенков В.Г. Биофилософия сегодня. М., 2006. Бройль Луи де. Революция в физике. ML, 1965. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М„ 1991.
Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М.,
1989.
Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Мир, 1993. Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. СПб., 2003. Капица СП., Курдюмов СП., Малинецкий ГГ. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997.
Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики. М.,
1995.
Лебедев С.А. Современная философия науки. М., 2007. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М., 1998. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М.,
2001.
Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее. Киев, 2002. Пуанкаре А. О науке. М., 1983.
Риккерт Г Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. Степин B.C. Философия науки. Общие проблемы. М.,
2006.
Фейнберг ЕЛ. Две культуры: интуиция и логика в искусстве и науке. М., 1992.
Философия науки: проблемы и перспективы. Круглый стол / Вопросы философии. 2006. № 10.
Философия науки и научно-технической цивилизации. Юбилейный сборник / Под общ. ред. Н.В. Агафоновой и др. М.,2005.
Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? М., 2002.
Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: наука о взаимодействии. М.; Ижевск, 2003.
Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория информации. М., 2001.
Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 4. М., 1967.
Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. СПб., 1995.
ПРИЛОЖЕНИЕ
1 Примерные темы докладов и рефератов
1. Моральные нормы и ценности «малой науки» и «большой науки».
2. Основные постулаты классической социологии знания.
3. Проблемы воспроизводства научных кадров.
4. Внутренняя и внешняя этика науки.
5. Античная наука: социально-исторические условия и особенности.
6. Гипотеза как форма развития научного знания.
7. Дедукция как метод науки и его функции.
8. Диахронное и синхронное разнообразие науки.
9. Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов.
10. Индукция как метод научного познания. Индукпия и вероятность.
11. Интерналистская и экстерналистская модели развития научного знания. Их основания и возможности.
12. Концептуальный каркас мертоновской социологии науки.
13. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого.
14. Императивы научного этоса.
15. Этические проблемы публикации результатов исследований.
16. Стратегия научного сообщества в отношениях с общественными движениями.
17. Главные изменения в подходе к научной политике на рубеже третьего тысячелетия.
18. Основания профессиональной ответственности ученого.
19. Основные линии вознаграждения ученого научным сообществом и их влияние на мотивацию ученых.
20. Основные механизмы этического регулирования биомедицинских исследований.
21. Основные типы коммуникадии в «невидимом колледже» и основные фазы его развития.
22. Способы передачи ценностей и моральных норм от предыдущего поколения к последующему.
23. Концепция несоизмеримости в развитии научного знания и ее критический анализ.
24. Логико-математический, естественно-научный и гуманитарный типы научной рациональности.
25. Метатеоретический уровень научного знания и его структура.
26. Методы метатеоретического познания.
27. Методы теоретического познания.
28. Методы философского анализа науки.
29. Методы эмпирического познания.
30. Механизм и формы взаимосвязи конкретно-научного и философского знания.
31. Миф, преднаука, наука.
32. Моделирование как метод научного познания. Метод математической гипотезы.
33. Наука и культура: механизм взаимовлияния.
34. Наука и общество: формы взаимодействия.
35. Научная деятельность и ее структура.
36. Научная рациональность, ее основные характеристики.
37. Научная теория и ее структура.
38. Научное объяснение, его общаяструктура и виды.
39. Научные законы и их классификация.
40. Неклассическая наука и ее особенности.
41. Объектная и социокультурная обусловленность научного познания и его динамики.
42. Основные концепции взаимоотношения науки и философии.
43. Основные модели научного познания: индуктивизм, гипо-тетико-дедуктивизм, трансцендентализм, конструктивизм. Их критический анализ.
44. Основные тенденции формирования науки будущего.
45. Основные уровни научного знания.
46. Основные философские парадигмы в исследовании науки.
47. Основные характеристики научной профессии.
48. Особенности древневосточной преднауки.
49. Особенности науки как социального института.
50. Постмодернистская философия науки.
51. Постнеклассическая наука.
52. Постпозитивистские модели развития научного познания (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, М. Полани, Ст. Тулмин, П. Фейерабенд).
53. Проблема преемственности в развитии научных теорий. Кумулятивизм и парадигмализм.
54. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней знания. Критика редукционистских концепций.
55. Социально-исторические предпосылки и специфические черты средневековой науки.
56. Социально-исторические условия возникновения новоевропейской науки.
57. Сущностные черты классической науки.
58. Сущность и структура теоретического уровня знания.
59. Сущность и структура эмпирического уровня знания.
60. Философские основания науки и их виды.
61. Эксперимент, его виды и функции в научном познании.
62. Этические проблемы взаимодействия ученого со средствами массовой информации.
63. Формализация как метод теоретического познания. Его возможности и границы.
64. Научные принципы и их роль в научном познании.
65. Понятие научного объекта. Типы научных объектов.
66. Подтверждение и фальсификация как средства научного познания, их возможности и границы.
67. Научное доказательство и его виды-
68. Интерпретация как метод научного познания. Ее функции и виды.
69. Системный метод познания в науке. Требования системного метода.
70. Научная практика, ее виды и функции в научном познании.
71. Основания научной теории.
72. Философские основания науки, их виды и функции.
73. Идеология науки и ее исторические типы.
74. Продуктивное воображение и когнитивное творчество в науке.
75. Инженерное проектирование, его сущность и функции.
76. Технико-технологическое знание и его особенности.
77. Философско-социальные проблемы развития техники.
78. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие позиции оценки роли науки в развитии общества.
79. Неявное и личностное знание в структуре научного познания.
80. Научный консенсус, его роль и функции в процессе научного познания.
81. Понятие научной революции. Виды научных революций.
82. Научная истина. Ее виды и способы обоснования.
83. Когнитивное творчество, его сущность, механизм и основания.
84. Субъект научного познания, его социальная природа, виды и функции.
85. Понятие социокультурного фона науки, его функции в развитии науки.
86. Проблема выбора научной гипотезы, основания и механизм предпочтения.
87. Школы в науке, их роль в организации и динамике научного знания.
88. Научные коммуникации, их виды и роль в функционировании и развитии науки.
89. Контекст открытия и контекст обоснования в развитии научного знания.
90. Наука и глобальные проблемы современного человечества.
91. Наука в зеркале социобиологии и экологии.
92. Гуманитарная и экологическая экспертиза научных проектов: состояние и перспективы.
93. Социальная и когнитивная ответственность ученого.
94. Научные коллективы как субъекты науки, их виды и способы организации деятельности.
95. Продуктивность и эффективность научной деятельности, способы ихизмерения и оптимизации.
96. Экспертная деятельность в науке и ее функции. Внутренняя и внешняя научная экспертиза.
97. Социальный характер научного познания.
98. Наука и ценности.
99. Когнитивные ценности и их природа.
100. Инновационная деятельность и ее структура.
101. Роль и функции науки в инновационной экономике.
102. Инновационная система современного общества и ее структура.
103. Наука как основа инновационной системы современного общества.
104. Философско-методологические проблемы интеллектуальной собственности.
105. Философско-правовые аспекты регулирования научной деятельности.
106. Управление и самоуправление в научной сфере.
107. Неклассическая наука и ее особенности.
108. Понятие науки.
109. Виды научного знания.
ПО. Критерии научности знания.
111. Идеалы и нормы научного исследования.
112. Естественно-научная и гуманитарная культура.
113. Позитивизм как философия и идеология науки. Критический анализ.
114. Современная научная картина мира.
115. Функции государства в управлении развитием науки.
116. Научная политика современных развитых стран.
117. Проблемы развития современной российской науки.
118. Наука и политика.
119. Наука и искусство.
120. Взаимоотношение науки и религии в современной культуре.
121. Социально-психологические основания научной деятельности.
122. Гуманитарные основания естествознания.
123. Понятие научного мировоззрения.
124. Понятие философской проблемы науки.
125. Философские проблемы науки и методы их исследования.
126. Философия науки: предмет, метод, функции.
127. Структура философии науки как области философского знания.
128. Организационная структура современной науки.
129. Философско-психологические проблемы научной деятельности.
130. Философские проблемы управления научными коллективами.
131. Классики естествознания и их вклад в философию науки.
132. Особенности гуманитарного знания.
133. Философские основания и проблемы социального познания.
134. Человек как предмет комплексного философско-научно-го исследования.
135. Философские основания и особенности математических и логических исследований.
136. Предмет и структура методологии науки.
137. Современные проблемы теории научного познания.
138. Этические проблемы науки.
139. Наука — основа развития современного общества.
140. Герменевтика как методология.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие........................................................................................... 3
ВВЕДЕНИЕ. ПОНЯТИЕ ИАУК1 7
Словарь ключевых терминов.......................................... ■.................. 25
Вопросы для обсуждения.................................................................... 30
Литература............................................................................................ 30
Раздел I
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НДУХМ
Генезис науки........................................................................... зз
Античная наука......................................................................... 42
Наука в Средневековье.................................................................. м
rrrrwi^
| ШЗ 5 |
Классическая наука.... ?s
Нешссическая наука................................................................... юз
Словарь ключевых терминов 133
___ Вопросы для обсуждения.................................................................. 136
ItO Литература.................................. :..................................................... 136
Раздел II
СТРУКТУРА, МЕТОДЫ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Уровни научного знания 139
Структура эмпирического знания...................................................... 141
Структура научной теории................................................................ 144
Соотношение эмпирии и теории ...................................................... 148
Метатеоретический уровень научного знания.................................. 155
Методы эмпирического исследования ш
Научное наблюдение......................................................................... 171
Сравнение........................................................................................... 174
Измерение........................................................................................... 176
Эксперимент....................................................................................... 185
Гносеологическая функция приборов............................................... 189
Абстрагирование и абстракция в структуре научного знания ... 200
Индукция............................................................................................ 211
Фальсификация................................................................................... 228
Экстраполяция.................................................................................... 230
Методы теоретического познания 232
Идеализация....................................................................................... 232
Формализация.................................................................................... 238
Математическое моделирование....................................................... 249
Рефлексия как основной метод метатеоретического познания
в науке.......................................................................................... 261
Развитие научного знания 278
Словарь ключевых терминов............................................................. 294
Вопросы для обсуждения.................................................................. 302
Литература......................................................................................... 303
Раздел III
НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
И 30,
лава 2
Социальные характеристики научной профессии.................................... 332
Структура массива публикаций......................................................... 338
Функции массива публикаций........................................................... 340
Типы коммуникации........................................................................... 349
Фазы развития научной специальности
(«невидимогоколледжа») .................................................................. 350
Наука и политика............................................................................... 353
Научное сообщество и общественные движения............................. 354
Наука и бизнес .................................................................................. 356
Новые вызовы..................................................................................... 358
Социальные особенности переднего края исследований.... 362
Структура научно-технического прогресса..................................... 364
Когнитивная социология науки - поиски идентичности.............................. 371
Словарь ключевых терминов............................................................. 377
Вопросы для обсуждения.................................................................. 384
Литература......................................................................................... 385
Раздел IV ЭША НАУКИ
Зтика как наука о морали 391
Моральный выбор и моральная ответственность............................. 398
Основания морали............................................................................. 402
Профессиональная ответственность ученого.......................................... 409
Ролевая структура научной деятельности........................................ 413
Мировоззренческий авторитет науки:
наука как источник блага............................................................. 427
Ценностные и моральные установки «большой
науки»................................................................................................. 431
Ценности науки и проблема социальной
ответственности.................................................................................. 436
Научно-технический прогресс и его моральные
проблемы.............................................................................. 442
Логика развития науки и проблемы социальной
ответственности.................................................................................. 446
Использование научных достижений и проблема
социальной ответственности.............................................................. 448
Свобода исследований и социальная
ответственность.................................................................................. 452
Этическое регулирование научных исследований ........................... 457
Словарь ключевых терминов.............................................................. 465
Вопросы для обсуждения................................................................... 467
Литература.......................................................................................... 468
Раздел V
НАШ - ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Сущность, основные этапы и закономерности становления
научно-технического потенциала (нтп) современных
развитых стран........................................................................ 471
Особенности современного этапа интеграции науки и
ПрОИЗВОДСТВа...................................................................... 481
Программы регионального развития нтп........................................ 498
НТП и современное государство...................................................... зов
Словарь ключевых терминов............................................................. 512
Вопросы для обсуждения................................................................... 516
Литература.......................................................................................... 516
Раздел VI
ШИЛОСОШИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Роль интеллектуальной деятельности
в инновационной экономике.......................................................... 519
Сущность и структура интеллектуальной
собственности......................................................................... 525
таи
Становление и развитие категории «интеллектуальная
собственность»......................................................................... 534
Охрана интеллектуальной собственности
в Российской федерации..................................................................... 557
Государственное управление интеллектуальной
. собственностью............................................................................. 561
Словарь ключевых терминов............................................................. 583
Вопросы для обсуждения.................................................................. 586
Литература.......................................................................................... 586
Раздел VII
СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
Физическая картина мира в ее развитии 593
Модели развития научного знания.................................................... 593
Натурфилософская парадигма........................................................... 594
Механическая картина мира.............................................................. 596
Термодинамика и электромагнетизм................................................. 599
Кванты и относительность................................................................. 603
Вакуум, микрочастицы и Вселенная.................................................. 607
Нелинейная Вселенная....................................................................... 611
Шилософия научной картины мира бнз
Философия механистической картины мира..................................... 616
Философия квантовой теории............................................................ 619
Философия теории относительности................................................ 622
ШУИ
Философские проблемы современной научной картины
мира................................................................................... 625
Универсальная теория Вселенной...................................................... 625
Проблема антивещества..................................................................... 626
Будущее Вселенной........................................................................... 627
Антропный принцип.......................................................................... 629
Универсальная история...................................................................... 631
Словарь ключевых терминов............................................................. 632
Вопросы для обсуждения.................................................................. 637
Литература......................................................................................... 638
Раздел ¥111
ФИЛОСОШЯЯ, ШКА, КУЛЬТУРА
Взаимоотношение философии и науки: основные
КОНЦеПЦИИ................................ 645
На пути к единству естественно-научной
и гуманитарной культуры............................................................ 681
Словарь ключевых терминов............................................................. 710
Вопросы для обсуждения.................................................................. 718
Литература.......................................................................................... 719
Приложение
Примерные темы докладов и рефератов............................................ 721
Научное издание
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Общий курс Под ред. С.А. Лебедева
Компьютерная верстка
И.В. Белюсенко
Корректоры
Н.Ю. Липкина, А.В. Майкова
ООО «Академический Проект» Изд. лиц. № 04050 от 20.02.01. 111399, Москва, ул. Мартеновская, 3 Санитарно-эпидемиологическое заключение Департамента государственного эпидемиологического надзора № 77.99.02.953.Д.000321.01.06. от 23.01.06.
ООО Издательство «Альма Матер» 105005, Москва, Посланников пер., 3, стр. 1
По вопросам приобретения книги просим обращаться в ООО «Трикста»: 111399, Москва, ул. Мартеновская, 3 Тел.: (495) 305-3702; 305-6092; факс: 305-6088 E-mail: info@apiogect.ru www.aprogect.ru
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-093, том 2; 953000 — книги, брошюры.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.04.07. Формат 84х! 08/32. Гарнитура BalticaC. Бумага офсетная Печать офсетная. Усл. печ. л. 38,64. Тираж 3000 экз. Заказ № 2132.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА» 610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Дата: 2018-12-28, просмотров: 599.