Самую интересную теорию о происхождении денег недавно выдвинул Филипп Роспабе, французский экономист, ставший антропологом. Его работы, практически неизвестные в англоязычном мире, довольно оригинальны и непосредственно относятся к нашей проблеме. Роспабе полагает, что «первобытные деньги» изначально не использовались для выплаты каких-либо долгов. Они служили признанием того факта, что есть долги, которые выплатить нельзя. Его точку зрения стоит рассмотреть подробнее.
В большинстве человеческих экономик деньги используются прежде всего для устройства свадеб. Проще всего это было сделать, выплатив так называемый калым (“brideprice”[146]): семья жениха давала определенное количество собачьих зубов, раковин, латунных колец или чего-то еще, выполнявшего функции местных социальных денег, семье девушки, которая в свою очередь отдавала им невесту. Легко понять, почему это может рассматриваться как покупка женщины, — многие колониальные чиновники, служившие в Африке и Океании в начале XX века, именно так это и понимали. Такая практика вызывала возмущение, и в 1926 году в Лиге Наций даже обсуждался вопрос о ее запрете как одной из форм рабства. Антропологи возражали. На самом деле, объясняли они, это не имело ничего общего с покупкой, скажем, вола и уж тем более пары сандалий. В конце концов, если вы покупаете вола, то не несете по отношению к нему никакой ответственности. Вы, по сути дела, покупаете право распоряжаться волом по собственному усмотрению. Свадьба совсем другое дело, поскольку муж, как правило, несет такую же ответственность перед женой, как и жена перед ним. Это был способ наладить отношения между людьми. Далее, если бы вы действительно покупали жену, вы могли бы ее продать. А подлинное значение платежа касается статуса детей женщины: если муж что-то и покупает, так это право называть ее отпрысков своими{101}.[147]
Антропологи в конце концов выиграли этот спор, и «калым» был переименован в «свадебный выкуп» (“bridewealth”). Но они так и не ответили на вопрос о том, что именно происходит в таком случае. Когда семья жениха с острова Фиджи преподносит китовый зуб и просит руки девушки, является ли это авансом за услуги, которые женщина окажет, возделывая огород своего будущего мужа? Или он покупает будущую плодовитость ее чрева? Или же это чистая формальность, эквивалент доллара, который должен перейти из рук в руки, для того чтобы скрепить контракт? По мнению Роспабе, ни то, ни другое, ни третье. Китовый зуб — ценный предмет, но средством платежа он не является. На самом деле это признание того, что один просит что-то настолько уникальное, что оплатить это просто невозможно. Единственная подходящая оплата за преподнесение в дар женщины — это преподнесение в дар другой женщины; пока этого не произойдет, все, что можно сделать, — это признать наличие долга.
* * *
Иногда женихи высказывают это довольно определено. Возьмем пример народа тив из Центральной Нигерии, с которым мы уже встречались в предыдущей главе. Большая часть имеющейся о нем информации относится к середине XX века, когда он все еще находился под британским владычеством{102}. Каждый в те времена считал, что правильный брак должен принимать форму обмена сестрами. Один мужчина отдает свою сестру замуж другому, который в свою очередь отдает свою сестру в жены новоявленному зятю. Это идеальный брак, потому что в обмен на одну женщину мужчина может дать только другую женщину.
Разумеется, даже если бы в каждой семье было равное количество братьев и сестер, система не могла бы функционировать так четко. Допустим, я женюсь на вашей сестре, но вы на моей жениться не хотите (потому что она вам не нравится или ей всего пять лет от роду). В этом случае вы становитесь ее «опекуном», т. е. вы можете претендовать на то, чтобы выдать ее замуж за кого-то другого, например за того, чью сестру вы хотите взять в жены. Все это быстро превратилось в сложную систему, в которой влиятельные мужчины стали опекунами многочисленных «подопечных», зачастую рассеянных по обширной территории; они обменивали их и в ходе этого процесса накапливали много жен для себя, в то время как менее удачливые мужчины женились позже или могли вообще остаться холостяками{103}.
Был и другой способ. В те времена самым престижным видом денег у тив были связки латунных трубок. Ими владели только мужчины, которые никогда не использовали их для покупки вещей на рынке (на рынках царили женщины) и обменивали их лишь на те вещи, которые считали очень важными: скот, лошадей, слоновую кость, медицинский уход, колдовские чары. Как объяснял Акига Сай, исследователь тив, жену можно было приобрести за латунные трубки, но требовалось их очень много. Нужно было дать две-три связки ее родителям, чтобы стать женихом; затем, после ее похищения (с которого всегда начинались такие свадьбы), еще несколько связок нужно было для того, чтобы успокоить мать, которая с показным гневом требовала объяснить, что вообще происходит. Пять связок отдавались опекуну невесты, чтобы он хотя бы временно смирился со случившимся, и еще больше ее родителям, когда она рожала, если, конечно, вам удавалось уговорить их признать, что отец ребенка — вы. Так можно было избавиться от родителей, но не от опекуна, которому надо было платить всегда, потому что за деньги права на женщину купить было нельзя. Все знали, что в обмен на одну женщину можно было дать только другую. В этом случае каждый должен разделять убеждение, что однажды такая женщина появится. А пока этого не случилось, как емко выразился один этнограф, «долг никогда не может быть выплачен полностью»{104}.
По мнению Роспабе, тив просто открыто выражают логику, которая повсеместно лежит в основе свадебного выкупа. Жених, предлагающий его, никогда не платит за женщину или за право называть ее детей своими. Это означало бы, что латунные трубки, китовые зубы, раковины каури или даже скот являются эквивалентом человека, что совершенно абсурдно с точки зрения человеческой экономики. Эквивалентом человека мог считаться только другой человек. Тем более что в случае брака речь идет о чем-то даже более ценном, чем человеческая жизнь, а именно о человеческой жизни, которая способна сама порождать новые жизни.
Конечно, многие из тех, кто выкупает невесту, действуют, как и тив, довольно откровенно. Выкупные деньги не даются для того, чтобы выплатить долг, а служат своего рода признанием, что есть долг, который не может быть выплачен деньгами. Часто обе стороны будут по крайней мере придерживаться той фикции, что однажды он будет возвращен, т. е. что клан жениха отдаст одну из своих женщин — возможно, даже дочь или внучку этой самой женщины — за мужчину из родного клана жены. Вероятно, будет достигнуто какое-то соглашение относительно ее детей или же ее клан оставит себе одного ребенка. Вариантов может быть бесконечно много.
* * *
Таким образом, как пишет Роспабе, деньги возникают «как замена жизни»{105}. Это можно назвать признанием долга за жизнь, что, в свою очередь, объясняет, почему тот же самый вид денег, при помощи которого устраивались браки, использовался и для уплаты вергельда (или «выкупа за кровь», как его иногда называют): эти деньги выплачивались семье убитого для того, чтобы предотвратить кровную вражду или положить ей конец. Здесь источники еще более определенны. С одной стороны, человек дает китовые зубы или латунные трубки, так как родня убийцы признает, что должна жизнь семье жертвы.
С другой — китовые зубы или латунные трубки ни в коей мере не являются и не могут являться компенсацией за убитого родственника. Разумеется, никто из тех, кто давал такую компенсацию, не был настолько глуп, чтобы утверждать, что какая-то сумма денег могла служить «эквивалентом» стоимости чьего-то отца, сестры или ребенка.
И в этом случае деньги тоже в первую очередь служат признанием того, что вы должны нечто намного более ценное, чем деньги.
В случае кровной вражды обе стороны знают, что даже убийство, совершенное ради мести, хотя и соответствует принципу «жизнь за жизнь», на самом деле не возместит страданий жертвы. Это знание дает возможность решить дело без применения насилия. Но даже в этом случае часто возникает чувство, что, как и в случае с браком, настоящее решение проблемы просто отложено на какое-то время.
Пожалуй, стоит привести пример. Среди нуэров есть особый класс сакральных особ, которые специализируются на улаживании кровной вражды; в литературе они фигурируют как «вожди в леопардовых шкурах». Если один человек убивает другого, то он сразу же отправляется на поиски одного из участков, которые им принадлежат и считаются священными, а значит, неприкосновенными: даже семья покойного, для которой отомстить убийце — дело чести, знает, что туда нельзя проникать под страхом ужасных последствий. Согласно классическому рассказу Эванса-Причар-да, вождь немедленно попытается привести семьи убийцы и жертвы к мировому соглашению — это задача не из простых, потому что семья жертвы всегда сначала отказывается:
Прежде всего вождь узнает, сколько скота у родичей убийцы и сколько они готовы отдать в порядке компенсации <…> Затем вождь посещает родичей убитого и просит их принять скот в уплату за жизнь убитого. Обычно они отказываются, ибо это дело чести и им положено поупрямиться. Но отказ не означает, что они не хотят принять компенсацию. Вождь знает это и настаивает на согласии, даже угрожает проклятием, если они не уступают…{106}
В дело вмешиваются дальние родственники, напоминающие каждому об ответственности перед общиной в целом и о вреде, который причинит невинным близким продолжающаяся вражда. Близкие убитого долго демонстративно отказываются мириться, настаивая на том, что сама мысль, будто какое-то количество скота может служить заменой жизни сына или брата, оскорбительна, но затем обычно неохотно соглашаются[148]. Но даже когда проблема в принципе решена, на самом деле не все еще улажено: обычно нужны годы, чтобы собрать необходимое количество скота; и, даже когда его отдают, обе стороны избегают друг друга, «особенно на танцах, которые возбуждают людей, когда даже нечаянный толчок может вызвать драку. Обида никогда не забывается, и расплатиться в конце концов надо человеческой жизнью»{107}.
То есть это очень похоже на свадебный выкуп. Деньги не стирают долг. Одна жизнь может быть оплачена только другой. В лучшем случае те, кто платит выкуп за кровь, могут заморозить существующую ситуацию, признав наличие долга и утверждая, что они хотели бы его выплатить, хотя и знают, что это невозможно.
На другом конце света ирокезы Лиги шести племен разработали сложные механизмы для того, чтобы избегать таких ситуаций. По словам Льюиса Генри Моргана, в случае если один человек убивал другого,
сразу же по совершении убийства за примирение брались племена, к которым принадлежали обе стороны, и предпринимали энергичные усилия к тому, чтобы его добиться, пока частная месть не привела к гибельным последствиям.
Первый совет выяснял, был ли обидчик склонен сознаться в своем преступлении и согласен ли он на возмещение. Если да, то совет немедленно посылал от его имени другому совету пояс из белого вампума, содержавший соответствующее сообщение. Тогда этот совет старался умиротворить семью убитого, успокоить ее возбуждение и убедить их принять вампум в знак прощения{108}.[149]
Как и у нуэров, у ирокезов существовали сложные схемы, предписывавшие, сколько саженей вампума нужно было выплачивать в зависимости от статуса жертвы и характера преступления. Как и у нуэров, здесь тоже все утверждали, что речь не идет об оплате. Стоимость вампума ни в коей мере не соответствовала стоимости жизни погибшего человека:
Дар из белого вампума не носил характера компенсации за жизнь убитого, а являлся выражением признания вины и раскаяния в совершенном преступлении, а также просьбой о прощении. Он был предложением мира, принятия которого добивались общие друзья…{109},[150]
Действительно, во многих случаях можно было манипулировать системой таким образом, чтобы платежи, призванные умерить чьи-то гнев и горе, становились способами создания новой жизни, которая в определенном смысле заменяла ту, что была потеряна. Среди нуэров стандартной платой за выкуп крови были сорок голов скота. Но ровно столько же обычно составлял свадебный выкуп. Логика была такова: если мужчина был убит до того, как женился и у него появилось потомство, его дух, лишенный вечности, естественно, разгневан. Лучшим решением было пустить скот, выплаченный в обмен на улаживание конфликта, на приобретение так называемой невесты для умершего, т. е. женщины, которая формально выйдет замуж за погибшего человека. На практике ее обычно выдавали за одного из братьев умершего, но это не имело особого значения: неважно, от кого она беременела, — этот человек все равно не становился отцом ее детей. Считалось, что они дети духа убитого и что каждый сын, которого она рожала, рос с обязательством однажды отомстить за его смерть{110}.
Последний вариант необычен. Но нуэры вообще проявляли неожиданное упорство в вопросах кровной вражды. Примеры из других частей света, которые приводит Роспабе, еще более показательны. Например, среди бедуинов Северной Африки для семьи убийцы иногда единственной возможностью уладить распрю было отдать дочь замуж за одного из ближайших родственников убитого, например за брата. Если она рожала мальчика, ему давали имя погибшего дяди и он считался, по крайней мере в широком смысле, заменой последнего{111}. Ирокезы, у которых наследование шло по женской линии, так с женщинами не поступали. Однако у них был другой, более прямолинейный, подход. Если умирал мужчина, пусть даже и естественной смертью, родственники его жены могли «начертать его имя на циновке», т. е. дать пояса из вампума для снаряжения военного отряда, который нападал на вражеское селение, чтобы захватить пленника. Пленника могли либо убить, либо, если матроны клана были в добром расположении духа (этого никто не мог предугадать; траурная печаль — дело тонкое), принять к себе: в таком случае на плечи ему набрасывали пояс из вампума, он получал имя умершего, женился на его вдове и наследовал его личную собственность — иными словами, он становился совершенно таким же человеком, каким был погибший{112}.[151]
Все это лишь подтверждает основной тезис Роспабе о том, что в человеческих экономиках деньги можно рассматривать в первую очередь как признание долга, который не может быть выплачен.
Все это довольно сильно напоминает теорию изначального долга: деньги возникают из признания абсолютного долга перед тем, что дало вам жизнь. Разница в том, что в данном случае считается, что такие долги не складываются между человеком и обществом или, возможно, космосом, а образуют своего рода сеть бинарных отношений: в подобных обществах почти каждый человек находился в абсолютном долгу по отношению к кому-то другому.
Мы ничего не должны «обществу». Если здесь и есть понятие общества — что совсем не очевидно — то общество и состоит из наших долгов.
Долги крови (леле)
Разумеется, это возвращает нас все к той же проблеме: как символ признания того, что долг выплатить нельзя, превращается в форму платежа, посредством которого долг может быть погашен? Более того, проблема кажется еще более запутанной, чем прежде.
На самом деле это не так. Африканские данные ясно показывают, как такие вещи могут происходить, — хотя ответ несколько сбивает с толку. Чтобы показать это, нужно подробнее исследовать пару африканских обществ.
Я начну с африканского народа леле, который к 1950-м годам, когда его изучала Мэри Дуглас, сумел преобразовать долги крови в организующий принцип всего общества.
В те времена численность леле, проживавших на узком участке холмистой территории близ реки Касаи в Бельгийском Конго, составляла около десяти тысяч человек. По мнению куба и бушонгов, их более зажиточных и открытых миру соседей, они были грубыми дикарями. Женщины леле выращивали кукурузу и маниок, мужчины считали себя бесстрашными охотниками, но большую часть времени проводили за шитьем ткани из волокон пальмы рафия, которой славилась эта область. Леле не только пользовались ею сами, но и экспортировали ее и потому считали себя главными портными в этих краях; у окружающих народов они выменивали на нее предметы роскоши. Среди самих леле ткань выполняла роль денег, однако не имела хождения на рынках (их и не было) и, как с удивлением обнаружила Мэри Дуглас, внутри деревни на нее нельзя было купить еду, инструменты, столовую посуду или что-либо еще[152]. Ткань являлась базовыми социальными деньгами.
Неформальные подарки в виде ткани из рафии смягчают все общественные отношения: мужа с женой, сына с матерью или с отцом. В случае напряженности ткань служит средством примирения; она может быть прощальным подарком или сопровождать поздравления. Есть и формальные подарки рафии, отказ от которых может привести к разрыву социальных связей. Мужчина, достигший зрелости, должен подарить 20 кусков ткани своему отцу. В противном случае его осмеют, когда он попросит у отца помощи, чтобы покрыть расходы на свадьбу. Мужчина должен дарить 20 кусков ткани своей жене всякий раз, когда она рожает…{113}
Тканью также уплачивались различные пени и штрафы и оплачивались услуги знахарей. Например, если чья-то жена изобличала соблазнителя, то по обычаю ее вознаграждали двадцатью кусками ткани за верность (это не было обязательным, но считалось крайне недальновидным так не делать); пойманный прелюбодей должен был уплатить пятьдесят или сто кусков ткани мужу женщины; если муж и любовник нарушили покой в деревне, устроив драку до того, как дело было решено, каждый должен был уплатить два куска в качестве компенсации и т. д.
Подарки, как правило, делались старшим. Молодежь всегда преподносила небольшие подарки в виде ткани в знак уважения к отцам, матерям, дядьям и т. д. Эти подарки носили иерархический характер, т. е. тем, кто их получал, в голову не приходило, что они должны были их возвращать. В результате у старших, особенно пожилых мужчин, обычно было несколько лишних кусков в запасе и молодые люди, которые никогда не могли сшить ткани столько, чтобы покрыть все свои потребности, были вынуждены к ним обращаться всякий раз, когда им предстояла крупная выплата: например, если им нужно было заплатить большой штраф, или они хотели пригласить доктора, когда рожала жена, или же когда они стремились вступить в культовое сообщество. Из-за этого у них всегда был небольшой долг перед старшими или, по крайней мере, они были чем-то им обязаны. Но у каждого также было много друзей и родственников, которым он в свое время помог и к которым мог обратиться за помощью[153].
Свадьба была особенно затратным мероприятием, поскольку для нее требовалось раздобыть несколько брусков африканского сандалового дерева. Если ткани из рафии служили мелкой разменной монетой в социальной жизни, то бруски из африканского сандала, редкого импортного дерева, применяющегося для изготовления косметики, считались твердой валютой. За сотню кусков ткани из рафии давали от трех до пяти брусков. Даже те немногие, у кого было много сандалового дерева, обычно использовали для собственных нужд лишь небольшое его количество. Основная часть хранилась в коллективной казне деревни.
Сандаловое дерево вовсе не служило для чего-то похожего на свадебный выкуп — скорее его использовали в ходе переговоров о заключении брака, когда из рук в руки переходили самые разные подарки. На самом деле свадебного выкупа не было. Мужчины не могли использовать деньги ни для приобретения женщин, ни для того, чтобы отстаивать свои права на детей. Леле были матрилинейны, поэтому дети принадлежали к клану матери, а не отца.
У мужчин, однако, был другой способ для того, чтобы обеспечить контроль над женщинами[154]. Это была система долгов крови.
Многие африканские народы верят, что люди не умирают без причины. Если кто-то умер, то это значит, что кто-то его убил. Если, например, женщина леле умирала при родах, считалось, что это произошло потому, что она изменила мужу. Прелюбодей нес ответственность за эту смерть. Иногда женщина признавалась в грехе на смертном одре, в остальных случаях истина устанавливалась путем гадания. То же происходило, если умирал ребенок. Если кто-то заболевал или падал, забираясь на дерево, нужно было проследить, не был ли он вовлечен в какую-либо распрю, которая могла привести к несчастному случаю. Если ничто не помогало, можно было прибегнуть к магии, для того чтобы обнаружить колдуна. Когда, к радости жителей деревни, личность виновного устанавливалась, у этого человека появлялся долг крови, т. е. он должен был жизнь ближайшему родственнику погибшего. Виновный мог отдать его семье молодую женщину — свою сестру или дочь, которая становилась подопечной или «заложницей» семьи жертвы.
Как и у тив, эта система очень быстро приобрела невероятно запутанную форму. Заложники передавались по наследству. Если женщина была чьей-то заложницей, то заложниками становились и ее дети, и дети ее дочерей. Это означало, что большинство мальчиков считались детьми какого-то другого мужчины. Однако никто не принимал залог в виде мальчика в уплату долга крови: суть заключалась в том, чтобы заполучить молодую женщину, которая затем будет производить детей, также являющихся залогом. Информаторы Дуглас из числа леле подчеркивали, что любой мужчина, естественно, хотел иметь как можно больше таких женщин:
На вопрос «Почему вы хотите иметь больше заложниц?» они неизменно отвечают: «Преимущество иметь заложниц состоит в том, что если у тебя появляется долг крови, то ты можешь избавиться от него, отдав одну из заложниц, а твои сестры при этом останутся свободными». На вопрос «Почему вы хотите, чтобы ваши сестры оставались свободными?» они говорят: «Как же! если у меня появится долг крови, я могу избавиться от него, отдав одну из них в качестве заложницы…»
Всякий мужчина всегда знает, что у него в любой момент может появиться какой-нибудь долг крови. Если соблазненная им женщина выдаст его имя во время родовых схваток и затем умрет, или если умрет ее ребенок, или же если от болезни или из-за несчастного случая умрет кто-то, с кем он был в ссоре, на него могут возложить за это ответственность… Даже если женщина убежит от мужа и из-за этого начнутся столкновения, то погибших положат под ее дверь и ее брат или брат ее матери должны будут за них расплатиться. Поскольку в качестве компенсации за пролитую кровь принимаются только женщины и каждая смерть, будь то мужчины или женщины, требует компенсации, то очевидно, что их никогда не бывает достаточно. Мужчины просрочивают свои обязательства по предоставлению заложников, из-за чего в залог отдаются еще не рожденные девочки, иногда даже до того, как их матери достигли брачного возраста{114}.
Иными словами, все превращалось в бесконечно сложную шахматную игру — как отмечает Дуглас, это была одна из причин, почему термин «заложник» здесь крайне уместен. Практически всякий взрослый мужчина леле являлся чьим-нибудь заложником и был вовлечен в постоянную игру, в которой заложники предоставлялись, обменивались и выкупались. Всякое крупное происшествие или трагедия в жизни деревни, как правило, вели к передаче прав на женщин в другие руки. Почти всех женщин рано или поздно снова обменивали.
Здесь нужно отметить несколько моментов. Прежде всего, здесь шел обмен именно человеческими жизнями. Дуглас называла это «долгами крови», но точнее будет называть их «долгами жизни». Например, мужчина тонет и другой мужчина его спасает. Или, допустим, мужчина смертельно болен, но врач его вылечивает. В обоих случаях мы, скорее всего, скажем, что один мужчина «обязан своей жизнью» другому. Так было и у леле, но они это воспринимали буквально. Если вы кому-то спасли жизнь, он должен будет вам жизнь, а жизнь нужно возвращать. Для мужчины, которого спасли, обычным способом возвращения долга было отдать в заложницы свою сестру или другую женщину, т. е. заложницу, которую он получил от кого-то другого.
Второй момент состоит в том, что ничто не может служить заменой человеческой жизни. «Компенсация была основана на принципе равноценности — жизнь за жизнь, человек за человека». Поскольку человеческая жизнь обладала абсолютной ценностью, никакое количество ткани из рафии, сандаловых брусков, коз, транзисторных радиоприемников или чего-то еще заменить ее не могло.
Третий, и самый важный, момент заключался в том, что на практике «человеческая жизнь» на самом деле обозначала «женскую жизнь», или, точнее, «жизнь молодой женщины». Очевидно, что это делалось для того, чтобы увеличить свою собственность: каждый хотел получить человека, который сможет забеременеть и родить детей, поскольку они тоже станут заложниками. Тем не менее даже Мэри Дуглас, которая ни в коей мере не являлась феминисткой, оказалась вынуждена признать, что вся эта система была гигантским аппаратом установления мужского контроля над женщинами. Так было прежде всего потому, что сами женщины не могли владеть заложниками[155].
Они лишь могли ими быть. Иными словами, когда речь шла о долгах жизни, только мужчины могли быть кредиторами или должниками. Молодые женщины были, соответственно, кредитами и долгами — фигурами на шахматной доске, которые всегда двигали только мужчины[156].
Конечно, раз почти каждый либо был заложником, либо успевал им побывать в какой-то момент жизни, стать им само по себе не считалось большой трагедией. Для заложников-мужчин это даже было в определенном смысле выгодно, потому что «хозяин» должен был заплатить большую часть его штрафов, пеней и даже долгов крови. Именно поэтому, как единогласно утверждали осведомители Дуглас, институт заложничества не имел ничего общего с рабством. У леле были рабы, но немного. Рабами обычно становились чужаки, взятые в плен на войне. Поскольку у них не было семей, некому было их защищать, в то время как у заложника была не одна, а две разные семьи, заботящиеся о нем: собственная мать и ее братья, но еще и свой «сеньор».
Для женщины сам факт того, что она была ставкой в мужской игре, давал самые разные возможности перехитрить систему. В принципе девочка могла родиться заложницей и быть передана какому-нибудь мужчине для возможного брака. Однако на практике
девочка леле росла кокеткой. С детства с ней заигрывали, она была в центре всеобщих забот и внимания. Власть обрученного с ней мужа была очень ограниченной… Поскольку мужчины состязались друг с другом за женщин, у последних было широкое поле для маневра и интриг. В соблазнителях, питавших надежды их добиться, не было недостатка, и ни одна женщина не сомневалась, что сможет получить другого мужа, если только ей этого захочется{115}.
К тому же в руках у девушки леле был один уникальный козырь. Все прекрасно знали, что, если она полностью отказывается мириться со своим положением, она всегда может стать «женой деревни»{116}.
Институт «жен деревни» существовал только у леле. Возможно, лучше всего его будет описать на гипотетическом примере. Предположим, пожилому, важному мужчине выплачивают долг крови, отдавая ему в качестве заложницы молодую женщину, и он сам решает на ней жениться. В принципе он имеет право так поступить, но молодой женщине совсем не улыбается стать третьей или четвертой женой старика. Или же он решает ее отдать замуж за одного из своих заложников-мужчин, живущего в другой деревне, далеко от ее матери и родного дома. Она возражает, он на это не обращает внимания.
Улучив момент, она ночью сбегает во вражескую деревню, где просит убежища. Это всегда возможно: у каждой деревни есть свои традиционные враги. Вражеская деревня не откажет женщине, оказавшейся в таком положении, а, напротив, провозгласит ее «женой деревни», которую будут обязаны защищать все живущие там мужчины.
Это помогает понять, почему здесь, как и во многих других частях Африки, у большинства пожилых мужчин было несколько жен. Это означало, что количество женщин, доступных для более молодых мужчин, было сильно ограничено. Как объясняет наш этнограф, такой дисбаланс приводил к серьезному сексуальному напряжению:
Все признавали, что неженатые молодые мужчины зарились на жен стариков. Они любили проводить время за разработкой планов соблазнения, и те, кто этим не хвастался, подвергались осмеянию. Поскольку пожилые мужчины хотели оставаться полигамными и иметь двух-трех жен, а адюльтер считался угрозой для мира в деревне, леле должны были придумывать решения, которые могли успокоить их неженатых мужчин. Поэтому когда достаточное количество юношей достигало восемнадцатилетнего возраста, им позволялось купить право на общую жену[157].
После того как они уплачивали соответствующее количество кусков ткани из рафии в деревенскую казну, им дозволялось построить коллективный дом, а затем им предоставлялась жена или разрешалось собрать отряд, который пытался выкрасть женщину из вражеской деревни. (Или же, если женщина искала у деревни убежища, они просили остальных жителей права ее принять — реакция на это была всегда благосклонной.) Эту общую жену и называли «женой деревни». Она пользовалась большим уважением — с новоявленной женой деревни обращались как с принцессой. От нее не требовали, чтобы она сажала растения или полола грядки в огородах, добывала еду, носила воду или даже готовила; всю работу по хозяйству выполняли ее усердные молодые мужья, которые стремились раздобыть для нее все самое лучшее и потому проводили большую часть времени, охотясь в лесу и соревнуясь друг с другом в том, кто принесет ей самые изысканные кушанья или попотчует ее пальмовым вином. Она могла присваивать себе чужую собственность, и ей разрешалось совершать любые проказы, на которые очарованные ею мужья должны были смотреть сквозь пальцы. От нее также ждали, что она будет вступать в сексуальные контакты со всеми членами этой возрастной группы — с 10–12 разными мужчинами — всякий раз, когда им этого захочется[158].
Со временем жена деревни обычно оставалась жить с тремя-четырьмя мужьями, а затем и вовсе с одним. Правила семейной жизни были гибкими. Тем не менее теоретически она была замужем за всей деревней. Если у нее рождались дети, отцом считалась деревня, которая должна была их воспитывать, обеспечивать всем необходимым, а впоследствии и найти им достойного супруга или супругу. Именно поэтому в деревне должна была быть коллективная казна, полная прежде всего ткани из рафии и сандаловых брусков. Раз в любой момент времени у деревни могло быть несколько жен, у нее также были и собственные дети и внуки, поэтому она могла требовать и сама уплачивать долги крови, а значит, и увеличивать число своих заложников.
В результате деревни превращались в корпоративные организации, в коллективные группы, и закон требовал общаться с ними как с индивидами — то же происходит и с современными корпорациями. Однако было и одно ключевое различие. В отличие от обычных индивидов деревни могли подкрепить свои претензии силой.
Как подчеркивает Дуглас, это имело огромное значение, поскольку обычные мужчины леле не могли себе такое позволить{117}.[159] В повседневной жизни почти полностью отсутствовали какие-либо систематические средства принуждения. Она отмечает, что это была главная причина, почему институт заложничества был столь безобидным. Правила были самые разные, но не было ни правительства, ни судов, ни судей, которые могли выносить обязательные к исполнению решения, ни отрядов вооруженных мужчин, желавших или способных прибегать к угрозе применения силы в случае их неисполнения; поэтому правила нужно было постоянно адаптировать и истолковывать. В конечном счете приходилось принимать в расчет чувства каждого человека. В повседневных делах леле изо всех сил старались вести себя любезно и обходительно. Мужчин регулярно охватывало страстное желание наброситься друг на друга в приступе ярости (часто у них были на то все основания), но делали они это редко. А когда доходило до столкновения, все стремились как можно быстрее замять дело и передать его на общественное рассмотрение{118}.
Деревни же обладали силой; юношей одного возраста могли мобилизовать и сформировать военные отряды. В этом — и только в этом — случае проявлялось организованное насилие. Конечно, между деревнями всегда случались стычки из-за женщин (все те, с кем говорила Дуглас, отказывались верить, что взрослые мужчины где бы то ни было могли драться за что-то еще), но дело могло дойти и до полноценной войны. Если старейшины одной деревни оставляли без внимания требование выдать заложницу, юноши другой могли сколотить отряд и выкрасть ее или забрать несколько других молодых женщин, которые становились их коллективными женами. Это могло приводить к гибели людей и к новым требованиям компенсаций. «Поскольку деревня могла опереться на силу, — сухо отмечает Дуглас, — она могла позволить себе меньше прислушиваться к своим заложникам»{119}.
Именно в тот момент, когда открываются возможности для применения насилия, великая стена, возведенная между стоимостью жизни и деньгами, может внезапно обрушиться.
Иногда, когда два клана спорили о компенсации за кровь, те, кто ее требовал, могли и не надеяться получить удовлетворение от своих противников. Политическая система не предоставляла мужчине (или клану) прямых средств физического принуждения или возможности обратиться к высшей власти для того, чтобы добиться от другого выполнения своих требований. В таком случае, вместо того чтобы отказаться от своего требования выдачи заложницы, он был готов взять ее эквивалент натурой, если мог его получить. Обычной процедурой была продажа своего иска к ответчику единственной группе, способной добиться выдачи заложника силой, т. е. деревне. Мужчина, намеревавшийся продать свое дело деревне, просил за него 100 кусков ткани из рафии или пять брусков из сандалового дерева. Деревня либо выдавала эти товары из своей казны, либо брала соответствующий заем у одного из жителей, присваивая себе таким образом требование выдачи заложника{120}.
Когда он получал деньги, иск исчерпывался, а деревня, купившая его, устраивала набег, чтобы захватить женщину, бывшую предметом спора.
Иными словами, лишь когда в уравнение включалось насилие, возникал вопрос покупки или продажи людей. Способность применить силу, разрубить бесконечно запутанный клубок предпочтений, обязательств и ожиданий, которыми полны человеческие отношения, позволяла отбросить первое правило экономических отношений среди леле, гласившее, что одна человеческая жизнь может быть обменена только на другую, а не на физические предметы. Показательно, что выплачиваемая в таких случаях сумма — сто кусков ткани или соответствующее количество сандалового дерева — была также ценой за раба{121}. Рабами, как я отмечал, были военнопленные. По-видимому, их число никогда не было значительным; Дуглас удалось обнаружить лишь двух потомков рабов в 1950-х годах, через четверть века после отмены рабства[160]. Как бы то ни было, цифры тут роли не играли. Сам факт их существования служил прецедентом. Стоимость человеческой жизни иногда могла быть количественно измерена; но перейти от формулы А=А (одна жизнь равна другой) к формуле А=Б (одна жизнь равна сотне кусков ткани) можно было лишь потому, что за таким тождеством стояла сила оружия.
Долги плоти (тив)
Я так подробно разобрал пример леле потому, что хотел пояснить, почему я использую термин «человеческая экономика», как протекает жизнь в ее рамках, какого рода проблемы заботят людей и как в ней обычно функционируют деньги. Как я отмечал, для леле деньги играют ключевую социальную роль. Ими отмечен каждый визит, любое обещание, всякий важный момент в жизни мужчины или женщины. Безусловно, очень показательно и то, какие именно предметы использовались в качестве денег. Ткань из рафии использовалась как одежда; во времена Дуглас это был главный материал, в который люди одевались. Из сандаловых брусков делалась красная паста, применявшаяся в косметических целях, — это был главный элемент макияжа, которым каждый день украшали себя как мужчины, так и женщины. То есть это были материалы, которые определяли внешний вид людей, делали их облик зрелым, благопристойным и привлекательным, а также придавали достоинство их товарищам. Именно эти вещи превращали простое обнаженное тело в социальное существо в полном смысле слова.
Это не совпадение, а общая черта экономик, которые я обозначил как человеческие. Деньги почти всегда рождаются из предметов, которые используются прежде всего как украшения. Это касается бус, раковин, перьев, собачьих или китовых зубов, золота и серебра. Единственная польза, которая от них может быть, состоит в том, что они делают людей интереснее, а значит, и красивее. Латунные трубки, использовавшиеся тив, могут показаться исключением, но это не так: в основном они служили сырьем для изготовления украшений или их просто обвивали вокруг обручей и надевали во время танцев. Есть и исключения (например, скот), но, как правило, ячмень, сыр, табак или соль используются в качестве денег лишь тогда, когда в дело вступают правительства, а за ними и рынки{122}.[161]
Этим объясняется и специфическое развитие идей, которые так часто служат отличительными чертами человеческих экономик. С одной стороны, человеческая жизнь представляет абсолютную ценность, эквивалента которой быть не может. Дается ли жизнь или отнимается, такой долг является абсолютным. Иногда этот принцип носит непреложный характер, но чаще его подрывают сложные игры наподобие тех, что разработали тив и леле. Факт дарения жизни, по мнению первых, или лишения ее, по мнению вторых, создает долги, которые могут быть выплачены лишь при помощи другого человека. В каждом случае практика приводит к образованию чрезвычайно сложной игры, в которой мужчины, обладающие авторитетом, обмениваются женщинами или, по крайней мере, правами на их отпрысков.
Что уже служит определенным толчком. Раз игра ведется и действует принцип замены, всегда есть возможность его расширить. Когда это происходит, системы долга, в основе которых лежит идея создания людей, могут — даже в этом случае — вдруг превратиться в средства их уничтожения.
За примером мы снова обратимся к тив. Читатель помнит, что если у мужчины не было сестры или подопечной, которую можно было бы отдать за жену, то можно было умилостивить ее родителей и опекунов денежными подарками. Однако в таком случае жена никогда ему полностью не принадлежала. Впрочем, и здесь есть одно яркое исключение. Мужчина мог купить рабыню, женщину, похищенную во время набега на дальние края{123}. В конце концов, у рабынь не было родителей или с ними можно было обращаться так, будто их не было; их насильственно устраняли из всех сетей взаимных обязательств и долгов, которые наделяли обычных людей внешней идентичностью. Именно поэтому рабынь можно было покупать и продавать.
Однако после женитьбы купленная жена быстро создавала новые связи. Она уже не была рабыней, а ее дети были совершенно законными — даже более законными, чем те, что рождались от жены, которая была приобретена посредством постоянной выплаты латунных трубок.
Возможно, здесь мы имеем дело с общим принципом: чтобы в человеческой экономике можно было что-то продать, для начала нужно это что-то вырвать из его окружения. Это как раз и происходит с рабами, которые оказываются вырваны из сообщества, сделавшего их такими, какие они есть. У рабов, оказавшихся чужаками в новом для себя сообществе, нет больше ни родителей, ни родни. Поэтому их можно было продавать, покупать и даже убивать: ведь единственными отношениями, которые у них были, были отношения с хозяином. Тот факт, что деревни леле могли устраивать набеги и похищать женщин из чужих общин, видимо, стал ключевым шагом к началу торговли женщинами за деньги — но делать это они могли в очень ограниченном масштабе. В конце концов, родственники похищенной женщины жили неподалеку и наверняка потребовали бы объяснений. Приходилось вырабатывать какое-то соглашение, которое устраивало всех[162].
И все же я настаиваю на том, что здесь есть нечто большее. При чтении антропологической литературы возникает четкое ощущение, что многие африканские общества постоянно преследовало осознание того, что эти сложные долговые сети могли преобразиться в нечто совершенно ужасное, если что-то пойдет не так. Тив в данном случае очень показательный пример.
* * *
Среди антропологов народ тив известен прежде всего разграничением экономической жизни на три обособленные «сферы обмена», которые выделили его наиболее известные исследователи Пол и Лора Бохэннены. Обычная, повседневная, экономическая деятельность была женским занятием. Именно женщины ходили на рынки и налаживали связи, давая и возвращая небольшие количества охры, орехов или рыбы в виде подарков. Мужчины занимались вещами более возвышенными и требовавшими использования денег, которые, как и у леле, были двух видов. Мелкие сделки осуществлялись при помощи местной разновидности ткани под названием «тугуду», которая активно экспортировалась, а более крупные — при помощи связок импортированных латунных трубок{124}. На них можно было купить некоторые предметы роскоши (коров, жен из других племен), но в основном они использовались в политических делах, для найма знахарей, приобретения услуг колдунов или вступления в культовые сообщества. В политических вопросах тив придерживались еще большего эгалитаризма, чем леле: успешные пожилые мужчины, имевшие много жен, могли отдавать их своим сыновьям и другим зависимым людям, жившим в их домохозяйствах, но никакого формального политического устройства у общества не было. Кроме того, у них была система опекунства, суть которой заключалась в правах мужчин над женщинами. Отсюда проистекает понятие сфер. Теоретически эти три уровня — обычные предметы потребления, предметы мужского престижа и права на женщин — были полностью отделены один от другого. Ни за какое количество охры нельзя было получить латунную трубку, так же как и, в теории, ни за какое количество трубок нельзя было получить полные права над женщиной.
Однако на практике возможности перехитрить систему были. Допустим, сосед устраивал пир, но ему не хватало продуктов; кто-то мог прийти ему на помощь, а затем осторожно попросить одну-две связки взамен. Чтобы вершить дела, «превращать цыплят в коров», как гласила пословица, и пускать свое богатство и престиж на приобретение жен, нужно было иметь «сильное сердце», т. е. быть человеком предприимчивым и волевым{125}. Но у словосочетания «сильное сердце» было и другое значение. Существовало поверье о некоей биологической субстанции под названием «цав», которая управляет человеческим сердцем. Она наделяла некоторых людей шармом, энергией и силой убеждения.
Иными словами, цав был и физической субстанцией, и той невидимой силой, которая позволяла некоторым людям подчинять остальных своей воле{126}.
Проблема — и большая часть тив верила, что это была главная проблема их общества, — заключалась в том, что цав можно было увеличить и искусственными средствами; но добиться этого можно было, только потребляя человеческую плоть.
Сразу подчеркну, что нет оснований верить, что тив на самом деле практиковали каннибализм. Мысль о пожирании человеческого мяса, по-видимому, вызывала у них такой же ужас и отвращение, как и у большинства американцев. Однако на протяжении веков многих терзало подозрение, что некоторые их соседи, прежде всего влиятельные мужи, фактически ставшие политическими лидерами, были тайными каннибалами. Молва гласила, что люди, увеличивавшие свой цав такими методами, приобретали исключительные способности: они могли летать, становились неуязвимыми для оружия, а по ночам отправляли свои души убивать жертв, так что те даже не знали, что умерли, и бродили вокруг, беспомощные и потерянные, пока каннибалы не отлавливали их для своих пиров. Короче, они превращались в колдунов, которые наводили ужас{127}.
Мбацав, или сообщество колдунов, постоянно стремилось приобрести новых членов и для этого обманным путем заставляло людей есть человеческую плоть. Колдун мог взять часть тела убитого им близкого родственника и положить ее в еду жертвы. Если человек был настолько глуп, что съедал ее, то у него появлялся «долг плоти», а сообщество колдунов добивалось выплаты таких долгов.
Возможно, ваш друг или какой-то человек старше вас заметил, что у вас много детей, братьев или сестер. Стремясь навязать вам долг, он пригласит вас к себе домой на трапезу, в которой будете участвовать только вы вдвоем. Когда вы начнете есть, он поставит перед вами два блюда с соусом, одно из которых содержит приготовленное человеческое мясо…
Если вы выберете не то блюдо, но у вас нет «сильного сердца», т. е. способности стать колдуном, то вам станет плохо и вы в ужасе убежите из этого дома. Но если у вас есть скрытая способность, то съеденная вами плоть начнет действовать. Тем же вечером вокруг вашего дома заверещат коты и филины. Воздух наполнится странными звуками. К вам явится ваш новоявленный кредитор в сопровождении своих гнусных сообщников. Он расскажет, как убил собственного брата, чтобы вы могли пообедать вместе, и как страдает от мысли, что потерял близкого родственника, в то время как вы сидите в окружении упитанной, пышущей здоровьем родни. Остальные колдуны его поддержат, настаивая на том, что все это целиком ваша вина. «Ты искал трудностей, и трудности тебя настигли. Ложись на землю, и мы перережем тебе глотку»{128}.
У вас есть только один выход — отдать им члена своей семьи в качестве замены. Это возможно, потому что вы обнаружите, что у вас появились ужасные новые способности, но использовать вы их должны так, как того требуют другие колдуны. Вам придется убить одного за другим своих братьев, сестер и детей; коллегия колдунов выкрадет их тела из могил, вернет к жизни, чтобы они нагуляли жир, затем подвергнет их пыткам, убьет, разрежет и зажарит для нового пира.
Долги плоти все время растут. Кредитор продолжает приходить. Если у должника нет связей с людьми, у которых очень сильный цав, он не может избавиться от долга плоти до тех пор, пока не отдаст всех своих близких и его семья не перестанет существовать. Затем он сам ложится на землю и его закалывают — так долг окончательно искупается{129}.
Работорговля
С одной стороны, тут все ясно. Мужчины с «сильными сердцами» обладают властью и харизмой, с помощью которых они могут манипулировать долгом и превращать излишки еды в богатства, а богатства — в жен, подопечных и дочерей, благодаря чему семьи, которые они возглавляют, постоянно растут. В то же время власть и харизма, позволяющие им так поступать, постоянно грозят повернуть вспять весь этот процесс и вернуть их к долгам плоти, которые снова превращают семьи в пищу.
Если попытаться представить худшее, что вообще может случиться с человеком, то необходимость обедать изуродованным телом собственного ребенка точно займет в списке первое место. Однако с течением времени антропологи поняли, что разные общества терзают кошмары, которые заметно отличаются друг от друга. Ужасные истории, касаются ли они вампиров, вурдалаков или зомби, пожирающих человеческое мясо, всегда отражают какую-то сторону социальной жизни их рассказчиков, вероятность некого ужасающего развития привычных форм взаимодействия, с которой люди не хотят сталкиваться, но о которой не могут не говорить{130}.
Из чего возникли кошмары тив? Очевидно, что у них была большая проблема с властью. Они жили в домохозяйствах, каждое из которых возглавлял пожилой мужчина, имевший многочисленных жен, детей и различных прихлебателей. Внутри домохозяйства он располагал почти абсолютной властью. Но за его пределами формальной политической структуры не существовало, и тив были пламенными сторонниками эгалитаризма. Иными словами, все мужчины стремились стать главами больших семей, но при этом с крайним подозрением относились к любым формам господства. Неудивительно поэтому, что их отношение к природе власти было настолько двойственным, что они были убеждены, будто те качества, которые позволяют мужчине законным путем занять выдающееся положение, могут превратить его в монстра, стоит лишь дать им развиться больше необходимого уровня[163]. На самом деле большинство людей тив полагали, что старшие мужчины были в основном колдунами и что если умирал юноша, то его смерть могла быть уплатой долга плоти.
Однако это все же не дает ответа на очевидный вопрос: почему все это выражалось в категориях долга?
* * *
Здесь уместно рассказать небольшую историю. Судя по всему, предки тив пришли в долину реки Бенуэ и прилегающие к ней земли около 1750 года. В те времена там, где сегодня находится Нигерия, свирепствовала атлантическая работорговля. Источники той поры рассказывают, что в эпоху переселения тив наносили на лица своих жен и детей рисунки, напоминавшие шрамы от оспы, — это должно было отпугивать возможных налетчиков[164]. Они обосновались в самой труднодоступной части страны и оказывали ожесточенное сопротивление расположенным к северу и к западу государствам, которые периодически устраивали на них набеги; позже тив установили с ними дружеские отношения[165].
Тив прекрасно знали, что происходит вокруг них. Взять хотя бы пример медных болванок, использование которых они тщательно ограничивали, чтобы не допустить их превращения в универсальную форму денег.
Но в этой части Африки медные болванки использовались в качестве денег на протяжении столетий, а в некоторых местах с их помощью совершались и обычные торговые сделки. Это было довольно просто: можно было разделить болванку на небольшие кусочки или вытянуть в тонкую проволоку и обмотать ее вокруг небольших петель — и мелкая монета для повседневных рыночных операций готова{131}.[166] С другой стороны, большая часть болванок, имевших хождение в Тивленде в конце XVIII века, производилась в массовом количестве на фабриках Бирмингема и импортировалась работорговцами из Ливерпуля и Бристоля через порт Старый Калабар в устье реки Кросс[167]. Во всей области, лежавшей вокруг реки Кросс, т. е. к югу от территории тив, медные болванки использовались в качестве денег в повседневной жизни. Видимо, так они и попали в Тивленд; либо торговцы их перевозили через реку Кросс, либо купцы тив покупали их во время дальних поездок. Все это, тем не менее, делает вдвойне значимым тот факт, что тив отказывались использовать медные болванки в качестве денег.
Только в течение 1760-х годов около ста тысяч африканцев были доставлены по реке Кросс в Калабар и близлежащие порты, где их заковывали в цепи, грузили на английские, французские и другие европейские корабли и затем переправляли через Атлантический океан, — это была лишь малая толика от полутора миллионов человек, вывезенных с берегов залива Биафра на протяжении всего периода атлантической работорговли[168]. Некоторых из них захватили в ходе войн или набегов или же просто похитили. Но большая их часть была уведена в неволю из-за долгов.
Здесь, однако, я должен кое-что объяснить об организации работорговли.
Атлантическая работорговля как таковая представляла собой гигантскую сеть кредитных соглашений. Судовладельцы Ливерпуля или Бристоля покупали товары в кредит на выгодных условиях у местных оптовых торговцев, надеясь хорошо заработать на продаже рабов (тоже в кредит) плантаторам в Америке и на Антильских островах, чьи комиссионные агенты, обретавшиеся в Лондоне, финансировали всю сделку за счет доходов от торговли сахаром и табаком{132}. Затем судовладельцы отправляли свои товары в африканские порты вроде Старого Калабара, ключевого торгового города-государства, управлявшегося богатыми африканскими купцами, которые носили европейскую одежду, жили в домах, построенных по европейскому образцу, и иногда даже посылали своих детей в Англию на обучение.
По прибытии в Калабар европейские торговцы договаривались об эквиваленте цены своих грузов в медных болванках, которые выполняли в порту роль денег. В 1698 году купец, прибывший сюда на корабле под названием «Дракон», записал цены, по которым ему удалось продать свои товары:
одна железная болванка … 4 медные болванки
одна связка бус … 4 медные болванки
пять сердоликов[169]… 4 медные болванки
одна чаша № 1 … 4 медные болванки
одна пивная кружка … 3 медные болванки
один ярд льна … 1 медная болванка
шесть ножей … 1 медная болванка
один латунный колокольчик № 1 … 3 медные болванки{133}
Пятьдесят лет спустя, когда торговля была в самом разгаре, британские суда привозили в больших объемах ткани (как произведенные на недавно созданных манчестерских фабриках, так и индийский ситец) и предметы из железа и меди, периодически вещи вроде бус, а также по очевидным причинам значительное количество огнестрельного оружия[170]. Затем товары давались в кредит африканским купцам, которые передавали их своим агентам для дальнейшей продажи.
Очевидной проблемой было обеспечение долга. Торговля была вероломным и чрезвычайно жестоким занятием, и работорговцы не намеревались ставить себя в зависимость от кредитных рисков — особенно когда они имели дело с чужестранными купцами, которых могли больше никогда не увидеть[171]. В итоге быстро развилась система, в рамках которой европейские капитаны требовали поручительства в виде заложников.
«Заложники», о которых здесь идет речь, сильно отличались от тех, что мы видели у леле. Во многих государствах и торговых городах Западной Африки институт заложничества уже претерпел существенные изменения к 1500 году, когда на сцене появились европейцы, — по сути, он превратился в разновидность долгового рабства. Должники отдавали членов своих семей в качестве залога за кредит; заложники становились слугами в хозяйствах кредиторов, обрабатывали их поля и выполняли домашнюю работу — т. е. сами они служили обеспечением кредита, а их труд заменял проценты[172]. Заложники не были рабами; в отличие от последних они не теряли связи со своими семьями; но и свободными они не были[173]. В Калабаре и других портах владельцы невольничьих кораблей, дававшие товары в кредит своим африканским партнерам, скоро стали требовать залог — например, в виде двух собственных слуг купца за трех рабов, которых он должен добыть, причем по меньшей мере один из заложников должен был быть членом семьи купца{134}. На деле это не очень отличалось от выдачи заложников на войне и порой приводило к серьезным политическим кризисам, когда капитаны, устав ждать груз, который задерживался, вместо рабов грузили в трюм заложников.
Выше по течению реки долговые заложники также играли важную роль в торговле. С одной стороны, эта область отличалась от прочих. В большей части Западной Африки, в крупнейших государствах, таких как Дагомея или Ашанти, работорговля имела следствием войны и драконовские наказания: правители часто манипулировали судебной системой, в результате чего почти всякое преступление наказывалось обращением в рабство или смертной казнью с последующим обращением в рабство жены и детей преступника или же запредельными штрафами, неспособность выплатить которые оборачивалась продажей в неволю неплательщика и его семьи. С другой стороны, и это необычайно показательно, отсутствие сколько-нибудь разветвленных правительственных структур делало зримым, как повсеместная атмосфера насилия вела к искажению всех институтов человеческих экономик, которые превращались в гигантские аппараты дегуманизации и уничтожения.
В области реки Кросс работорговля, по-видимому, развивалась в два этапа. Первый был временем террора и полного хаоса, когда часто совершались набеги и всякий, кто отправлялся в путь в одиночку, рисковал попасть в руки бродячих банд головорезов и оказаться на невольничьем рынке в Калабаре. Очень скоро деревни опустели, многие люди сбежали в леса, мужчинам приходилось создавать вооруженные отряды, чтобы обрабатывать поля{135}. Этот период длился относительно недолго. Второй этап начался, когда по всей области местные купцы стали объединяться в сообщества, которые брались восстановить порядок. Самым известным из них стала конфедерация племен аро, которые называли себя «божьими детьми»[174]. Опираясь на мощь тяжеловооруженных наемников и на престиж знаменитого оракула в Арочукву, они установили новую, крайне строгую, систему правосудия{136}. Похитителей отлавливали и самих продавали в рабство. На дорогах и в крестьянских хозяйствах была восстановлена безопасность. В то же время аро в сотрудничестве с местными старейшинами создали кодекс всеобъемлющих ритуальных законов, которые были настолько суровы, что каждый постоянно рисковал их преступить и получить штраф[175]. Того, кто их нарушал, аро отправляли на побережье, а обвинителю уплачивалась его цена в медных болванках[176]. Согласно некоторым рассказам той поры, мужчина, которому просто не нравилась его жена и который нуждался в латунных трубках, всегда мог найти какую-нибудь причину, чтобы ее продать, и деревенские старейшины, получавшие часть дохода, почти всегда ему в этом потакали{137}.
Но самым хитроумным приемом торговых сообществ было поощрение распространения тайного общества под названием Экпе. Оно было известно прежде всего великолепными маскарадами и приобщением своих членов к тайным мистериям. Но оно также действовало как секретный механизм по выбиванию долгов{138}.[177] В самом Калабаре, например, общество Экпе прибегало к богатому арсеналу карательных мер, которые варьировались от бойкота (всем членам общества запрещалось торговать с тем, кто не выплачивал свои долги), пеней, конфискации имущества, ареста до казни: самых несчастных жертв вешали на деревьях и отрывали им нижнюю челюсть в назидание остальным{139}. Это особенно любопытно, поскольку любому человеку разрешалось вступить в такие общества, пройдя девять ступеней посвящения. Для этого нужно было уплатить соответствующий взнос, выражавшийся, разумеется, в латунных трубках, которые сами купцы и поставляли. В Калабаре расценки за каждую ступень выглядели так{140}.
1. Ньямпи
2. Оку Акана
3. Брасс
4. Маканда
5. Макара
--
300 коробок латунных трубок, каждая по цене 2 фунта 9 шиллингов (= 735 фунтов) за четыре первые ступени
6. Мбоко Мбоко
7. Бунко Абонко
8. Мбоко Нья Экпо
9. Экпе
--
50 коробок латунных трубок за каждую из нижних ступеней
Иными словами, это было довольно дорого. Но вскоре членство повсеместно стало важным отличительным признаком. В небольших, отдаленных селениях вступительный взнос, безусловно, не был таким запредельным, но результат был все тот же: тысячи людей оказались в долгу перед купцами, потому что им были нужны либо деньги для уплаты взносов, либо товары, привозившиеся купцами (в основном ткани и металл, из которых делался инвентарь и костюмы для представлений Экпе, — эти долги они должны были выбивать у самих себя. В уплату таких долгов, как правило, также отдавали людей, которые якобы были заложниками.)
Как все это работало? По-видимому, практика сильно варьировалась в зависимости от места. В труднодоступном районе Афикпо в верховьях реки Кросс в повседневных делах, например для покупки еды, «не прибегали к торговле или к использованию денег». Латунные трубки, поставлявшиеся сообществами купцов, служили для покупки или продажи рабов, но они были прежде всего социальными деньгами, «которые использовались для подарков и для проведения похорон, вступления в права и других церемоний»{141}. Большая часть этих платежей и церемоний были связаны с секретными обществами, которые здесь также появились благодаря купцам. Все это похоже на то, что происходило у тив, но присутствие купцов приводило к совершенно иным результатам:
В прежние времена, если у кого-то в верховьях реки Кросс возникали проблемы или образовывался долг и ему нужны были наличные, он обычно «закладывал» одного или нескольких своих детей или каких-нибудь других членов своей семьи или домохозяйства одному из торговцев из племени акунакуна, которые регулярно приезжали в его деревню. Или же он устраивал набег на какую-нибудь соседнюю деревню, захватывал ребенка и продавал его тому же покупателю, охотно соглашавшемуся его приобрести{142}.
Этот пассаж имеет смысл только в том случае, если признать, что те, кто имел долг перед секретными обществами, также были сборщиками средств. Захват ребенка — элемент распространенной в Западной Африке практики «панья-ринга», в соответствии с которой отчаявшиеся добиться уплаты долга кредиторы просто отправлялись в общину должника с отрядом вооруженных людей и хватали все, что можно было унести: людей, предметы, домашних животных, а затем удерживали это в качестве залога[178]. Не имело значения, принадлежали ли эти люди либо вещи должнику или хотя бы его родственникам. Козы или дети соседа отлично подходили для этих целей, поскольку главной задачей было оказать социальное давление на всякого, кто был должен денег. Как отмечал Уильям Босман, «если Должник — честный человек, а его Долг справедлив, он будет стремиться немедленно удовлетворить Кредиторов, чтобы освободить своих Соплеменников»{143}. Это был довольно действенный метод в условиях отсутствия центральной власти, поскольку люди, как правило, испытывали огромную ответственность перед членами своей общины и почти никакую — перед всеми остальными. В случае секретного общества, упомянутого выше, чтобы не отдавать в уплату членов своей собственной семьи, должник, видимо, требовал возвращения реальных или воображаемых долгов у людей, не состоявших в организации[179].
Такие методы не всегда были эффективными. Часто должников заставляли закладывать все больше и больше своих детей или слуг, пока наконец им не оставалось ничего другого, кроме как заложить самих себя[180]. А в разгар работорговли слово «заложник», естественно, превратилось в эвфемизм. Различие между заложниками и рабами практически исчезло. Должники, вслед за своими семьями, попадали в руки аро, а затем к англичанам, которые заковывали их в кандалы и цепи, бросали в тесные трюмы невольничьих суденышек и отправляли на заморские плантации[181].
* * *
Одна из причин, почему людей тив преследовал кошмар о том, что коварная тайная организация заманивает в долговые ловушки ничего не подозревающих жертв, которые сами превращались в выбивателей долгов, уплачиваемых телами их детей, а затем и их собственными, заключалась в том, что все это действительно происходило с людьми, жившими в нескольких сотнях миль от них. И словосочетание «долги плоти» вовсе не является некорректным. Может, работорговцы и не пускали своих жертв на мясо, но они совершенно точно обращались с ними как с телами, а не как с людьми. Быть рабом означало быть оторванным от семьи, близких, друзей и общины, лишиться имени, идентичности и достоинства, всего того, что делает человека чем-то большим, чем обыкновенная машина, способная понимать приказы. Да и возможностей развивать долгосрочные отношения у большинства рабов не было. Большинство из тех, кто попадал на плантации на островах Карибского моря и в Америке, гибли от непосильного труда.
Стоит отметить, что все это делалось при помощи механизмов человеческой экономики, основанных на том принципе, что человеческая жизнь представляет собой высшую ценность и ничто с ней не может сравниться. Все ее институты — плата за инициацию, средства расчета вины и компенсации, социальные деньги, долговое заложничество — обратились в свою противоположность; все было словно перевернуто с ног на голову и, как отмечали сами тив, инструменты и механизмы, предназначенные для создания людей, превратились в средства их уничтожения.
* * *
Я не хочу оставлять у читателя впечатление, будто то, что я описываю, характерно только для Африки. Ровно то же самое происходит всякий раз, когда человеческие экономики вступают в контакт с торговыми (особенно с торговыми экономиками, обладающими передовыми военными технологиями и испытывающими ненасытную потребность в рабочих руках).
Похожую ситуацию можно наблюдать в Юго-восточной Азии, особенно среди жителей островов и холмистых районов, расположенных на окраинах крупных государств. Как отмечал Энтони Рейд, видный исследователь этого региона, организация труда в Юго-восточной Азии долгое время покоилась на отношениях долгового рабства.
Даже в относительно простых обществах, где использование денег было очень ограниченно, ритуалы — калым за невесту и принесение в жертву быка в случае смерти члена семьи — требовали значительных расходов. Неоднократно отмечалось, что чаще всего бедняки оказываются в долгу перед богачами именно из-за этих ритуальных потребностей…{144}
Например, от Таиланда до Сулавеси распространен обычай, согласно которому бедные братья обращаются к богачу, чтобы покрыть расходы на свадьбу одного из них. После этого они называют богача «хозяином». Больше всего это похоже на отношения между патроном и клиентом: он может обязать братьев время от времени выполнять случайную работу или появляться в его окружении, когда он хочет произвести впечатление, но не более того. Однако в теории он владеет их детьми и «может забрать жену, если его клиенты не выполняют своих обязательств»{145}.
Истории, похожие на то, что происходило в Африке, мы наблюдаем и в других местах: крестьяне закладывают себя или членов своих семей или даже продают себя в неволю; государства назначают наказания в виде огромных штрафов. «Конечно, часто эти штрафы нельзя было выплатить, и осужденный человек, порой вместе со своими слугами, становился крепостным правителя, пострадавшей стороны или любого, кто мог заплатить за него штраф»{146}. Рейд утверждает, что все это носило в основном безобидный характер: бедняки даже брали нарочно ссуду, чтобы стать должниками состоятельного патрона, который мог дать им пищу и кров в тяжелые времена и обеспечить женой. Конечно, это не было рабством в обычном смысле слова — если только патрон не решал отослать кого-нибудь из зависимых от него лиц своему кредитору в отдаленный город вроде Маджапахита или Тернате, где они вкалывали, как и прочие рабы, на кухне у какого-нибудь вельможи или на перечной плантации.
Это важно подчеркнуть, потому что одним из результатов работорговли стало то, что люди, не живущие в Африке, часто представляют себе этот континент жестоким и безнадежно диким местом, — для африканцев этот образ имел самые плачевные последствия. Уместно будет рассмотреть историю места, которое обычно представляют как полную противоположность: речь пойдет о Бали, знаменитом «крае десяти тысяч храмов», острове, о котором в антропологических работах и туристических брошюрах часто пишут, что населяют его одни лишь безмятежные мечтательные художники, проводящие время за составлением цветочных букетов и выполнением синхронизированных танцевальных номеров.
В XVII–XVIII веках такой репутации у Бали еще не было. В те времена он был разделен на дюжину мелких склочных королевств, которые почти постоянно находились в состоянии войны друг с другом. Репутация острова у голландских купцов и чиновников, обосновавшихся на соседней Яве, была совершенно противоположна той, которой он пользуется сегодня. Балийцев считали грубым жестоким народом, которым управляла развращенная, пристрастившаяся к опиуму знать, разбогатевшая исключительно на продаже своих подданных в неволю иностранцам. К моменту, когда голландцы установили полный контроль над Явой, Бали превратился в источник для экспорта людей, особенно молодых женщин, которые пользовались большим спросом в городах этого региона как проститутки и наложницы[182]. Поскольку остров был вовлечен в работорговлю, практически вся его социальная и политическая система превратилась в аппарат по насильственному изъятию женщин. Даже в деревнях обычные браки обретали форму «брака через похищение» — иногда в виде инсценированной кражи невесты, иногда в форме реального насильственного захвата, после которого похитители платили семье девушки, чтобы замять дело{147}.[183] Но если женщину похищал какой-то важный персонаж, то никакой компенсации не выплачивалось. Еще в 1960-х годах старики вспоминали, как их родители прятали привлекательных девушек,
запрещая им делать великолепные подношения во время храмовых празднеств, чтобы их не заметили королевские слуги, которые заталкивали их в охраняемые женские покои дворца, где посетители-мужчины не могли поднять глаза выше уровня ног. Ведь шанс на то, что девушка станет законной княжеской женой из низшей касты (пенавинг), был невелик… Чаще всего после нескольких лет, на протяжении которых ее заставляли участвовать в развратных оргиях, она становилась служанкой, чье положение не сильно отличалось от рабского{148}.
Или если она занимала такое положение, что жены из высших каст начинали усматривать в ней соперницу, ее могли либо отравить либо отправить в заморские края, чтобы она обслуживала солдат в каком-нибудь китайском борделе в Джокьякарте или чистила отхожие места в доме французского плантатора на острове Реюньон в Индийском океане[184]. Тем временем королевские судебники переписывались в том же духе, что и в Африке, за тем лишь исключением, что здесь сила закона была обращена в первую очередь против женщин. Не только обращали в рабство и депортировали преступников и должников, но и всякий женатый мужчина наделялся правом отказаться от жены, что автоматически передавало ее в собственность местному правителю, который мог ею распоряжаться по своему усмотрению. Даже женщину, муж которой умирал до того, как она родила мальчика, забирали во дворец для последующей продажи за границу{149}.
Как объясняет Адриан Викерс, даже знаменитые балийские петушиные бои, хорошо известные любому антропологу-первокурснику, изначально внедрялись королевскими судами как способ получения человеческого товара:
Короли даже помогали обременять людей долгами, устраивая петушиные бои в своих столицах. Страсть и сумасбродство этого увлекательного вида спорта толкали многих крестьян ставить на кон больше, чем они могли себе позволить. Как и в любой игре, надежда на крупный выигрыш и дух соревнования подпитывали необоснованные амбиции и к концу дня, когда последний коготь вонзался в грудь последнего петуха, у многих крестьян уже не было ни дома, ни семьи, к которым они могли вернуться. Вскоре их жен, детей и их самих продавали на Яву{150}.[185]
Размышления о насилии
Я начал эту книгу с вопроса: как нравственные обязательства между людьми начинают считаться долгами и в итоге оправдывают поведение, которое иначе казалось бы совершенно безнравственным?
Эту главу я начал с того, что предложил ответ, проведя различие между торговыми экономиками и экономиками, которые я назвал «человеческими», т. е. такими, в которых деньги выполняют прежде всего социальную функцию и призваны скорее создавать, поддерживать или прерывать отношения между людьми, чем использоваться для приобретения вещей. Как убедительно доказал Роспабе, особым свойством таких социальных денег является то, что они никогда не равноценны людям. Они скорее постоянно напоминают, что у людей не может быть никакого эквивалента: в конце концов, одного человека не может заменить даже другой. В этом заключается глубокая истина кровной вражды. Никто не может на самом деле простить человека, убившего его брата, потому что каждый брат — уникален. Ничто не может его заменить, даже другой человек, получающий то же имя и положение, что было у брата, или наложницу, которая родит сына и назовет его в честь вашего брата, или невесту умершего, которая родит ребенка, призванного однажды отомстить за его смерть.
В человеческой экономике каждая личность уникальна и бесценна, потому что связана с остальными людьми неповторимыми отношениями. Женщина может быть дочерью, сестрой, любовницей, соперницей, спутницей, матерью, сверстницей и наставницей многих людей. Каждые отношения уникальны, даже если они складываются в обществе, где для их поддержания требуется постоянно дарить типовые предметы вроде ткани из рафии или связок медной проволоки. С одной стороны, эти предметы делают человека таким, какой он есть, — именно поэтому роль социальных денег так часто выполняют вещи, в которые люди одеваются или которые украшают человеческое тело, т. е. вещи, делающие человека тем, кем он является в глазах других людей. Однако не одежда делает нас такими, какие мы есть, и отношения, которые поддерживаются дарением и получением ткани из рафии, этим не ограничиваются[186]. Это, в свою очередь, означает, что ткань из рафии не столь важна. Именно поэтому я думаю, что Роспабе был прав, когда подчеркивал, что в таких экономиках деньги никогда не заменяют человека, а лишь являются формой признания того, что долг не может быть выплачен. Но даже представление о том, что одного человека может заменить другой, что одна сестра может быть приравнена к другой, вовсе не является самоочевидным. В этом смысле понятие «человеческая экономика» двояко. В конце концов, это тоже экономика, т. е. система обмена, в которой качество сводится к количеству и допустимо вести подсчет выгоды и убытков, даже если такой подсчет выражается формулой 1=1 (в случае обмена сестрами) или 1–1=0 (в случае кровной вражды).
Как осуществляются такие подсчеты? Как можно обращаться с людьми так, будто они тождественны друг другу? Пример леле дал нам подсказку: чтобы сделать человека предметом обмена, например одну женщину равноценной другой, ее нужно прежде всего вырвать из среды, из того уникального сплетения отношений, в центре которого она находится, и свести ее к некоей общей стоимости, которая может быть добавлена или изъята и которую можно использовать как средство измерения долга. Это подразумевает определенное насилие. Еще больше насилия требуется, чтобы превратить ее в эквивалент сандалового бруска. А чтобы полностью вырвать ее из среды и обратить в рабство, нужно постоянное систематическое насилие, колоссальное по своим масштабам.
Здесь нужно внести ясность. Я не использую слово «насилие» в метафорическом смысле. Я говорю не о концептуальном насилии, а о прямой угрозе переломать кости и набить синяки, об ударах и зуботычинах; точно так же как древние евреи, говорившие о своих дочерях, попавших в «неволю», имели в виду не поэтическое значение этого слова, а вполне конкретные веревки и цепи.
Многие из нас о насилии особо не задумываются. Счастливчики, ведущие относительно комфортную и безопасную жизнь в современных городах, обычно делают вид, что его просто не существует, или, когда им напоминают, что это не так, описывают «тамошний» мир как ужасное, жестокое место, с которым ничего поделать нельзя. Тот же инстинкт позволяет нам не думать о том, насколько наше повседневное существование определяется насилием или, по крайней мере, угрозой насилия (как я часто говорю, подумайте о том, что произойдет, если вы будете настаивать на вашем праве войти в университетскую библиотеку без правильно оформленного удостоверения), и преувеличивать значение — или хотя бы частоту — таких вещей, как война, терроризм и насильственные преступления. Роль силы в создании рамок человеческих отношений в так называемых традиционных обществах просто четче выражена, пусть даже во многих из них физическое нападение одного человека на другого происходит реже, чем в нашем. Вот история, произошедшая в государстве Буньоро в Восточной Африке:
Однажды в одну деревню переехал человек. Он хотел понять, какие у него соседи, и посреди ночи сделал вид, что жестоко избивает свою жену, для того чтобы узнать, придут ли они к нему и станут ли его удерживать. Но на самом деле он бил козью шкуру, а его жена вопила истошным голосом, что он ее убивает. Никто не пришел, и на следующий же день этот человек и его жена собрали вещи и уехали из этой деревни искать себе другое место жительства{151}.
Здесь все понятно. В приличной деревне соседи бросились бы к его дому, остановили его и спросили, чем именно женщина заслужила такое обращение. Спор стал бы делом всей общины и завершился неким коллективным решением. Так обычно люди и живут. Ни один мужчина или женщина в здравом уме не захотят жить в месте, где соседи не заботятся друг о друге.
В определенном смысле эта история показательна и даже мила, но стоит задаться вопросом: как отреагировали бы члены общины, даже такой, которую герой это истории счел бы приличной, если решили, что это она бьет его?[187] Я думаю, ответ очевиден. В первом случае побои вызвали бы тревогу, во втором — смех. В Европе в XVI и XVII веках деревенская молодежь устраивала сатирические сценки, высмеивая мужей, которых били жены, — их даже сажали задом-наперед на осла и возили по всему городу на всеобщее осмеяние[188]. Ни одно африканское общество, насколько я знаю, так далеко не заходило. (И столько ведьм африканские общества не жгли — Западная Европа тех времен вообще была на редкость диким местом.) Однако, как почти во всем мире, представление о том, что один вид жестокости хотя бы теоретически допустим, а другой — нет, задавало рамки, в которых развивались отношения между полами[189].
Я хочу подчеркнуть, что есть прямая связь между этим фактом и возможностью торговать одной жизнью в обмен на другую. Антропологи обожают рисовать диаграммы, изображающие преобладающие брачные модели. Иногда эти диаграммы довольно красивы{152}:
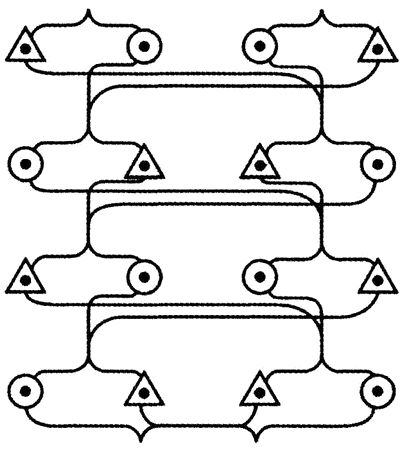
Идеальная модель перекрестных браков между кузенами
Иногда они обладают элегантной простотой, как эта диаграмма, изображающая обмен сестрами у народа тив{153}.
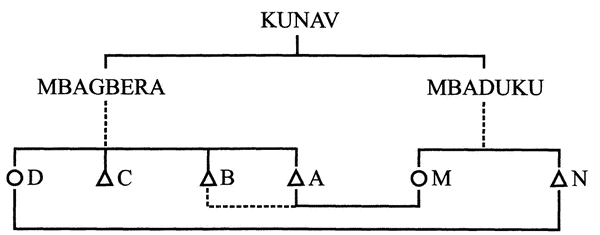
Люди, предоставленные сами себе, редко когда устраивают свои отношения, следуя симметричным моделям. У всякой симметрии обычно есть ужасная человеческая цена. Вот как ее описывает Акига Сай в случае тив:
При старой системе старик, у которого была подопечная, всегда мог жениться на молодой девушке, каким бы старым он ни был, даже если он был прокаженным без рук и ног; ни одна девушка не осмелилась бы ему отказать. Если другому мужчине нравилась его подопечная, он мог насильно отдать старику свою, чтобы совершить обмен. Опечаленная девушка должна была отправиться к старику со своей сумкой из козьей кожи. Если она сбегала к себе домой, собственник ловил ее и бил, затем связывал и возвращал старику, который от радости расплывался в такой ухмылке, что становились видны его почерневшие коренные зубы. «Куда бы ты ни пошла, — говорил он ей, — тебя все равно вернут ко мне; так что перестань беспокоиться и будь моей женой». Девушка так переживала, что хотела провалиться сквозь землю. Иногда женщины даже наносили себе смертельные раны, когда их отдавали пожилому человеку против их воли; но несмотря ни на что тив это особо не заботило{154}.
Последняя строчка все проясняет. Эта цитата может показаться нечестной (тив это заботило настолько сильно, что они избрали Акигу своим первым представителем в парламенте, поскольку знали, что он выступал за принятие законов, запрещавших подобные методы), но она отчетливо показывает, что некоторые виды насилия считались приемлемыми с нравственной точки зрения[190]. Ни один сосед не стал бы вмешиваться, если бы опекун избивал свою сбежавшую подопечную. Или даже если бы и вмешался, то лишь для того, чтобы убедить его использовать более мягкие средства для ее возвращения
законному мужу. Так происходило потому, что женщины знали, что именно так соседи или даже родственники реагировали на «брак по обмену». Это я и имею в виду, когда говорю о людях, «вырванных из своей среды».
* * *
К счастью для леле, ужасы работорговли обошли их стороной; тив ходили буквально по острию ножа и предпринимали героические усилия, чтобы держаться от этой угрозы подальше. Как бы то ни было, в обоих случаях имелись механизмы, позволявшие насильственно забирать молодых женщин из дома и превращавшие их тем самым в предметы обмена; хотя в каждом случае считалось, что одну женщину можно было обменять только на другую. Редкие исключения из этого принципа, когда женщины обменивались на другие вещи, были следствием войн и работорговли, т. е. имели место тогда, когда уровень насилия значительно возрастал.
Конечно, работорговля придавала насилию совершенно иное измерение. Здесь речь идет об уничтожении людей в масштабах геноцида — в мировой истории его можно сравнить только с уничтожением цивилизаций Нового Света или Холокостом. И я вовсе не пытаюсь возложить вину за это на жертв: достаточно просто представить, что произошло бы с нашим обществом, если бы вдруг к нам явились инопланетные пришельцы, располагающие непревзойденными военными технологиями, бесконечно богатые и придерживающиеся непонятных нравственных принципов, и заявили, что готовы платить по миллиону долларов за каждого работника, только чтобы лишних вопросов им не задавали. Всегда найдется горстка беспринципных людей, которые захотят воспользоваться такой ситуацией, и этого будет вполне достаточно.
Группы вроде конфедерации аро придерживались хорошо знакомой стратегии, которая присуща фашистам, мафии и бандитам, исповедующим правые взгляды: сначала развязывается преступное насилие ничем не ограниченного рынка, в котором все продается и цена человеческой жизни становится крайне низкой; затем в дело вступают они, предлагая восстановить определенный уровень порядка, строгость которого, однако, не затрагивает самых доходных аспектов предшествующего хаоса. Насилие включается в структуру законодательства. Такие мафиозные группы всегда навязывают строгий кодекс чести, в котором нравственность выражается прежде всего в уплате долгов.
Если бы это была другая книга, я мог бы пуститься в рассуждения о любопытных параллелях между обществами реки Кросс и Бали. И там и там пышным цветом расцвело творчество (маски Экпе с берегов реки Кросс оказали большое влияние на Пикассо), которое выразилось прежде всего в театральном искусстве с его затейливой музыкой, великолепными костюмами и стилизованными танцами — воображаемый спектакль был своего рода альтернативным политическим порядком — как раз тогда, когда обычная жизнь превратилась в полную опасностей игру, в которой любой неверный шаг мог привести к обращению в рабство. Какая связь между этими обществами? Это интересный вопрос, но мы не можем на него здесь отвечать. Для наших целей ключевой вопрос формулируется следующим образом: насколько такой порядок вещей был распространен? Африканская работорговля, как я уже говорил, стала беспрецедентной катастрофой, но торговые экономики извлекали рабов из экономик человеческих на протяжении тысяч лет. Эта практика стара, как сама цивилизация. Я хочу задаться вопросом: до какой степени она является определяющей для самой цивилизации?
Здесь я говорю не только о рабстве, но и о процессе, который выдавливает людей из сетей, сотканных из взаимных обязательств, общей истории и коллективной ответственности и делающих их такими, какие они есть, и превращает их в предметы обмена, т. е. подчиняет их логике долга. Рабство лишь логическое завершение, наиболее крайняя форма этого выдавливания. Но именно поэтому оно позволяет нам взглянуть на процесс в целом. Более того, рабство, сыгравшее такую важную роль в истории, столь сильно повлияло на формирование наши базовых принципов и институтов, что мы этого даже не замечаем, а если бы и заметили, то, возможно, не захотели признавать. Обществом, основанном на долге, мы стали потому, что наследие войн, завоеваний и рабства окончательно так и не исчезло. Оно по-прежнему существует, оно вплетено в ключевые для нас понятия чести, собственности и даже свободы. Мы просто не способны это разглядеть.
В следующей главе я начну описывать, как это произошло.
Глава 7
Честь и бесчестие, или Об основаниях современной цивилизации
ur5 (HAR): сущ., печень; недоброжелательность; сердце, душа; масса, основное содержание; ссуда; обязательство; процент; излишек, доход; долг под проценты; выплата; рабыня.
Словарь шумерского языка{155}
Это просто значит отдать каждому то, что должен.
Симонид
В предыдущей главе я в общих чертах обрисовал, как человеческие экономики и социальные деньги, которые используются для измерения, оценки и поддержания отношений между людьми, могут превратиться во что-то иное. Мы обнаружили, что эти вопросы невозможно рассматривать, не принимая во внимание роль открытого физического насилия. В случае африканской работорговли такое насилие навязывалось прежде всего извне. Его внезапность и жестокость позволяют нам, словно в стоп-кадре, увидеть то, что в другие времена и в других местах происходило намного медленнее и беспорядочнее. Именно поэтому есть все основания полагать, что повсюду рабство с его уникальной способностью вырывать людей из их среды и превращать их в абстрактные понятия играло ключевую роль в возникновении рынков.
Что происходит, когда этот процесс протекает медленнее? По-видимому, история этого почти полностью утрачена, поскольку и на Ближнем Востоке, и в Средиземноморье ключевые события произошли до появления письменных источников. Тем не менее можно очертить общие контуры. На мой взгляд, для этого лучше всего начать с одного странного и спорного понятия: понятия чести, которое можно рассматривать как своего рода артефакт или даже иероглиф, как сохранившийся фрагмент истории, таящий в себе ответ почти на все вопросы, которые мы пытаемся понять. С одной стороны, оно вбирает в себя насилие — мужчины, живущие за счет насилия, будь то солдаты или гангстеры, почти всегда одержимы честью, а посягательства на нее считаются наилучшим оправданием насильственных действий. С другой стороны — долг. Мы говорим о долгах чести и о том, что выплата долга — дело чести; на самом деле переход от одного к другому лучше всего объясняет, как из обязательств возникают долги; в то же время понятие чести, по-видимому, перекликалось с провокационным утверждением о том, что из всех долгов финансовые не самые важные; здесь отражались споры, которые, подобно тем дискуссиям, чьи отголоски мы находим в Ведах и в Библии, восходят к самым истокам рынка как такового. Еще более настораживает тот факт, что раз понятие чести лишено смысла без вероятности бесчестия, то реконструкция этой истории показывает, как сильно повлияли на формирование наших базовых представлений о свободе и нравственности такие институты, о которых мы бы предпочли вообще не вспоминать: рабство в первую очередь, но не только оно.
* * *
Чтобы подчеркнуть некоторые парадоксы, связанные с этим понятием, и показать, о чем тут на самом деле идет речь, мы обратимся к истории человека, который стал жертвой атлантической работорговли, но сумел выжить. Олауда Эквиано родился около 1745 года в деревне, расположенной где-то в царстве Бенин. В 11 лет его похитили, а затем продали британским работорговцам, действовавшим в заливе Биафра. Оттуда Эквиано был переправлен на Барбадос, а затем на плантацию в Виргинии.
Дальнейшие приключения Эквиано — а их было немало — изложены в его автобиографии «Увлекательная повесть жизни Олауды Эквиано, или Густава Вазы, африканца», опубликованной в 1789 году. После того как он провел большую часть Семилетней войны, таская порох на британском фрегате, ему то обещали свободу, то отказывали в ней, несколько раз продавали новым хозяевам, которые регулярно ему врали, обещая свободу, а потом нарушали данное слово. Наконец он оказался в руках купца-квакера из Пенсильвании, который через некоторое время разрешил ему купить свободу. В последние годы жизни он сам стал успешным торговцем, популярным писателем, исследователем Арктики и одним из самых известных аболиционистов в Англии. Его красноречие и удивительная история жизни сыграли важную роль в движении, которое привело к отмене работорговли в Великобритании в 1807 году.
Читателей книги Эквиано часто смущает одна деталь: в молодые годы он не выступал против института рабства. Более того, когда он копил деньги на то, чтобы выкупить себя, он недолгое время занимался покупкой рабов в Африке. Эквиано перешел на позиции аболиционизма только после того, как обратился к методизму и повстречал религиозных активистов, боровшихся с работорговлей. Многие спрашивали: почему он так долго к этому шел? Он-то точно хорошо себе представлял все ужасы рабства.
Ответ, как ни странно, заключается в самой репутации человека. При прочтении книги бросается в глаза, что он был не просто чрезвычайно находчивым и решительным человеком, но прежде всего человеком чести. Это создавало ужасную дилемму. Попасть в рабство значит полностью лишиться чести. Больше всего на свете Эквиано хотел вернуть себе то, что у него отняли. Проблема в том, что честь по определению есть нечто, что существует в глазах других. Чтобы ее восстановить, раб непременно должен принять правила и нормы общества, которое его окружает, а это в первую очередь означает, что, по крайней мере на практике, он не может полностью отвергнуть институты, которые лишили его чести.
Меня потрясает тот факт, что человек может восстановить утраченную честь и вернуть себе право жить честно, только если действует в соответствии с нормами системы, которая, как ему известно из собственного трагичного опыта, глубоко несправедлива. Это само по себе является одним из наиболее жестоких аспектов рабства. Перед нами еще один пример того, что спор, возможно, должен вестись на языке хозяина, но приобретает в данном конкретном случае крайнюю, беспощадную форму.
Все рабовладельческие общества отличаются мучительной раздвоенностью сознания. Она заключалась, с одной стороны, в понимании того, что высшие цели, за которые нужно было бороться, были в конечном счете неправильными, а с другой — в ощущении, что так уж устроен мир. Это помогает понять, почему на протяжении большей части истории рабы, восстававшие против своих хозяев, редко когда восставали против рабства как такового. Оборотной стороной медали было то, что даже рабовладельцы чувствовали, что устройство общества было в принципе извращенным и противоестественным. Например, студентов, начинавших изучать римское право, заставляли выучивать следующее определение:
Рабство — установление права народов, в силу которого лицо подчинено чужому владычеству вопреки природе{156}.[191]
Рабство всегда считалось чем-то по меньшей мере позорным и отвратительным. Оно марало всякого, кто имел к нему отношение. Особое презрение вызывали работорговцы, имевших репутацию бесчеловечных мерзавцев.
В истории аргументы, служившие нравственным оправданием рабства, редко когда принимались всерьез даже теми, кто их разделял. На протяжении большей части истории рабство воспринимали так же, как мы воспринимаем войну: дело это, конечно, грязное, но нужно быть очень наивным, чтобы верить в то, что однажды оно просто исчезнет.
Дата: 2019-03-06, просмотров: 303.