Адам Смит
Теория нравственных чувств
Библиотека этической мысли –
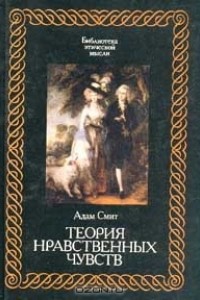
Gufo http://www.litmir.co
«Теория нравственных чувств»: Республика; Москва; 1997
ISBN 5-250-02564-1
Аннотация
Смит утверждает, что причина устремленности людей к богатству, причина честолюбия состоит не в том, что люди таким образом пытаются достичь материального благополучия, а в том, чтобы отличиться, обратить на себя внимание, вызвать одобрение, похвалу, сочувствие или получить сопровождающие их выводы. Основной целью человека, по мнению Смита. является тщеславие, а не благосостояние или удовольствие.Богатство выдвигает человека на первый план, превращая в центр всеобщего внимания. Бедность означает безвестность и забвение. Люди сопереживают радостям государей и богачей, считая, что их жизнь есть совершеннейшее счастье. Существование таких людей является необходимостью, так как они являются воплощение идеалов обычных людей. Отсюда происходит сопереживание и сочувствие ко всем их радостям и заботам
Адам Смит
Теория нравственных чувств
Или
Опыт исследования законов, управляющих суждениями, естественно составляемыми нами сначала о поступках прочих людей, а затем и о своих собственных
Предуведомление автора[1]
Со времени первого издания «Теории нравственных чувств» в начале 1759 года, я увидел необходимость множества исправлений и более подробного развития положений, высказанных в этом сочинении. Но до настоящей минуты я не мог пересмотреть его с той внимательностью и заботливостью, с какой я хотел сделать это, вследствие различных обстоятельств моей жизни. Главные изменения в этом новом издании сделаны мною в последней главе третьего отдела первой части и в четырех первых главах третьей части. Шестая часть, в том виде, в каком она представлена в этом издании, написана мною заново. В седьмой части я соединил почти все о стоической философии, что было разбросано в различных местах первого издания. Я старался также изложить с большей подробностью и подвергнуть более глубокому исследованию некоторые части учения этой знаменитой школы. В последнем отделе седьмой части я собрал многие замечания, относящиеся к обязанности быть правдивым. В остальных частях сочинения читатель найдет немного изменений.
В последнем параграфе первого издания я обещал публике изложение общих оснований законодательства, правительственного управления и исторический взгляд на изменения, сделанные в различные периоды общественного состояния в основаниях, как относительно финансов и военных сил, так и относительно управления вообще, и всего, что составляет предмет собственно законодательства. Обещание мое я стараюсь исполнить в «Исследовании о природе и причинах богатства народов», по крайней мере что касается управления, финансов и военного устройства. Что же касается теории юриспруденции, то до настоящей минуты я не мог исполнить моего обещания по тем же причинам, которые не дозволяли мне пересмотреть и «Теорию нравственных чувств». Хотя в силу моего преклонного возраста я имею только слабую надежду на исполнение такой важной работы в том виде, как я задумал ее, тем не менее, так как я не отказался от этого намерения и так как я желаю посвятить все свои силы его исполнению, то я оставил параграф в том виде, в котором я заявил об этом тридцать лет тому назад, когда я нисколько не сомневался, что исполню все обещания, сделанные мною публике.
ЧАСТЬ I
О ПРИЛИЧИИ, СВОЙСТВЕННОМ НАШИМ ПОСТУПКАМ
ОТДЕЛ I
О ЧУВСТВЕ ПРИЛИЧИЯ
Глава I. О симпатии
Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно участие к тому, что случается с другими, участие, вследствие которого счастье их необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем. Оно-то и служит источником жалости или сострадания и различных ощущений, возбуждаемых в нас несчастьем посторонних, увидим ли мы его собственными глазами или же представим его себе. Нам слишком часто приходится страдать страданиями другого, чтобы такая истина требовала доказательств. Чувство это, подобно прочим страстям, присущим нашей природе, обнаруживается не только в людях, отличающихся особенным человеколюбием и добродетелью, хотя, без всякого сомнения, они и наиболее восприимчивы к нему.
Оно существует до известной степени в сердцах самых великих злодеев, людей, дерзким образом нарушивших общественные законы.
Так как никакое непосредственное наблюдение не в силах познакомить нас с тем, что чувствуют другие люди, то мы и не можем составить себе понятия об их ощущениях иначе, как представив себя в их положении. Вообразим, что такой же человек, как и мы, вздернут на дыбу – чувства наши никогда не доставили бы нам понятия о том, что он страдает, если бы мы не знали ничего другого, кроме своего благого состояния. Чувства наши ни в коем случае не могут представить нам ничего, кроме того, что есть в нас самих, поэтому только посредством воображения мы сможем представить себе ощущения этого страдающего человека. Но и само воображение доставляет нам это понятие только потому, что при его содействии мы представляем себе, что бы мы испытывали на его месте. Оно предупреждает нас в таком случае об ощущениях, которые родились бы в нас, а не о тех, которые испытываются им. Оно переносит нас в его положение: мы чувствуем страдание от его мук, мы как бы ставим себя на его место, мы составляем с ним нечто единое.
Составляя себе понятие о его ощущениях, мы сами испытываем их, и, хотя ощущения эти менее сильны, все же они до некоторой степени сходны с теми, которые испытываются им. Когда его муки станут таким путем свойственны нам, мы сами начинаем ощущать страдания и содрогаемся при одной мысли о том, что он испытывает, ибо, подобно тому как в нас возбуждается тягостное ощущение действительным страданием или несчастьем, таким же точно образом и представление, созданное нашим воображением о каком-нибудь страдании или несчастье, вызывает в нас такое же ощущение, более или менее тягостное в зависимости от живости или слабости нашего воображения.
Очевидно, стало быть, что источник нашей чувствительности к страданиям посторонних людей лежит в нашей способности переноситься воображением на их место, в способности, которая доставляет нам возможность представлять себе то, что они чувствуют, и испытывать те же ощущения. Когда мы видим направленный против кого-нибудь удар, готовый поразить его руку или ногу, мы, естественно, отдергиваем собственную руку или ногу; а когда удар нанесен, то мы в некотором роде сами ощущаем его и получаем это ощущение одновременно с тем, кто действительно получил его. Когда простой народ смотрит на канатного плясуна, то поворачивает и наклоняет свое тело из стороны в сторону вместе с плясуном, как бы чувствуя, что он должен бы был поступать подобным образом, если бы был вместо него на канате. Впечатлительные люди слабого сложения при взгляде на раны, выставляемые напоказ некоторыми нищими на улице, жалуются, что испытывают болезненное ощущение в части своего тела, соответствующей пораженной части этих несчастных. Сочувствие обнаруживается у них такой отзывчивостью, и это сочувствие возбуждается в них вследствие того, что они мгновенно представляют себе, что они сами испытывали бы на месте этих страдальцев, если бы у них была поражена таким же точно образом та же часть тела. Силы этого впечатления на их нежные органы достаточно для вызова того тягостного ощущения, на которое они жалуются. Самые крепкие люди заметили, что они ощущают весьма чувствительную боль в глазах при взгляде на глаза, пораженные страданием, и это потому, что данный орган отличается более нежным устройством у самых крепких людей, чем самый сильный орган у людей, одаренных самой слабой организацией.
В душе нашей возбуждается сочувствие не одними только обстоятельствами, вызывающими страдание или тягостное ощущение. Какое бы впечатление ни испытывал человек в известном положении, внимательный свидетель при взгляде на него будет возбужден сходным с ним образом.
Герои романа или трагедии вызывают в нас одинаковое участие как успехами, так и неудачами; симпатия наша не менее действенна как к тем, так и к другим. Мы разделяем с ними их благодарность к друзьям, остающимся им верными среди опасностей и несчастий; мы проникаемся негодованием к злодеям, оскорбляющим или обманывающим их. Итак, какие бы ощущения ни испытывал человек, такие же ощущения присутствующего непременно предполагают воображаемое представление о том, что он переносит себя на его место.
Под словами «жалость» и «сострадание» мы разумеем ощущение, возбуждаемое в нас страданием другого человека: хотя слова «сочувствие» или «симпатия» тоже ограничивались первоначально тем же значением, тем не менее можно без неудобства употреблять их для обозначения способности разделять какие бы то ни было чувствования других людей.
Симпатия пробуждается иногда непосредственно при одном только взгляде на ощущения других людей. Нередко страсти передаются мгновенно от одного человека к другому, без всякого предварительного осознания того, что изначально вызвало их. Например, достаточно бывает выразительного проявления во взгляде и во внешнем виде человека печали или радости, чтобы возбудить в нас тягостное или приятное ощущение. Смеющееся лицо вызывает в нас веселое душевное состояние; напротив, угрюмое и грустное лицо рождает в нас печальное и задумчивое настроение.
Впрочем, подобное действие не является безусловно всеобщим и не вызывается любыми страстями: среди последних есть такие, внешние выражения которых не только не вызывают у нас никакой симпатии (если мы не знаем возбудившей их причины), но даже возбуждают в нас отвращение и противодействие. Яростный вид разгневанного человека вызывает в нас предубеждение скорее против него, чем против его противника. Так как нам неизвестно, что вызвало его гнев, то мы не можем ни представить себя на его месте, ни возбудить в себе чувство, сходное с тем, что он испытывает. Но мы ясно видим положение человека, против которого направлено его чувство, и насилие, которому тот подвергается со стороны разгневанного человека. Вот почему мы сочувствуем его страху или его негодованию и готовы принять его сторону против того, кто, по-видимому, поставил его в опасное положение.
Если достаточно даже внешних проявлений печали или радости, чтобы мы сами испытали до некоторой степени то или другое, то это объясняется тем, что они возбуждают в нас общее представление о добре или зле, испытываемом человеком, находящимся перед нашими глазами; одного этого уже хватает, чтобы мы разделяли их в большей или меньшей степени. Выражения печали и радости относятся только к испытывающему эти чувства человеку, они не возбуждают в нас, к примеру, возмущения кем-нибудь другим, чьи интересы находились бы в противоречии с интересами этого человека. Стало быть, общего представления о каком бы то ни было добре или зле уже достаточно для возбуждения в нас известной симпатии к человеку, который испытывает их, между тем как общее представление об обиде не возбуждает в нас никакой симпатии к гневу обиженного. Природа как будто научает нас бежать от этой опасной страсти и возбуждает нас против нее, пока мы не узнаем причины, которая ее вызвала.
Само наше сочувствие к чужому горю или к чужой радости весьма слабо, пока нам неизвестно, чем они вызваны: неопределенные жалобы, выражающие одну только грусть страдающего человека, скорее возбуждают наше любопытство к его положению и смутное расположение к нему, чем действительную симпатию. Первый вопрос, с которым мы обращаемся к нему, бывает обыкновенно: «Что с вами?» И хотя до получения ответа мы и испытываем некоторое тягостное ощущение вследствие неопределенного представления о его несчастье, а еще более вследствие беспокойного желания угадать его причину, но собственно наша симпатия почти незаметна.
Итак, симпатия рождается в нас гораздо менее созерцанием страстей, нежели созерцанием ситуации, их возбуждающей. Нередко даже, переносясь мыслью в положение других, мы испытываем чувства, к которым сами они неспособны: в таком случае эти чувства вызываются скорее нашим воображением, чем какой-нибудь симпатией, основанной на действительности.
Бесстыдство, например, или грубость человека заставляют нас краснеть за него, хотя бы сам он и не был в состоянии чувствовать неприличность своих поступков, потому что мы не в силах удержаться от представления, как стыдно было бы нам, если бы мы поступили подобным же образом.
Потеря рассудка представляется нам самым ужасным из всех бедствий, каким подвергается род человеческий.
Даже бесчувственные люди не могут не испытывать самого глубокого сочувствия при взгляде на это величайшее из человеческих несчастий, но пораженный им человек смеется и поет, он остается бесчувственным к собственной участи. Страдания, испытываемые человеком при взгляде на такого несчастного, стало быть, вовсе не возбуждаются мыслью, что безумный может иметь какое-нибудь сознание о своем положении: сострадание вызывается в таком случае одним только представлением, что почувствовал бы наблюдатель, если бы, очутившись в таком несчастном положении, он в то же самое время мог взглянуть на него тем здравым рассудком, каким обладает в настоящую минуту.
Посмотрите на беспокойство матери, встревоженной криками своего ребенка, который внешними проявлениями страдания не умеет еще выразить того, что он чувствует! К мысли, что ребенок ее страдает, что он находится в беспомощном состоянии, она присоединяет собственное сознание о последнем и собственный страх за неизвестный исход болезни. Из всего этого в силу собственного беспокойства она создает самое преувеличенное представление о его беспомощности и страдании. А между тем ребенок ощущает только тягостное состояние настоящей минуты, которое ни в коем случае не может быть особенно велико, а в отсутствии предвидения он находит несомненное средство против страха и опасений, которые чаще всего мучают душу человека, так что против них, быть может, окажутся бессильны доводы здравого рассудка и вся его философия, когда он сделается взрослым человеком.
Мы проникаемся сочувствием даже к мертвым и при этом не обращаем внимания на действительно важную сторону их положения: на страшную вечность, ожидающую их.
Напротив, нас занимают исключительно какие-нибудь особенные обстоятельства, поражающие наши чувства, но не имеющие никакого отношения к мертвым. Мы сожалеем, что они лишены солнечного света, что они не видят людей и не могут уже общаться с ними, что они заключены в холодную могилу и предоставлены в добычу червям и разложению; что они будут забыты людьми и мало-помалу изгладятся из воспоминания даже родных, самых близких и дорогих друзей. Мы сожалеем, что недостаточно интересуемся давно уже умершими людьми, мы считаем себя даже обязанными тем большим сочувствием к ним, чем скорее они могут быть забыты.
Пустыми почестями, воздаваемыми памяти их, мы стремимся пробуждать и, так сказать, поддерживать в самих себе печальное воспоминание об их погибели.
Бессилие нашего сочувствия для их облегчения, кажется нам, должно еще более увеличивать их несчастье, а сознание того, что мы ничего не можем сделать для них, бесполезность всего, что обыкновенно облегчает страдания, – утешений, любви, дружеских слез – еще более возбуждает наше чувство о воображаемом их несчастье. А между тем представления эти, разумеется, не имеют никакого отношения к умершим людям и не в силах нарушить глубокого, могильного сна их. Грустные и мрачные мысли о судьбе их, создаваемые нашим воображением, объясняются тем, что к постигшей их участи мы присоединяем их сознание о случившейся с ними перемене. На самом деле мы переносимся мыслью в их положение; одушевив, если можно так выразиться, их бездушное тело собственным нашим духом, мы представляем себе ощущения, какие мы испытали бы в таком положении. Все ужасное, вытекающее из нашего предвидения собственного разрушения, создается таким же точно образом химерами нашего воображения: мы томимся всю нашу жизнь несчастьем, которое обратится в ничто, когда нас не станет. Отсюда рождается одна из самых сильных страстей человеческих – страх смерти, отравляющий наше счастье, но зато и полагающий предел людской несправедливости, страх если и мучающий каждого отдельного человека, то охраняющий и оберегающий общество.
ОТДЕЛ II
Введение
Уместность любой страсти, имеющей близкое отношение к нам, степень возбуждаемого ею в постороннем человеке сочувствия, очевидно, находятся в зависимости от ее особенностей. Если страсть чрезмерно сильна или слишком слаба, то она производит слабое впечатление на присутствующего человека. В частных отношениях между людьми страдание и негодование в случае несчастья и обиды гораздо чаще оказываются слишком сильными, чем слишком слабыми: если они доводятся до крайности, то мы называем их бешенством и подлостью; если они слишком слабы, то мы называем их тупостью, бесчувственностью или малодушием. В том и другом случае, если мы и разделяем их, то с некоторым удивлением и смущением.
Умеренность, вследствие которой страсти получают характер приличия или естественности, не должна быть одинакова для всех страстей: в проявлении одних она должна быть больше, в других меньше. Существуют страсти, сильное выражение которых неприлично, хотя всеми признается, что мы ощущаем их в самой высокой степени. И наоборот, существуют другие, крайнее проявление которых очаровывает, несмотря на то что сами по себе страсти эти не возникают с необходимостью. Первые, по некоторым причинам, с трудом возбуждают сочувствие к себе; вторые, напротив, по другим причинам, вызывают особенную симпатию. Если разобрать все страсти человеческой природы, то можно заметить, что мы считаем их приличными или неприличными в зависимости от большей или меньшей естественности вызываемой ими в нас симпатии.
Глава I. О страстях
1. Сильное выражение страстей, основанных на определенном состоянии или расположении нашего тела, считается неприличным, ибо мы не можем рассчитывать на сочувствие к нам присутствующих, не испытывающих тех же самых ощущений. Сильные проявления голода, страсти самой естественной и неизбежной, кажутся нам переходящими границы приличия; есть с большой жадностью кажется нам неблагопристойным и неприличным.
А между тем голод возбуждает в нас некоторую степень симпатии, ибо мы ощущаем удовольствие при виде человека, который ест с аппетитом, и, напротив, нам неприятно смотреть на человека, который ест с отвращением. Обычное состояние желудка здорового человека, так сказать, отзывается с удовольствием на аппетит постороннего человека, а отвращение вызывает в нем неприятное ощущение. Мы сочувствуем страданиям осажденного города или бедствию моряков, израсходовавших все свое продовольствие. Мы переносимся в их положение, мы отчасти испытываем их отчаяние, ужас, безвыходное положение. Тем не менее, хотя мы и разделяли бы до некоторой степени волнующие их страсти, нельзя сказать, чтобы мы сострадали их голоду, потому что мы не можем заставить себя ощущать его при рассказе о тех страданиях, которые им вызваны в них.
То же самое следует сказать и о страсти, которой природа соединила оба пола. Хотя эта страсть сильнее всех остальных, тем не менее даже люди, среди которых по божественным и человеческим законам она считается законной и невинной, нарушают приличия, если слишком выразительно проявляют ее. А между тем мы до некоторой степени сочувствуем этой страсти. Считается неприличным даже говорить с женщиной таким же образом, как говорят между собою мужчины. Женское общество, по-видимому, возбуждает в нас более светлое расположение духа, мы становимся веселее и в то же самое время более осмотрительны; ничто так не роняет в наших глазах человека, как его равнодушие к женщинам.
Наше отвращение к животным склонностям до такой степени сильно, что в чрезмерном их выражении мы всегда находим нечто оскорбляющее и неприятное.
Некоторые древние философы полагали, что так как страсти такого рода суть склонности, общие нам с животными, ибо они не составляют отличительных свойств нашей природы, то поэтому они и оскорбляют наше достоинство. Однако же нам свойственны и другие страсти, общие нам и животным, как, например, негодование, привязанность и даже благодарность, которые вовсе не вызывают нашего презрения. Настоящая причина особенного отвращения, возбуждаемого в нас животными склонностями, состоит в невозможности с нашей стороны разделять их. И даже лично для нас, как только мы удовлетворим подобного рода желания, возбудивший их предмет теряет в наших глазах недавнюю свою привлекательность: присутствие его нам не нравится, мы бесполезно силимся объяснить себе ту прелесть, которую он имел для нас за минуту до того; наше недавнее состояние так же мало понятно нам, как и постороннему человеку. По удовлетворении голода, например, мы удаляем с наших глаз пищу. То же самое было бы с предметами самых страстных наших желаний, если бы они вызывали в нас одни только животные склонности.
Власть наша над такими побуждениями называется умеренностью. Держать эти склонности в границах, требуемых нашим здоровьем и благополучием, есть дело нашего благоразумия; но умение управлять ими согласно с требованиями скромности, благопристойности и приличия принадлежит умеренности.
2. По той же самой причине мы считаем неприличным и недостойным человека прибегать к крику для выражения физической боли. Однако же мы сильно сочувствуем таким страданиям. Выше мы видели, что удар, направленный на руку или на ногу постороннего человека, побуждает нас отдернуть нашу руку или ногу; если же человек получает такой удар, то мы ощущаем долю его страданий, хотя, без сомнения, в слабой степени. Но если бы человек закричал при этом, то, может быть, наше сочувствие было бы ослаблено и его слабость вызвала бы наше презрение. Так бывает со всеми страстями, получающими свое происхождение из физических свойств нашего тела: они либо вовсе не возбуждают к себе нашего сочувствия, либо вызывают его в весьма слабой степени сравнительно со страданиями, испытываемыми другими.
Совсем иное бывает со страстями, возникающими в воображении. Моя физическая организация только в слабой степени поражается изменениями, происходящими в теле постороннего человека, но мое воображение более гибко и, так сказать, легче усваивает состояние и расположение воображения сколько-нибудь близкого мне человека. Несчастья, причиняемые любовью, честолюбием, пробуждают к себе несравненно более сильное сочувствие, чем самые жестокие физические страдания.
Страсти эти целиком рождаются воображением. Человек, потерявший все свое состояние, если он здоров и не испытывает от этого никакой физической боли, страдает от одного только воображения, рисующего перед его глазами утрату благосостояния, слишком вероятное забвение друзей, оскорбительную радость врагов, зависимость, нужду, нищету, следующие за его разорением; мы живо сочувствуем ему при таких обстоятельствах, ибо воображение наше в некотором роде вторит его воображению, между тем как при его физических страданиях тело наше не может отвечать ему с такою же отзывчивостью.
Потеря ноги считается вообще несравненно большим несчастьем, нежели потеря любовницы, однако же потеря ноги была бы весьма нелепым сюжетом для трагедии, между тем как утрата любовницы составляет предмет многих превосходных драматических произведений.
Ничто так легко не забывается, как физические страдания. Как только боль прекратилась, то представление о том, что мы испытывали, более не возмущает нас: мы с трудом припоминаем беспокойство и страдания, которые причинялись ею. Неосторожное слово друга поражает нас на более продолжительное время: возбужденное им страдание не исчезает тотчас. И боль, причиненная нам в таком случае, вызывается вовсе не предметом, действующим на наши органы чувств, но представлением, вошедшим в наше воображение. Это представление, причиняющее нам страдание, пока оно не будет изглажено временем или какими-либо обстоятельствами, волнует и терзает нас каждый раз, как мы припомним его.
Физические страдания никогда не вызывают особенно живого сочувствия, если только они не сопровождаются какой-либо опасностью. Мы более сочувствуем боязни, чем страданиям больного. Боязнь есть страсть, порождаемая воображением, рисующим перед нами с томительной неизвестностью усиление не действительно испытываемых нами, но возможных страданий. Подагра или зубная боль возбуждают в нас весьма слабое сочувствие, между тем как мы горячо сочувствуем опасным болезням, не сопровождающимся особенно сильными страданиями.
Есть люди, которые делаются больны или которым делается дурно при виде хирургической операции; страдания, причиняемые разрывом плоти, кажется, труднее всего переносятся присутствующим. Мы легче и живее сознаем страдания, возбуждаемые внешней причиной, чем страдания, вытекающие из внутреннего беспорядка. Мне трудно составить себе точное понятие о страданиях, вызываемых в человеке подагрой или каменной болезнью, но мне совершенно понятно то, что он ощущает при операции, ране или при переломе кости.
Тем не менее главная причина действия последних явлений на присутствующего состоит в незнакомстве с ними: человек, бывший свидетелем нескольких операций, впоследствии привыкает к ним, остается спокойным, и они не производят на него никакого воздействия. Но хотя бы мы сто раз видели в театре одну и ту же трагедию, чувствительность наша не может ослабеть до такой степени, чтобы на нас совсем не оказывало воздействия ее содержание.
Некоторые греческие трагики пытались вызвать сочувствие изображением физических страданий. Филоктет вскрикивает и падает в изнеможении от невыносимых страданий. На сцену выведены были Ипполит и Геркулес, умирающие в ужасных муках, превышавших, по-видимому, мужество самого Геркулеса[3]. В таком случае мы увлекаемся не собственно физическими страданиями, но какими-нибудь сопровождающими их обстоятельствами.
Филоктет занимает нас не раною, но своим одиночеством и тем, что всеми оставлен; обстоятельства эти придают трогательной трагедии непосредственную романтическую прелесть, очаровывающую воображение. Страдания Геркулеса и Ипполита интересуют нас только потому, что за ними следует смерть, но они показались бы нам даже смешными, если бы герои эти возвратились к жизни.
Может ли быть предметом трагедии человек, страдающий резью в животе? А между тем страдания эти сопровождаются невыносимыми муками. Одна из возмущающих сторон греческой трагедии состоит в попытках вызвать наше сочувствие изображением физических страданий.
Слабая симпатия, возбуждаемая в нас физическими страданиями, обусловливает мужество и терпение, с которыми мы должны переносить их. Человек, среди самых жестоких страданий не обнаруживающий никакого признака слабости, не обращающийся для облегчения страданий ни к стонам, ни к жалобам, вызывает в нас не только сочувствие, но даже восхищение. Мы восхищаемся и разделяем его мужественное самообладание. Мы одобряем его поведение, а так как мы по опыту знаем, что люди вообще отличаются слабостью, то удивляемся и изумляемся его мужеству, то есть мы проникаемся чувством одобрения, которое, естественно, сопровождается нашими похвалами.
ОТДЕЛ III
ЧАСТЬ II
ОТДЕЛ I
Введение
Существуют особенного рода качества, которые мы приписываем поступкам и поведению людей и которые отличаются от их законности или незаконности, от их приличия или неприличия. Эти качества, к которым прилагается особенного рода одобрение или неодобрение, и заслуживают собственно поощрения или наказания.
Мы уже замечали, что на чувство или душевное движение, которое предшествует поступку и делает его добродетельным или порочным, можно смотреть с двух совершенно различных сторон: во-первых, по отношению к причине, которая вызывает их, и, во-вторых, по отношению к результату, который следует за ними. От уместности или неуместности их, от соответствия или несоответствия между душевным движением и причиной или предметом, вызывающим его, зависит допустимость или неуместность, приличие или неприличие следующего за ним действия; а от благотворного или пагубного последствия, к которому стремится чувство, зависит одобрение или порицание поступка, являющегося результатом этого чувства. В первой части этого сочинения мы увидели, в чем состоит приличие или неприличие наших поступков; теперь мы рассмотрим, что в них вызывает наше одобрение или порицание.
Глава III. ЕСЛИ МЫ НЕ ОДОБРЯЕМ ПОСТУПКА БЛАГОДЕТЕЛЯ, ТО БЛАГОДАРНОСТЬ ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА ВЫЗЫВАЕТ К СЕБЕ СЛАБОЕ СОЧУВСТВИЕ; А ЕСЛИ ОСНОВАНИЯ, ПОБУДИВШИЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИЧИНИТЬ ЗЛО БЛИЖНЕМУ, НЕ ВЫЗЫВАЮТ НЕОДОБРЕНИЯ, ТО НЕГОДОВАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО НЕ ВЫЗЫВАЕТ К СЕБЕ НИКАКОЙ СИМПАТИИ
Необходимо, впрочем, заметить, что как бы благодетельны или как бы пагубны ни казались намерения или поступки одного человека относительно другого человека, если мы не видим оправдания благодеяния в чувствах, которые вызвали его, то мы слабо сочувствуем благодарности облагодетельствованного человека; если же, в случае причиненного человеку зла, мы не только не порицаем, но и оправдываем вызвавшее его побуждение, то негодование человека, которому сделано зло, не пробуждает в нас никакой симпатии. В первом случае нам кажется, что благодеяние заслуживает меньшей благодарности, а во втором – негодование, по нашему мнению, совершенно несправедливо. Первый поступок мало заслуживает награждения, а второй не заслуживает никакого наказания.
1. Я сказал, во-первых, что если мы не можем сочувствовать побуждениям, вызывающим человека на определенный поступок, и если находим их малоосновательными, то мы менее расположены разделять благодарность того, кому поступок этот приносит пользу. В самом деле, непомерная и преувеличенная щедрость, расточающая благодеяния по самым пустым случаям, побуждающая, например, человека передать кому-либо важное место потому только, что он носит с ним одну фамилию, вовсе не заслуживает нашего одобрения. Мы видим огромное несоответствие между заслугой и наградой. Наше презрение к безумию благотворителя препятствует нам сочувствовать благодарности облагодетельствованного человека. Нам кажется, что первый вовсе не заслуживает благодарности; а поставив себя на место последнего, мы не чувствуем особенного уважения к его благодетелю и охотно освобождаем его от той благоговейной преданности и внимательности, какие прилично воздавать человеку, внушающему к себе больше уважения: если отношения облагодетельствованного человека к своему благодетелю удовлетворяют общим требованиям человеколюбия и справедливости, то мы прощаем отсутствие в нем внимательности и почтительности, которые заслужил бы более достойный покровитель. Государь, чрезмерно награждающий своих любимцев богатством, почестями и властью, реже вызывает в них сильную привязанность к себе, чем государь, распределяющий свои благодеяния с большей разборчивостью. Великодушная, но безумная щедрость британского короля Якова I никого не привязывала к нему, так что, несмотря на приветливый и мягкий характер, государь этот прожил и умер, не имея ни одного друга. И наоборот, весь народ и все дворянство королевства жертвовали жизнью и имуществом для поддержания его сына, несмотря на строгий и холодный нрав последнего, и только за то, что он отличался большей любовью к порядку и большей разборчивостью при выборе людей.
2. Я сказал, во-вторых, что если дело идет о зле, причиненном человеку, то, как бы велико оно ни было, негодование или месть последнего не вызывает в нас никакого сочувствия, если человек, сделавший ему зло, был вынужден к этому и руководствовался побуждениями, которые мы не можем не одобрить. Когда враждуют два человека, то мы принимаем сторону одного и не можем разделить неприязненных чувств другого. Симпатия наша к тому из них, чувства которого мы разделяем и оправдываем, не допускает сочувствия к другому, кого, по необходимости, мы обвиняем. Поэтому никакое возмездие (если оно не переходит за границы того, что допускается нашим симпатическим враждебным чувством, или того, что мы решились бы сами причинить ему), не может ни взволновать, ни возмутить нас. Когда мы видим жестокого убийцу, идущего на казнь, то какое бы сострадание ни вызывало в нас его несчастье, ни в коем случае мы не могли бы сочувствовать его негодованию к тем, кто поймал и осудил его, если бы он был настолько глуп, чтобы выказать его. Неудержимое и справедливое негодование, возбуждаемое подобным преступником, есть самое страшное, самое смертельное для него наказание; и это негодование никогда не может возмутить нас, ибо, порывшись в глубине нашего сердца, мы нашли бы, что оно разделяет его.
ОТДЕЛ II
ОТДЕЛ III
Введение
Для того чтобы узнать, заслуживает ли какой-либо поступок похвалы или порицания, прежде всего мы должны узнать намерение и чувство, которые его вызвали, затем внешнее или вещественное выражение этого чувства и, наконец, благотворный или гибельный результат, непосредственно последовавший за поступком. Эти три обстоятельства определяют природу всякого поступка, заключают в себе все его условия и составляют основу всех качеств, по которым мы можем судить о нем.
Последние два обстоятельства, очевидно, не могут быть поводом ни для похвалы, ни для порицания: против этого никто никогда не спорил. Движения тела часто суть одни и те же как в самых невинных действиях, так и в самых преступных. Человек делает одно и то же, когда он стреляет в птицу и когда он стреляет в человека. Чтобы смертельно поразить как птицу, так и человека, достаточно одного и того же слабого движения, чтобы спустить курок. Последствия, вытекающие из какого-либо действия, быть может, еще менее заслуживают похвалы или порицания, чем внешние движения, которые сопровождают действие. Так как последствия эти почти всегда зависят от случая, а не от человека, то они и не могут служить основанием для нашего мнения о его характере и о его поступках.
Единственные последствия, за которые он может отвечать, за которые он может заслужить похвалу или порицание, суть те, которые заключались в его намерении и в его желании, – словом, те, которые очевидно вытекают из какого-либо доброго или злого качества его сердца. Итак, с точки зрения окончательного результата намерение, движение сердца побуждают нас к оправданию или порицанию, к одобрению или осуждению поступка в том, что касается его законности или незаконности, его пользы или вреда.
Никто на станет оспаривать этой истины, представленной в такой отвлеченной и общей форме. Сама по себе она очевидно справедлива и принимается без возражений. Всякий согласится, что каковы бы ни были непредвиденные и случайные последствия какого-либо действия, если намерения и побуждения человека были, с одной стороны, добрые и великодушные, а с другой стороны, злые и недоброжелательные, то достоинства поступка всегда одинаковы и что поэтому он сохраняет право на благодарность или на порицание.
Как бы, впрочем, справедлива ни казалась нам эта истина в теоретическом отношении, тем не менее в действительности, в приложении к отдельным случаям, мы находим, что последствия какого-либо действия почти всегда определяют наше мнение о поступке и по крайней мере усиливают или ослабляют наше чувство его одобрения или неодобрения: если бы мы разобрали наше мнение, руководствуясь только приведенными теоретическими соображениями, то мы нашли бы, что оно никогда не основывается на них, хотя все мы признаем, что так должно было бы быть.
Я постараюсь разъяснить это странное явление, это противоречие в наших суждениях, противоречие, которое всеми чувствуется, но в котором никто не хочет сознаться и на которое так редко обращают внимание: я рассмотрю сначала его причины и, так сказать, тот механизм, которым природа вызывает его в нас, затем я разберу его последствия и их значение и, наконец, то, к чему все это клонится или в чем состоит цель, указанная ему Творцом природы.
ЧАСТЬ III
ЧАСТЬ IV
ЧАСТЬ V
ЧАСТЬ VI
О СВОЙСТВАХ ДОБРОДЕТЕЛИ
Введение
При исследовании индивида мы рассматриваем его характер в двух различных аспектах: во-первых, относительно значения характера для личного благополучия индивида и, во-вторых, относительно влияния его характера на благополучие прочих людей.
ОТДЕЛ I
ОТДЕЛ II
Введение
Характер каждого человека оказывает влияние на счастье прочих людей в зависимости от того, способен ли он приносить им вред или пользу.
Естественное негодование против задуманной или уже совершенной несправедливости представляется в глазах беспристрастного наблюдателя единственной побудительной причиной, которая может оправдать нарушение нами спокойствия прочих людей. В противном случае мы нарушаем законы справедливости, и нарушение это должно быть сдержано силой. Общий интерес и, так сказать, общее благоразумие требуют при всяком состоянии общества, чтобы общественная сила была направлена к воспрепятствованию членам общества наносить друг другу вред. Общие правила для достижения этой цели составляют гражданские и уголовные законы каждой страны. Принципы, которые лежат или должны лежать в основании этих правил, составляют предмет особой науки – естественной юриспруденции, быть может, важнейшей из всех наук, хотя до последнего времени менее всего разработанной, в подробности которой я здесь не могу вдаваться.
Поистине душевная забота, имеющая целью ничем не возмутить счастья ближних, даже при обстоятельствах, в которых строгий закон не представляет им защиты, составляет отличительную черту честного и справедливого характера, заслуживающего во всяком случае уважения и почтения и сопровождающегося многими другими добродетелями: человеколюбием, мягкосердечием, великодушной снисходительностью. Характер этот достаточно известен и не требует дальнейших разъяснений. В этом разделе я имею в виду указать только на основания порядка, установленного, по-видимому, природой в распределении нами добра или в направлении и применении нашей благотворительности, во-первых, по отношению к индивидам и, во-вторых, по отношению к обществу.
Мы увидим, что неизменная мудрость природы, всюду соизмеряющая свои средства с целью, и в этом случае устанавливает порядок и значение внушаемых ею нам побуждений и что мы ощущаем большую или меньшую склонность к добру в зависимости от большей или меньшей необходимости, большей или меньшей пользы от нашей благотворительности.
ОТДЕЛ III
О САМООБЛАДАНИИ
Человек, соблюдающий правила благоразумия, строгой справедливости и человеколюбия, может считаться вполне добродетельным. Но для соблюдения этих правил еще недостаточно самого основательного знания их. Страсти могут обольстить и ослепить его вплоть до забвения всех законов, которым он решил подчиниться в спокойном состоянии и в здравом уме. Поэтому самые высокие правила нравственности нуждаются еще в самообладании, при содействии которого он только и может исполнять свои обязанности.
Некоторые из ведущих древних моралистов подразделяли страсти на два класса. К первому они причисляли все те, которые без приложения нами усилий ни на мгновение не могут быть сдержаны самообладанием, а ко второму – все те, которые легко могут быть сдержаны как на мгновение, так и на короткий промежуток времени, но которые, однако, постоянно обладая притягательной силой, весьма способны приводить к серьезным отклонениям.
Гнев и страх вместе с некоторыми другими страстями принадлежат к первому классу, а склонность к удобствам жизни, любовь к удовольствию, жажда похвалы – ко второму. Почти всегда бывает трудно сдержать хоть на минуту сильный страх или жестокий гнев. Однако нетрудно приостановить на минуту или на непродолжительное время склонность к удобствам жизни, любовь к удовольствию, жажду к похвале или к другим подобного рода наслаждениям, основывающимся на себялюбии. Но так как они непрерывно возбуждают нас, то нередко влекут за собой такие слабости, которых мы сами стыдимся. Можно сказать, что страсти первого класса сразу отвлекают нас от выполнения долга, а страсти второго делают это постепенно. Древние моралисты называли силою, геройством, душевным величием то самообладание, которое справляется с первыми, и давали название приличия, умеренности, воздержания, скромности – господству над вторыми.
Такое господство над собой, будет ли оно обращено на первые или на вторые страсти, помимо достоинств, вытекающих из всякого полезного свойства, обладает еще и собственным достоинством, ибо дает нам возможность поступать в соответствии с правилами благоразумия, справедливости и человеколюбия. Поэтому оно в определенной степени заслуживает одобрения и восхищения, и достигается это в первом случае развиваемым им в нас сильным и возвышенным характером, а во втором – основанными на нем благоразумием, умеренностью и справедливостью.
Человек, который среди опасностей и мучений приближающейся смерти сохраняет невозмутимое спокойствие и не позволяет себе ни движения, ни слова, которое не вызвало бы сочувствия в беспристрастном постороннем наблюдателе, заслуживает самого высокого восхищения. Если он страдает за истину, за свободу, за справедливость, за любовь к человечеству или к родной стране, то к самому нежному состраданию к его мукам, к негодованию против несправедливых его гонителей, к живой симпатической признательности за его добрые намерения мы присоединяем глубокое уважение к его добродетели, наше восхищение им растет и доходит до благоговения. Среди героев древнего и новейшего времени нам нравятся и .заслуживают особенного нашего расположения те, кто из любви к свободе, к справедливости, к истине погибли на эшафоте и взошли туда с такой непринужденностью и таким достоинством, какие соответствуют столь высоким целям. Если бы враги Сократа оставили его спокойно умереть в своей постели, то слава этого философа, быть может, никогда не была бы окружена таким блеском, с каким прошла она через столько веков. При взгляде на портреты великих людей – сэра Томаса Мора, Рейли, Рассела, Сиднея, выгравированные Вертю и Хаубрейкеном[71] и приложенные к книге по истории Англии, всякий чувствует, что помещенный под их изображением топор, напоминающий об их казни, сильнее увеличивает интерес и благоговение к ним, чем все окружающие их атрибуты дворянского происхождения.
Мужество и душевное величие придают особенный блеск не одной только невинности и добродетели. Они до некоторой степени распространяют этот блеск и наш интерес на характер самых великих злодеев. Когда убийца или вор идет на казнь, сохраняя хладнокровие и мужество, то, признавая всю справедливость наказания, мы не можем не сожалеть, что человек, одаренный таким необыкновенным и благородным самообладанием, был способен совершить преступление.
Война есть школа для такого рода великодушия. Страх смерти, как говорят, господствует над всеми другими страхами, поэтому невероятно, чтобы человек, победивший страх смерти, мог затем чего-либо испугаться. Война приучает к мысли о смерти и обыкновенно излечивает от суеверных ужасов, внушаемых ею душам слабым и не знакомым с опасностями. На войне смотрят на смерть только как на потерю жизни, и она составляет предмет не большего отвращения, чем сама жизнь может быть предметом желания. На войне узнают также, что многие опасности менее страшны, чем это кажется, и что при проявлении активности, храбрости и хладнокровия есть большая вероятность с честью выпутаться из положений, которые при первом взгляде кажутся безнадежными.
Вследствие этого страх смерти ослабевает, надежда, что избегнешь ее, усиливается, и человек привыкает идти без сопротивления навстречу опасности. По причине меньшего беспокойства сохраняется большее присутствие духа, чтобы преодолевать опасность. Это-то привычное презрение к опасностям и к смерти и облагораживает ремесло солдата и ставит его так высоко в общественном мнении по сравнению с другими профессиями. Военные дарования и великие победы, одержанные на службе государству, составляют, по-видимому, существенную и отличительную черту героев всех возможных времен.
Великие военные подвиги, совершенные хотя бы и вопреки требованиям справедливости и сопровождающиеся явным забвением человеколюбия, внушают род уважения и даже иногда возбуждают интерес к людям по своим нравственным свойствам недостойным. Так, нас интересуют приключения морских разбойников и таких презренных злодеев, известных из истории, которые подвергались величайшим опасностям и должны были преодолеть сверхъестественные препятствия для достижения своих преступных замыслов.
Самообладание в минуту гнева, по-видимому, не менее великодушно и благородно, чем самообладание в минуту страха. Блистательные и высоко ценимые образцы древнего и нового ораторского искусства представляют собой не что иное, как выражение справедливого негодования. Вся красота речей Демосфена против Филиппа и Цицерона против Катилины основана на естественном и благородном выражении этой страсти. Но это справедливое негодование и составляет умеренный гнев, удержанный в границах, позволяющих, чтобы его мог разделить беспристрастный посторонний наблюдатель. Неумеренный, разнузданный гнев производит тягостное впечатление, оскорбляет нас и вызывает в нас большее участие к тому, на кого он обращен, чем к тому, кто испытывает его. Великодушное прощение вследствие этого кажется более достойным чувством, чем справедливое негодование. Обиженный человек, который, получив необходимые извинения или даже не дожидаясь их, протягивает руку своему врагу и дружески обращается с ним ради исполнения какой-нибудь важной обязанности, заслуживает, по-видимому, нашего полного сочувствия.
Умение владеть собой во время гнева не всегда, впрочем, свидетельствует о прекрасных свойствах характера. Так, страх есть чувство противоположное гневу, и он часто служит побудительной причиной для смягчения гнева, но в таком случае низость побудительной причины оскверняет ее выражение. Гнев побуждает к нападению, и случается, что повиновение этому влечению требует большего мужества, чем победа над страхом. Потакание гневу может даже стать объектом тщеславия, но это никогда не случится с чувством страха. Пустые и малодушные люди нередко обнаруживают перед своими подчиненными и перед тем, кто не смеет оказать им сопротивление, припадки гнева и страсти и воображают, будто выказали этим свое мужество. Какой-нибудь хвастун рассказывает сотни случаев, когда он наделал небывалых дерзостей; ему кажется, будто он становится если не более интересным и заслуживающим уважения, то по крайней мере более страшным в глазах слушающих его людей. Обычаи новейшего времени, поощряющие дуэли и, стало быть, личную месть, быть может, оказали большое содействие тому, что сдерживание гнева чувством страха кажется теперь еще более презренным, чем это было бы при других обстоятельствах. В победе над страхом, какая бы побудительная причина ни вызывала его, нам всегда представляется более высокий подвиг, между тем как в победе над гневом мы не видим ни того же достоинства, ни даже естественности, за исключением случая, когда это обусловливается требованиями справедливости и приличия.
По-видимому, нет особенного достоинства в поведении, основанном на благоразумии, справедливости, на добрых делах, если ничто не искушает нас поступать иначе. Но поступать хладнокровно и сознательно при самых затруднительных обстоятельствах и опасностях, совестливо сохранять святые правила справедливости, когда личные интересы или грозящие нам обиды побуждают к их нарушению, не отказываться от добрых дел, несмотря ни на какую злобу или неблагодарность, – вот черты самой безукоризненной добродетели и самой высокой мудрости. Самообладание является поэтому не только весьма важной добродетелью, но и такой, которая придает блеск остальным добродетелям.
Господство над собственным страхом и гневом всегда возвышенно и благородно. Когда это осуществляют справедливость и человеколюбие, то господство не только представляется добродетелью, но усиливает собой блеск прочих добродетелей. Правда, оно может иметь и другие побудительные причины, и в таком случае оно становится крайне опасным, хотя само по себе оно замечательно и достойно всякого уважения. Непоколебимое мужество, например, может быть направлено на самые несправедливые дела; под видом веселости и невозмутимого спокойствия может скрываться самая жестокая и непреклонная решимость мести. Душевные силы, необходимые для подобного притворства, хотя и оскверненные низкими побуждениями, тем не менее могут вызвать восхищение людей, мнения которых заслуживают полного уважения. Так, глубокомысленный историк Давила нередко восхваляет притворство Екатерины Медичи[72]; строгий и добросовестный лорд Кларендон восхищается лордом Дигби, впоследствии графом Бристольским[73]; рассудительный Локк таким же образом отзывается об Эшли, первом графе Шефтсбери[74]. Сам Цицерон смотрел на подобное притворство не только как на черту исключительного характера, но и как на гибкое свойство, весьма лестное и заслуживающее уважения, в пример чего он приводил Гомерова Улисса, афинянина Фемистокла, спартанца Лисандра и римлянина Марка Красса[75]. Такой глубоко скрытный и непроницаемый характер чаще всего встречается в эпоху смут, гражданских войн и сопровождающих их беспорядков. Не подлежит сомнению, что в эпохи, когда законы бессильны, когда невинность не считает себя защищенной, люди вынуждены бывают ради личной своей безопасности прибегать к хитрости, к пронырству и быть постоянно готовыми на особого рода сделки с окружающими их условиями или с тем, что соответствует интересам господствующей партии. Такое лукавство сопровождается обыкновенно холодным и непоколебимым мужеством, ибо смерть представляется почти неизбежным следствием обмана, когда он обнаружится. Лукавство это одинаково может как усиливать, так и смягчать страсти враждующих партий, принуждающих избирать подобный образ действия; хотя оно и может быть иногда полезным, но еще чаще оно оказывается крайне опасным.
Господство над не столь сильными и бурными страстями менее способно направлять людей к пагубной цели. Воздержанность, приличие, скромность, умеренность всегда нравятся нам и редко могут вести к дурным последствиям. Непоколебимое постоянство в привычке к самообладанию придает уважаемому нами целомудрию и высоко ценимому нами трудолюбию то очарование, которое они внушают к себе. Поведение людей, довольствующихся скромной и мирной частной жизнью, достойно и привлекательно по той же причине. И хотя это достоинство и привлекательность пользуются меньшим почетом, чем достоинство и привлекательность геройских поступков и блистательных подвигов воина, законодателя и государственного человека, однако они, может быть, привлекательны не менее их. После всего, что сказано мною о природе самообладания, я уже не считаю нужным входить в подробности о добродетелях, основанных на самообладании. Замечу только, что та степень приличия, которая может быть одобрена беспристрастным посторонним наблюдателем, бывает весьма различна в каждой отдельной страсти. Излишество в проявлении некоторых страстей производит менее неприятное воздействие, чем их слабое проявление. В подобном случае одобряемая нами степень страсти выше или, вернее, ближе, к чрезмерному, чем к недостаточному ее проявлению. В других страстях слабое их проявление менее неприятно, чем чрезмерное, и тогда одобряемая нами степень их ниже или ближе к недостаточному, чем чрезмерному, их проявлению. Первые суть те, которые вызывают к себе большее сочувствие, а вторые суть те, которые возбуждают меньшую симпатию в постороннем человеке. Первые страсти суть также те, которые вызывают приятное ощущение в испытывающем их человеке, а вторые суть те, которые возбуждают в нем тягостные чувства. Можно принять за общее правило, что страсти, на которые легче отзывается посторонний наблюдатель и которые одобряются в сильнейшем их проявлении, суть те, непосредственное ощущение которых более или менее приятно для испытывающего их человека, и что, напротив, страсти, на которые труднее отзывается посторонний наблюдатель и которые одобряются в менее сильном проявлении, суть те, ощущение которых более или менее тягостно или неприятно для испытывающего их человека. Это общее правило, насколько я мог заметить, не допускает ни одного исключения, и достаточно немногих примеров для подтверждения его справедливости.
Расположение к чувствам, которые способны объединять людей в общество, то есть к человеколюбию, к доброте, к дружбе, к уважению, может иногда достигать крайней степени. Но даже чрезмерная предрасположенность к ним человека вызывает к нему всеобщий интерес: хотя мы можем осуждать такое крайнее проявление в нем этих страстей, тем не менее мы смотрим на него с сочувствием и добротой, а не с отвращением. Он может опечалить нас, но никогда не возбудит в нас негодования. Для человека, испытывающего эти чувства, почти всегда бывает приятно и даже сладостно отдаться чрезмерному их ощущению. Правда, что в некоторых случаях страсти эти подвергают его (в особенности, когда они направлены на недостойный объект) весьма реальным и сильным страданиям. Но даже и в таком случае благородная душа смотрит на них с нежным состраданием и проникается чувством глубочайшего негодования против того, кто вздумает презирать их или считать за глупость или малодушие. Отсутствие этого расположения к чувствам, соединяющим людей между собой, слывет под названием черствости сердца; оно делает человека нечувствительным к ощущениям и страданиям, испытываемым нашими ближними, а также делает и последних нечувствительными к тому, что мы сами испытываем. Лишая нас участия к нашим ближним, оно отнимает у нас самые большие и самые благотворные общественные радости.
Расположение к чувствам, разделяющим людей и разрывающим общественные связи, склонность к гневу, к мести и злобе, напротив, скорее могут оскорбить своим чрезмерным, чем недостаточным, проявлением. Крайнее проявление их делает человека несчастным и превращает его в предмет отвращения, а иногда и ужаса для прочих людей. Поэтому редко жалуются на недостаточное их проявление. Однако отсутствие их иногда может быть поставлено в вину. Человек, не испытывающий негодования, когда это чувство естественно и справедливо, не способен отразить обиды и оскорбления, наносимые ему или его друзьям. Такое же отсутствие чувства, называемого завистью, когда оно доведено до крайности или когда оно принимает ложное направление, тоже может быть недостатком. Зависть есть страсть, которая встречает со злобным неприятием превосходство тех, кто имеет действительное право стоять выше других людей. Человек, равнодушно взирающий на то, что люди, не имеющие никакого права, стараются попасть в начальники над ним или выказывают притязание на преимущество перед ним, не имеет сердца. Подобная слабость обыкновенно проистекает из крайней беспечности, а иногда также из робкого и добродушного характера, взирающего с отвращением на препятствия, ходатайства и хлопоты, или же из-за преувеличенного великодушия, считающего себя вправе постоянно презирать выгоды, которыми оно пренебрегает и от которых отворачивается в данную минуту. Слабость эта обыкновенно сопровождается сожалением, и то, что в начале казалось великодушием, вскоре превращается в злобную зависть и даже ненависть против преимуществ, на которые пользующийся ими человек, быть может, получил уже некоторое право вследствие тех самых обстоятельств, которые их доставили ему. Чтобы честно прожить свою жизнь, часто оказывается столь же необходимо защищать свое положение и свой характер, как и свою жизнь или состояние.
Наша чувствительность к личным опасностям и к горю, как и наша чувствительность к оскорблениям и обидам, чаще оскорбляет своим чрезмерным, чем недостаточным, проявлением. Нет характера более презренного, чем характер труса, и никто не вызывает такого восхищения, как человек, бесстрашно встречающий смерть и сохраняющий хладнокровие и спокойную рассудительность среди самых страшных опасностей. Мы уважаем человека, твердо переносящего страдания и даже пытку, и презираем того, чье мужество исчезает и кто предается малодушным и бесполезным сетованиям. Раздражительный характер, чрезмерно реагирующий на жизненные неудачи, делает человека несчастным и невыносимым для других. Спокойный характер, не возмущающийся ни легкими обидами, ни пустыми неудачами, заполняющими человеческую жизнь, не обнаруживающий особенных страданий среди бедствий, причиняемых ему судьбой или людьми, есть благословение для человека, обладающего им, и он придает спокойствие и безопасность окружающим людям.
Хотя чувствительность наша к личным оскорблениям и несчастьям обыкновенно бывает очень сильной, тем не менее иногда она бывает недостаточной. Человек, слабо ощущающий собственное горе, должен слабо отзываться и на горе ближних и менее расположен спешить облегчить его. Таким же образом человек, мало оскорбляющийся по поводу причиняемых ему обид, не может живо сочувствовать негодованию других людей и менее расположен к отмщению за оскорбления, нанесенные его ближним, а также к предупреждению тех, которые грозят им. Тупое и беспечное отношение к явлениям человеческой жизни заглушает ту живую и деятельную внимательность, с которой мы следим за собственным поведением и которая составляет самую сущность добродетели. Когда мы равнодушны к последствиям наших поступков, то мало заботимся об их соответствии правилам приличия или нравственности. Только тот, кто живо ощущает собственные несчастья, бесчестье, наносимое обидами, и в особенности то, что затрагивает его личное достоинство, кто не отдает себя на волю беспорядочных страстей, естественно вызываемых его положением, но поступает согласно чувству, внушаемому совестью – этим неподкупным и божественным свидетелем и судьей, – только тот заслуживает названия добродетельного человека и становится достойным любви, уважения и восхищения. Тупая бесчувственность и благородное мужество, высокое самообладание, основанное на чувстве долга и собственного достоинства, до такой степени непохожи друг на друга, что чем более мы бесчувственны, тем меньше достоинства в нашем самообладании.
Но хотя отсутствие чувствительности к личным несчастьям и оскорблениям и может иногда лишить самообладание всякого достоинства, тем не менее чувствительность наша к этому может быть также чрезмерно велика, что часто и происходит. Когда чувство приличия или совесть умеряет чрезмерную чувствительность, то такое господство над чувствительностью кажется в высшей степени высоким и благородным. Правда, обыкновенно оно бывает весьма тягостно, ибо приходится подавлять весьма многое. Мы можем в подобном случае с помощью большого усилия поступить правильно, но внутренняя борьба и смятение, вызванные этим в глубине нашей души, могут оказаться так сильны, что лишат нас спокойствия и счастья. Благоразумный человек, одаренный от природы особой и чрезмерно горячей чувствительностью, сила которой не могла быть в достаточной степени сдержана хорошим воспитанием и личными усилиями, всегда избегает, насколько это может быть допущено долгом и приличием, такого положения, которого он не в состоянии вынести. Человеку, который вследствие слабого и хрупкого телосложения не может переносить боль, опасность, никакие физические страдания, не следует безрассудно поступать на военную службу. Человек чрезмерно раздражительный, чересчур отзывчивый на обиды не должен безрассудно участвовать в партийной работе. Хотя в том и другом случае чувство справедливости и может заглушить излишнее проявление чувствительности, тем не менее подобное усилие и сопровождающая его борьба неизбежно нарушат хладнокровное и спокойное состояние духа. Эти люди не всегда будут в состоянии сохранить точность и проницательность своих суждений. Даже если их воодушевляла твердая решимость поступать самым благоразумным образом, они тем не менее будут делать промахи и ошибки, за которые потом станут краснеть всю жизнь. Определенная храбрость, крепость нервов и энергичность темперамента, естественная или приобретенная, представляют, безо всякого сомнения, самое необходимое условие для победы над самим собой.
Хотя война и борьба партий представляют лучшую школу для развития мужества и укрепления темперамента; хотя они суть лучшие лекарства против всех физических и нравственных слабостей, тем не менее если день испытания наступит прежде, чем окончательно разовьется мужество, и прежде, чем эти лекарства произведут свое действие, то нельзя будет рассчитывать на удачные результаты.
Наша чувствительность к удовольствиям, развлечениям и радостям жизни тоже может быть или непомерно велика, или слишком слаба. Впрочем, в первом случае она производит менее неприятное действие, чем во втором. Повышенная склонность к удовольствию, бесспорно, приятнее как для испытывающего его человека, так и для постороннего наблюдателя, чем тупая бесчувственность к предметам удовольствия и развлечения. Нам нравится веселость молодости и даже безрассудства детского возраста, и нам быстро наскучивают капризы и неприятная степенность старости. Но если эта счастливая склонность не сдерживается чувством приличия, если она неуместна и несвоевременна, если она не соответствует возрасту и положению людей, если, отдаваясь ей, мы поступаем вопреки нашим интересам или нашим обязанностям, то она заслуживает порицания и даже становится вредной для людей и для всего общества. Правда, упрек вызывается в данном случае не столько повышенной склонностью к удовольствиям, сколько ее неуместностью. Молодой человек, избегающий развлечений и удовольствий, свойственных его возрасту, рассуждающий только о книгах или о личных делах, производит неприятное впечатление и представляется педантом и чопорным существом. Вследствие его слабой склонности к удовольствиям своего возраста мы не видим особого достоинства в том, что он избегает свойственных этому возрасту заблуждений.
Уважение наше к самим себе может быть или слишком сильно, или слишком слабо. Быть хорошего о себе мнения до такой степени приятно и так тягостно чувствовать собственное ничтожество, что чрезмерно высокое мнение о самом себе, разумеется, менее неприятно для нас, чем самый слабый признак, говорящий об отсутствии в нас доброго о себе мнения. Но, вероятно, совсем иное представляется беспристрастному наблюдателю: в этом отношении последнее менее неприятно ему, чем первое, так что мы чаще жалуемся на то, что окружающие нас люди слишком высокого, чем слишком низкого, о себе мнения. Когда они ставят или желают поставить себя выше нас, то уважение их к самим себе противоречит нашему уважению к самим себе. Наша гордость и наше тщеславие побуждают нас к обвинению их в гордости и тщеславии, и мы перестаем относиться беспристрастно к их поведению. Однако же мы порицаем их и даже обвиняем в отсутствии сердца, если они позволяют другим людям, не имеющим на то никакого законного основания, считать себя выше их. Когда человек на наших глазах ставит себя выше других, когда он рассчитывает на более высокое место, чем то, какое заслуживает, а сами мы нисколько не заинтересованы в таком образе его действий, то тщеславие его, хотя мы и не одобряли его, лишь забавляет нас, а так как в подобном случае зависть не настраивает нас против него, то нас менее оскорбляет то, что он ставит себя выше, чем если бы он ставил себя ниже того места, которое принадлежит ему по праву.
При оценке наших собственных достоинств, при суждении о собственном характере и поведении мы, естественно, сравниваем их с двумя различными образцами. Один выражается представлением полного и всестороннего совершенства, такого, по крайней мере, какое мы только можем себе представить; другой – есть та степень совершенства, которая обыкновенно достигается в жизни и которой достигла большая часть знакомых нам людей, наши друзья и компаньоны, наши конкуренты и соперники. Редко, а может быть даже и никогда, не удается нам судить о самих себе, не обращая большего или меньшего внимания на оба эти образца. Но эти образцы обращают на себя неодинаковое внимание большей части людей и даже одного и того же человека в разное время. Внимание наше сосредоточивается преимущественно то на одном, то на другом.
Когда внимание обращается к первому из двух образцов, то лучший и благоразумнейший человек находит в своем характере одни только слабости и недостатки; он не находит в себе никаких мотивов для гордости и самовосхваления; напротив, он находит не один повод для скромности, сожаления и раскаяния. Когда наше внимание обращается ко второму образцу, то мы устремляемся то в одну, то в другую сторону, и сравнивая себя с ним, мы чувствуем себя то выше, то ниже его.
Мудрый и добродетельный человек постоянно направляет свое внимание к первому образцу, то есть к полному и всестороннему представлению совершенства. У каждого человека существует представление такого рода, слагающееся постепенно из наблюдений над собственным характером и над характерами прочих людей. Оно составляет результат медленной, но непрерывной работы совести, этого великого судьи, внутреннего и божественного посредника всех наших действий. Этот идеальный образец более или менее точен в уме каждого человека; черты его более или менее верны, его краски более или менее истинны, смотря по живости и тонкости чувствительности, с которой были произведены наблюдения, смотря по большей или меньшей заботливости и внимательности, с какою они осуществлялись. Мудрый и добродетельный человек делает это с тонкой и изысканной чувствительностью, с совестливой внимательностью и заботливостью. С каждым днем совершенствуется какая-нибудь черта слагаемого им образца, с каждым днем исчезает в нем какое-нибудь несовершенство. Он совершенствует его более всякого другого, он лучше понимает его, он составил себе о нем более точное представление, он глубже ощущает его прелесть, он более восхищается его божественной красотой. Он употребляет все усилия, чтобы сложить собственный свой характер по этому высокому образцу совершенства. Но он только подражает божественному произведению, сравняться с которым он никогда не в силах. Он чувствует, как неполон его успех, и с горечью усматривает, какие черты отличают смертную копию от бессмертного оригинала. С глубокой скорбью он припоминает, сколько раз он удалялся от требований справедливости и долга в своих действиях, словах и во всем поведении вследствие отсутствия внимательности, размышления, воздержания, – словом, как далеко отстал он от той степени совершенства, которой желал достигнуть. Если же он обратит внимание свое на второй образец совершенства, которого обыкновенно достигают знакомые ему люди, то иногда и он сам может поверить в собственное совершенство. Но так как он почти постоянно имеет в виду первый образец, то по необходимости он более бывает унижен сравнением себя с ним, чем может быть превознесен сравнением себя со вторым. Ему никогда не приходится гордиться до такой степени, чтобы иметь право с пренебрежением смотреть на того, кто стоит действительно ниже его: он так глубоко чувствует собственные слабости и так хорошо осознает всю трудность достижения даже отдаленной степени совершенства, что не смеет презирать крайние недостатки других. Он не только не способен смеяться над слабостями своих ближних, но смотрит на них со снисходительным состраданием и всегда готов своими советами и собственным примером содействовать их совершенствованию. Если они выше или становятся выше его в каком-либо отношении (ибо нет такого совершенного человека, который не встретил бы кого-либо выше себя в известном отношении), то он не завидует им. Сознавая вообще, как трудно бывает достигнуть совершенства, а с другой стороны, как трудно признать его и воздать ему должное уважение, он всегда готов на самые искренние похвалы, которые оно заслуживает. Душа его и все поведение проникаются самой искренней скромностью, самым умеренным сознанием собственных достоинств и самым полным сознанием достоинств прочих людей.
Во всех свободных и творческих искусствах, основанных на воображении, то есть в живописи, в поэзии, в музыке, в красноречии, в философии, великие художники постоянно усматривают недостатки в лучших своих произведениях и сознают, до какой степени они далеки от представлений об идеальном совершенстве, к которому всеми силами они старались приблизиться и которого они никак не могли достигнуть. Только посредственные художники бывают довольны своими произведениями, ибо они не имеют отчетливого представления об идеальном совершенстве, на котором мысль их редко останавливалась, и сравнивают свои произведения только с произведениями еще более посредственных художников. Буало, величайший из французских поэтов (быть может, равный великим древним и современным поэтам, писавшим в одном с ним жанре), часто говорил, что ни один порядочный человек никогда не бывает доволен собственным произведением. Друг его Сантель, писавший латинские стихи и имевший слабость воображать, будто это школьное дарование ставит его в ряд поэтов, говорил, что он постоянно доволен своими произведениями, на что Буало отвечал ему с лукавой усмешкой, что он представляет собой единственный пример великого человека, с которым это случается. Оценивая собственные произведения, Буало сравнивал их с идеальным образцом совершенства, который он представлял в своем воображении для своей разновидности поэзии, с образцом, о котором он много думал и который представлял так ясно, как это возможно. Что же касается Сантеля, то при оценке своих произведений он, вероятно, сравнивал их только с латинскими поэтами своего времени, которые, без сомнения, не были выше его. Но приблизиться своим поведением к создаваемому нами идеальному образцу совершенства, очевидно, труднее, чем приблизиться к этому образцу в произведениях какого-либо искусства. Художник принимается за работу в спокойном состоянии духа, пользуясь своим дарованием, своей опытностью, своими познаниями. Мудрый человек обязан сохранять безукоризненное поведение как в здоровом, так и в болезненном состоянии, в счастье и несчастье, будучи утомленным и беспечным, равно как и деятельным и внимательным. Его не должны уводить с правильного пути никакие обстоятельства, никакие неожиданные затруднения. Людская несправедливость ни в коем случае не дает ему права быть несправедливым; его не должна увлекать жестокая борьба партий, на него не должны оказывать влияния опасности и превратности военного времени.
Среди людей, оценивающих собственные достоинства и судящих о своем поведении путем сравнения их со вторым образцом, то есть с той степенью совершенства, которая обыкновенно достигается, некоторые и в самом деле находят, что стоят выше этого уровня и что это обстоятельство будет признано всяким беспристрастным и просвещенным наблюдателем. Так как внимание их направлено главным образом на обыкновенный образец, а не на идеал совершенства, они не осознают собственные слабости и недостатки; они редко бывают скромны и, напротив, отличаются самоуверенностью и высокомерием; они высокого мнения о самих себе и всегда готовы унизить достоинства других. Хотя характер таких людей вообще отличается меньшим благоразумием, а достоинства их ниже достоинств поистине скромного и добродетельного человека, тем не менее чрезвычайная их самоуверенность, основанная на непомерно высоком мнении о себе, ослепляет толпу и нередко обманывает даже людей, которые умнее их. Часто встречающийся поразительный успех самых невежественных шарлатанов среди лиц как светского, так и духовного звания достаточно подтверждает, до какой степени может быть обманута толпа самыми нахальными и ни на чем не основанными притязаниями. Но если эти притязания сопровождаются действительными и блестящими достоинствами, если они обнаруживаются со всем блеском, какой может быть придан им тщеславием, если они опираются на большую власть и на высокое положение и тем самым достигают всеобщей похвалы, то наиболее благоразумный человек нередко поддается такому общему увлечению. Громкие рукоплескания толпы затемняют способности его рассудка, и, пока он взирает на этих великих людей с известного расстояния, он готов восторгаться ими более, чем они восторгаются сами собой. Когда мы свободны от чувства зависти, то нам приятно восхищаться ими, а наше воображение естественно дополняет и совершенствует характер, который кажется нам необыкновенным во многих отношениях. Непомерное самолюбие таких великих людей, быть может, оценивается по достоинству и встречается насмешкой близкими к ним людьми, подтрунивающими втихомолку над их высокими притязаниями, которые издали вызывают к ним восхищение и обожание. Такова, однако же, обычная слабость людей, стяжавших себе самую блистательную и самую громкую славу, сопровождающую их имя вплоть до отдаленнейшего потомства.
Громкая известность, полное господство над чувствами и мнениями толпы редко приобретаются людьми, не отличающимися крайне высоким мнением о собственных достоинствах. Люди, одаренные самыми блестящими талантами, совершившие самые доблестные подвиги, осуществившие замечательные изменения как в условиях жизни, так и в понятиях людей, великие полководцы, великие государственные мужи, великие законодатели, основатели главных религиозных сект и политических партий обязаны громкой своей известностью не столько своим достоинствам, сколько своей самонадеянности и самолюбию, превышающим их действительные дарования. Быть может, самонадеянность эта была необходима не только для осуществления тех или иных предприятий, о которых не решился бы даже подумать благоразумный человек, но и для получения от своих сторонников повиновения и преданности, необходимых для успешного выполнения их планов. Если последнее и в самом деле сопровождалось успехом, то уверенность их в самих себе вызывала такое тщеславие, которое близко подходило к помешательству и безумию. Александр Великий, по-видимому, не только желал, чтобы люди смотрели на него как на бога, но, кажется, и сам считал себя сверхъестественным существом. На смертном одре, в положении, которое более всего напоминало ему его смертное происхождение, он просил друзей своих поместить его мать Олимпию в число божеств, среди которых сам он уже числился[76]. Среди благоговейного восхищения своих учеников, среди громких рукоплесканий народа, когда оракул, основываясь на этом всеобщем восхищении, провозгласил Сократа добродетельнейшим из людей[77], философ нашел в себе достаточно благоразумия, чтобы не принять себя за бога, однако не смог сдержать своего воображения и посчитал, будто находится в непрерывном тайном общении с невидимым божественным существом. Ясная голова не мешала Цезарю получать удовольствие от мысли о своем божественном происхождении от Венеры и, не подымаясь с места, принимать перед храмом своей воображаемой прародительницы римский сенат, когда члены этого знаменитого собрания подносили ему свои постановления, воздававшие ему самые сумасбродные почести[78]. Это нахальство вместе с другими выходками ребяческого тщеславия, которых менее всего можно было ожидать от ума, еще недавно столь светлого и трезвого, усилив всеобщее негодование, придало, по-видимому, решимость его убийцам и ускорило исполнение их замыслов. Религия и нравы новейших времен не представляют для великих людей возможность выдавать себя за богов или за пророков. Однако же счастье их при содействии великой любви народа нередко до такой степени кружило им голову, что побуждало их приписывать себе такие дарования и силы, которые превосходили то, чем они обладали в действительности, а самонадеянность часто бросала их в самые безрассудные и пагубные затеи. Характерная черта знаменитого герцога Мальборо состояла в том, что на протяжении десяти лет самых блестящих и непрерывных подвигов, какими только может гордиться полководец, он не проронил ни одного неблагоразумного слова, не совершил ни одного неблагоразумного поступка. То же хладнокровие и самообладание можно встретить у некоторых полководцев последнего времени, но только не у принца Евгения, не у покойного короля прусского[79], не у принца Конде, даже не у Густава Адольфа; Тюренн ближе всего подходит к герцогу Мальборо, но многие обстоятельства показывают, что он, очевидно, стоял ниже его в этом отношении.
В скромных условиях частной жизни, как и в гордых и честолюбивых замыслах более высокого положения, великие дарования, деятельность которых вначале сопровождается успехом, часто осуществляют предприятия, оканчивающиеся совершенной погибелью.
Так как уважение и восхищение, выказываемые всяким беспристрастным наблюдателем к действительным достоинствам людей, обладающих высокими дарованиями, есть чувство сознательное, то оно неизменно и не находится в зависимости от успеха или неудачи. Оно вовсе не походит на восхищение, которое иногда выказывается человеку, отличающемуся чрезмерно высоким мнением о себе и столь же высокими притязаниями. Пока предприятия его сопровождаются успехом, до тех пор удачи его, так сказать, подкупают людей. Они маскируют собой не только неблагоразумие, но и несправедливость его поступков, поэтому недостатки его не только не встречают порицания, но даже вызывают к себе всеобщее восхищение. Но если счастье поворачивается к нему спиной, то все вокруг него изменяется: то, что недавно называлось геройством и великодушием, получает настоящее свое название безрассудства и безумия; обнаружившаяся теперь грязная несправедливость и алчность, замаскированная до сих пор блестящим успехом, подрывает само величие его замыслов. Если Цезарь, вместо того чтобы выиграть, проиграл бы сражение при Фарсале[80], то в настоящее время характер его оценивался бы ниже характера Катилины; самый пристрастный к нему человек посмотрел бы на его покушения против законов Рима, быть может, с большим осуждением, чем сам Катон, несмотря на воодушевлявшую последнего страсть: типичную для человека партии. Истинные достоинства Цезаря, справедливость его вкуса, простота и изящество его слова, его военные дарования, его находчивость в несчастье, достоинства его красноречия, твердость и хладнокровие перед лицом опасностей, преданность друзьям, беспримерное великодушие к врагам были бы так же известны, как и действительные достоинства Катилины, тоже обладавшего великими дарованиями. Но безрассудство и ненасытное честолюбие Цезаря затемнили бы и даже вовсе заслонили бы его несомненные достоинства. Поэтому что касается великих людей, то удача оказывает на них такое же влияние, какое было признано нами во всех прочих отношениях: в зависимости от того, благоприятно ли оно или нет, один и тот же характер вызывает то восхищение и любовь, то ненависть и всеобщее презрение. Такая беспорядочность в наших нравственных чувствах оказывается, впрочем, небесполезной, и мы не можем не удивляться божественной мудрости, проявляющейся в слабости и глупости человека. Наше восхищение успехом основано на том же принципе, на котором основано и наше уважение к богатству и к почестям; оно столь же необходимо для установления различия сословий и порядка в обществе. Восхищение успехом научает нас подчинению людям, которые по требованию обстоятельств становятся нашими начальниками, а иногда так даже самому почтительному отношению к насилию, которое освящено успехом и которому нет возможности сопротивляться, – насилию, совершаемому не только такими гениальными характерами, как Цезарь или Александр, но и к тому, которое совершается грубыми и варварскими людьми, подобными Аттиле, Чингисхану или Тамерлану. Толпа, естественно, готова восхищаться этими великими завоевателями, хотя восхищение это, бесспорно, является проявлением нашей слабости и глупости. Оно научает людей с меньшим сопротивлением подчиняться правительству, с необходимостью навязываемому им и освободиться от которого они никак не могут.
Хотя когда человек процветает, он обладает чрезвычайно высоким о себе мнением и может одержать верх над человеком, отличающимся строгими и скромными добродетелями; хотя одобрение толпы и людей, взирающих на обоих с отдаленного расстояния, направлено скорее в пользу одного, чем другого, тем не менее в результате строгого исследования последний почти всегда одерживает верх над первым. Человек, не приписывающий себе и не желающий приписывать себе ничего сверх того, что действительно принадлежит ему, не боится ни унижения, ни разоблачения. Он спокойно опирается на действительные и несомненные свои достоинства. Почитатели его немногочисленны и нешумливы, но любой из них, кому удастся ближе подойти к нему и лучше узнать его, становится его самым горячим поклонником. Одобрение одного благоразумного человека более удовлетворит порядочного человека, чем рукоплескания тысячи невежественных почитателей-энтузиастов. Он может сказать то, что говорил Парменид, который во время чтения перед афинским народом одной из своих философских речей заметил, когда все слушатели его разошлись и только Платон его слушал: «Для моей аудитории достаточно одного Платона»[81].
Совсем иное бывает с человеком, который думает о себе больше, чем следует. Благоразумный человек, которому случится ближе взглянуть на него, уважает его менее других. Опьяневшее от успеха его восхищение самим собой не может вызвать справедливого и основательного уважения со стороны благоразумного человека, и потому первый обвиняет последнего в зависти и в недоброжелательстве; он подозревает лучших друзей своих и даже боится иметь отношения с ними, удаляется от них и отплачивает им за их услуги не только неблагодарностью, но несправедливостью и жестокостью. Свое доверие он отдает льстецам и обманщикам, которые подыгрывают его тщеславию и самонадеянности. Характер его, хотя и извращенный, но бывший вначале во многих отношениях приятным и почтенным, становится в конце концов презренным и ненавистным. Опьяненный удачей, Александр убил Клита только за то, что тот отдавал предпочтение подвигам Филиппа перед подвигами его сына. Он подвергнул смертным мукам Каллисфена только за то, что тот отказался боготворить его по примеру персов. Он приказал умертвить честного Пармениона, лучшего друга своего отца, замучив прежде пытками из-за пустого подозрения единственного из его сыновей, уцелевшего в битвах за Александра. Он умертвил того Пармениона, о котором сам говорил, что афиняне всегда были настолько счастливы, что могли иметь десяток хороших полководцев, между тем как на протяжении всей своей жизни он смог найти только одного – Пармениона; того самого Пармениона, на бдительность и верность которого он постоянно полагался с беспредельным доверием и чувствуя себя в безопасности, так что во время пиршеств и оргий обыкновенно говорил: «Станем пить, друзья, отдадимся беззаботно удовольствию, ибо Парменион не пьет никогда»[82]. Советам того же Пармениона он обязан всеми своими победами, и без них он не выиграл бы ни одного сражения. А презренные люди и льстивые друзья, которым Александр оставил власть и могущество, разделили между собой его империю и, ограбив таким образом его семейство, умертвили одного за другим всех членов его, не исключая и женщин.
Мы не только извиняем чрезмерно высокое мнение о самом себе, но даже вполне сочувствуем этому мнению, если дело идет о человеке, одаренном таким высоким характером, который ставит его выше обычного уровня. Мы называем такой характер одухотворенным, доблестным, благородным, то есть словами, предполагающими чрезвычайную степень восхищения и одобрения. Но мы не можем полностью сочувствовать чрезмерному самолюбию людей, явно не отличающихся высокими качествами. Самолюбие их вызывает отвращение и возмущает нас; мы не можем перенести и извинить его. Мы называем его гордыней и тщеславием, словами, из которых в последнем подразумевается постоянно, а в первом весьма часто крайняя степень порицания.
Хотя оба эти недостатка и сходны между собой в некотором отношении, так как они представляются различными видоизменениями преувеличенного мнения о самом себе, тем не менее в других отношениях они весьма отличны один от другого.
Гордый человек обыкновенно искренен и убежден в глубине души в собственном превосходстве, хотя и трудно бывает отгадать, на чем основано это убеждение: он не желает, чтобы другие смотрели на него иначе, как он сам действительно смотрел бы на себя, если бы стал на их место. Он требует только того, что, по его мнению, принадлежит ему. Если вы не цените его так, как он сам себя ценит, то наносите ему жестокое оскорбление, и он ощущает такое негодование, как будто бы был действительно обижен. В таком случае он не считает необходимым излагать перед вами, на чем основаны его притязания, и вовсе не старается заслужить ваше уважение: он показывает даже презрение к нему и старается удержаться на присвоенном себе месте не столько желанием заставить вас почувствовать его превосходство, сколько желанием дать вам почувствовать ваше ничтожество. По-видимому, он менее желает вашего одобрения, чем уязвления вашего самолюбия.
Тщеславный человек неискренен, и в глубине своей души он редко бывает убежден в том превосходстве, которое, как он желает, вы будете признавать за ним. Он хочет, чтобы вы были лучшего о нем мнения, чем какое он составил бы о себе на вашем месте, то есть при предположении, что вы знаете о нем все, что он сам знает о себе. Поэтому он оскорбляется, когда ему кажется, что вы смотрите на него иначе, хотя, быть может, и справедливо. Он пользуется любым случаем, чтобы показать, на основании каких побуждений он имеет притязания на такие свойства, которые желает, чтобы вы признали за ним. Вследствие этого он то хвастливо, без всякой необходимости выказывает качества, которыми владеет до известной степени, то обнаруживает притязания на такие свойства, которыми обладает в столь слабой степени, что нельзя даже сказать, будто они принадлежат ему. Он не только не пренебрегает вашим уважением, но навязчиво старается заслужить его. Он не только не желает уязвить ваше самолюбие, но льстит ему в надежде, что и вы в оплату польстите его самолюбию, ибо он льстит, поскольку сам жаждет лести. Он старается вам понравиться и хлопочет о том, чтобы заслужить у вас доброе о нем мнение своей любезностью и услужливостью, а иногда так и действительными услугами, хотя и сопровождающимися хвастовством.
Тщеславный человек видит уважение, воздаваемое знатности и богатству, и сам хочет овладеть как этим уважением, так и тем, которое сопровождает добродетели и дарования. Его одежда, его экипаж, его образ жизни – словом, все говорит в пользу более высокого положения и богатства, чем те, которые принадлежат ему в действительности. Чтобы поддержать на протяжении одной половины своей жизни эту обманчивую и чрезвычайную обстановку, он обрекает себя на протяжении другой половины на лишения и нищету. Пока он в состоянии вести такой образ жизни, он восхищен, что вы смотрите на него не так, как вы посмотрели бы, если бы знали его действительные средства, а так, как если бы ему удалось заставить вас смотреть на него. Это самообольщение, быть может, есть самый характерный результат тщеславия, оно нередко встречается у людей невысокого происхождения, путешествующих по зарубежным странам или приезжающих из отдаленной провинции поглядеть на столицу. Их безумные притязания, бросающиеся в глаза благоразумному человеку, на которые последний совершенно не способен, впрочем, не так опасны, как могли бы быть при других обстоятельствах. Если пребывание этих людей продолжается недолгое время, то они избегают бесчестия, а притязания и чрезмерные расходы их не разоблачаются. Удовлетворив свое тщеславие за несколько месяцев или несколько лет, они возвращаются домой, чтобы путем бережливости исправить ущерб, причиненный их прошедшей расточительностью.
Гордый человек редко решается на подобные сумасбродства. Чувство собственного достоинства побуждает его заботливо сохранять свою независимость. Если он обладает незначительными средствами, то, несмотря на желание сохранить достоинство в своих расходах, он тем не менее не упускает из виду осторожность и умеренность. В тщеславном же человеке безумная расточительность отстраняет соображения о недостаточности его средств. Оскорбительными притязаниями на не принадлежащее ему место он вызывает негодование гордого человека, который поэтому обращается к нему с самыми строгими и серьезными упреками.
Гордый человек чувствует себя неловко в обществе равных и еще более неловко среди людей, стоящих выше его. Он не в состоянии забыть ни на минуту своих высокомерных притязаний, хотя и не может в присутствии этих людей выказать их перед ними. Ему более нравится подобострастное общество, которое бы менее стесняло его, но и такое общество избирается им неохотно и доставляет ему мало удовольствия, ибо оно состоит из подчиненных ему людей, из льстецов, – одним словом, лиц, находящихся от него в зависимости. Он редко посещает людей, стоящих выше его, и если он делает это, то скорее ради того, чтобы показать, что он имеет право их видеть, чем ради удовольствия, доставляемого их присутствием. О нем можно сказать то, что лорд Кларендон сказал о графе Аранделе, а именно, что тот показывался при дворе, чтобы встретить там человека, стоящего выше его, но показывался весьма редко, потому что действительно встречал там людей, стоящих выше его.
Совсем иное случается с тщеславным человеком. Он ищет общества людей, стоящих выше его, тогда как гордец избегает их присутствия. Он воображает, что от их величия падает свет на приближающихся к ним людей. Его можно постоянно встретить при дворе государей и в приемной министров; он корчит из себя кандидата на успех и милости, между тем как, в сущности, уже обладает драгоценным счастьем – если бы он только умел пользоваться им – не быть подобным кандидатом. Он любит сидеть за столом со знатными людьми и в особенности гордится фамильярным обращением с их стороны. Он употребляет все силы для поддержания связей с модными людьми, которые, как считается, заправляют общественным мнением, с самыми мудрыми, учеными и популярными людьми, но избегает общества лучших своих друзей, когда переменчивое расположение общества удаляется от них. Он редко бывает щекотлив при выборе средств для достижения своих целей и не останавливается перед хвастовством, перед притязанием, не имеющим ни малейшего основания, перед рабской готовностью принять чужое мнение. Главным же образом он прибегает к лести, в особенности к такой, которая по своей изысканной форме и увлекательности менее всего похожа на отвратительную лесть лизоблюда. Гордый человек, напротив, никогда не льстит и лишь исполняет требования вежливости.
Несмотря на свои безрассудные притязания, тщеславие оказывается страстью почти всегда живой, веселой, весьма часто даже мягкой, между тем как гордость постоянно отличается серьезностью, строгостью и мрачностью. Иллюзии, которыми тщеславный человек желает убедить как самого себя, так и других людей, представляют невинный обман, направленный на собственное возвеличивание, а не на унижение других людей. Гордый человек не унижается, правда, до обмана, но если он все же решается на него, то его притворство далеко не так невинно: оно проникнуто злобой и имеет целью унизить других. Гордец негодует против несправедливого преимущества, оказываемого, как он полагает, перед ним другим людям. Он смотрит на них с завистью и, говоря о них, всеми силами старается ослабить все, что может служить основанием или поводом для такого преимущества. Когда до его слуха доходит какая-нибудь клевета, то он с удовольствием выслушивает ее, и, хотя сам никогда не был бы способен выдумать клевету, он не прочь повторить ее или даже преувеличить. Самое серьезное притворство, к которому прибегает тщеславие, состоит из так называемых невинных обманов; притворство гордости, если она унизится до него, отличается противоположным характером.
Вследствие отвращения, возбуждаемого вообще гордостью и тщеславием, мы склонны ставить людей, обвиняемых нами в подобных недостатках, скорее ниже, чем выше, обыкновенного уровня. Однако такое суждение почти всегда оказывается несправедливо, ибо большая часть тщеславных и гордых людей стоит гораздо выше этого уровня, хотя вовсе не в такой степени, как воображают первые или как того желают вторые. По отношению к их притязаниям они заслуживают, по-видимому, презрения, но по сравнению с их соперниками они значительно отличаются от них и, бесспорно, стоят выше обыкновенного уровня. В случае наличия действительных достоинств, гордость часто сопровождается многими похвальными добродетелями, а именно правдивостью, честностью, благородством, искренней и постоянной дружбой, твердостью, мужеством. Тщеславие же сопровождается вежливостью, предупредительностью в небольших услугах и великодушием в больших, хотя великодушие это не замедлит придать себе такую цену, какая только будет возможна. В прошлом веке соперники и враги французов упрекали их в тщеславии, а испанцев в гордости, между тем как близкие им народы видели в первых самый любезный из народов, а во вторых – народ, более всего достойный уважения.
Слова «тщеславный» и «тщеславие» никогда не принимаются в положительном смысле. Мы иногда говорим о человеке добром по своей природе, что тщеславие делает его лучшим и что оно более забавно в нем, чем оскорбительно, но на это его тщеславие мы все же смотрим как на слабость и смешную черту характера.
Слова «гордый» и «гордость», напротив, иногда принимаются в хорошем смысле. Мы часто говорим о человеке, что он слишком горд, что у него достаточно благородной гордости, чтобы не решиться на низкий поступок. В таком случае гордость смешивается с великодушием. Аристотель – философ, который, без сомнения, хорошо познал мир, рисуя характер великодушного человека, перечисляя несколько черт, которые мы в последние два столетия приписываем испанскому характеру. Так, он приписывает великодушному человеку твердость в принятом решении и осторожность в действии, серьезный голос, обдуманную речь, медленную походку и такие же движения, беспечный и даже ленивый внешний вид. Он прибавляет к этому, что великодушный человек мало занимается пустыми делами, но в серьезных случаях поступает твердо и решительно; что он не любит подвергаться бесполезным опасностям, но охотно идет навстречу великим, и если уж он решился на это, то нисколько не заботится о собственной жизни.
Гордый человек обычно более чем удовлетворен собственным характером, чтобы ему могла прийти в голову мысль о необходимости самоусовершенствования. Кто считает себя совершенным, тот, естественно, презирает всякое дальнейшее совершенствование. Самодовольство и абсурдная уверенность в собственном превосходстве сопровождают его обыкновенно с юности до преклонного возраста, и он умирает, по словам Гамлета, обремененный своими грехами, без приготовлений и без шума[83].
Иное зачастую бывает с тщеславным человеком. Жажда к уважению и к похвалам, когда мы хотим, чтобы нам воздавали их за дарования и качества, которые действительно заслуживают уважения и похвалы, есть любовь к истинной славе, страсть если не самая высокая, то, без сомнения, одна из самых достойных страстей. Тщеславие же есть не что иное, как несвоевременная попытка получить громкую известность прежде, чем мы действительно заслужим ее. Поэтому, если ваш сын не более чем двадцатипятилетний фат, не отчаивайтесь, ибо в сорок лет он станет порядочным человеком и будет обладать всеми добродетелями и талантами, которыми в настоящее время он только рисуется или на которые он только обнаруживает притязания. Великая задача воспитания состоит в направлении тщеславия на достойные предметы и в недопущении, чтобы юноша гордился пустяковыми достижениями. Не препятствуйте его притязаниям на обладание ценными достоинствами. Он не выказывал бы пристрастия к ним, если бы горячо не желал обладать ими. Поощряйте подобные желания и предоставляйте ему средства для их удовлетворения, но не негодуйте на него за то, что он, возможно, примет вид победителя прежде, чем одержит действительную победу. Таковы отличительные черты гордости и тщеславия, когда они проявляются в соответствии со своими особенностями. Но гордый человек часто бывает тщеславен, а тщеславный человек часто оказывается гордым. Весьма естественно, что человек, думающий о себе лучше, чем он того заслуживает, желает, чтобы и другие были о нем такого же высокого мнения, и что человек, желающий, чтобы его уважали более, чем он сам себя уважает, готов уважать себя более, чем он того заслуживает. Так как гордость и тщеславие часто соединяются в одном и том же лице, то и отличительные черты их в таком случае необходимо смешиваются: поэтому иногда можно встретить нахальное и пустое самохвальство, порождаемое тщеславием, вместе с иронической и злой заносчивостью, вызываемой гордостью, так что мы не сумеем отличить того, что принадлежит собственно гордости, от того, что составляет характерную черту тщеславия.
Люди, стоящие гораздо ниже обыкновенного нравственного уровня, иногда чрезмерно уважают себя, а иногда – меньше, чем следует. В последнем случае хотя они и обращают на себя немного внимания, но это не мешает им быть любезными: подле человека робкого и скромного как-то лучше чувствуешь себя. Если окружающие его люди не отличаются особенной проницательностью и великодушием, то они могут любить его, но уважение их к нему редко бывает значительным, а горячее их расположение обыкновенно не вознаграждает за недостаточное уважение. Посредственные люди, как правило, не оценивают других людей выше, чем они сами это делают. Такой-то человек, говорят они, сам сомневается в своих способностях занять это место или получить право на такое положение, и не задумываясь помещают выше его бесстыдного глупца, который никогда в себе не сомневается. Более умные, но не одаренные особенным великодушием люди никогда не упустят случая воспользоваться добродушием скромного человека и с наглостью выказывают перед ним свое превосходство, на что не имеют никакого права. По добродушию последний некоторое время переносит подобное высокомерие, и, хотя в конце концов оно надоедает ему, обыкновенно бывает уже поздно. Положение, которое ему следовало бы занять, потеряно безвозвратно; вследствие его беззаботности место его занято кем-нибудь другим, кто имеет на него несравненно меньше прав, но кто больше хлопотал, чтобы занять его. Порядочный человек, доводящий до такой степени свою скромность, должен рассчитывать на большую удачу в выборе друзей, чтобы постоянно ощущать с их стороны справедливое отношение к себе, хотя бы он имел полное право рассчитывать на их дружбу лишь за свою привязанность к ним. Часто случается, что вследствие излишней скромности и недостаточного самолюбия в юности он проводит и более зрелые годы среди неудовольствий и сетований.
Несчастные люди, поставленные природой несравненно ниже обыкновенного уровня, ценят себя еще меньше, чем того заслуживают в действительности. Такого рода самоуничижение погружает их, по-видимому, в полный идиотизм. Тот, кто внимательно наблюдал за идиотами, вероятно, заметил, что у большого числа людей, заслуживших подобное прозвище, мыслительные способности вовсе не слабее, чем у многих других людей, которые хотя и считаются тупыми и глупыми, все же не заслуживают названия идиотов. И действительный идиот, воспитанный подобно прочим людям, достигает того, что умеет прилично читать, писать и считать, а вот многие лица, которых не считают идиотами, не могли приобрести хоть одно из этих умений, несмотря на заботливое воспитание и на свою решимость попытаться в зрелом возрасте выучиться тому, чего не могли одолеть в детстве. Тем не менее по причине какой-то инстинктивной гордости они становятся на один уровень с прочими людьми того же возраста и положения и благодаря своему мужеству и настойчивости умеют удержать за собой принадлежащее им место в обществе. Идиоты же вследствие противоположного инстинкта чувствуют себя ниже других, где бы они ни находились. Если обращаться с ними дурно, что встречается довольно часто, то они способны на крайнее проявление злобы и бешенства. Тем не менее ни хорошее обращение, ни снисходительность, ни искренняя привязанность не могут заставить их держать себя с вами так, как с равными, а между тем, если вам удастся заставить их говорить, то вы нередко увидите, что суждения их здравы и верны, хотя и постоянно проникнуты сознанием собственного ничтожества. Они, по-видимому, стараются унизить самих себя перед вами, избегают ваших взглядов и разговоров с вами и будто бы чувствуют, что, став на их место, несмотря на вашу снисходительность, вы не сможете не увидеть их крайнего ничтожества. Некоторые идиоты, даже большее число их, таковы, какими я представил их, именно вследствие некоторого оцепенения или притупления их мыслительных способностей. Но есть также и такие, у которых способности эти, по-видимому, не менее деятельны и так же мало притуплены, как у многих людей, которых вовсе не считают идиотами. Но все дело в том, что у первых недостает той инстинктивной гордости, которая необходима для поддержания себя на равной ноге с прочими людьми, а вот вторые обладают ею.
Итак, степень уважения к самому себе, необходимая для удовлетворения и для счастья каждого человека, наиболее приятна и для беспристрастного наблюдателя. Человек, оценивающий себя настолько, сколько он действительно стоит и не больше, вызывает у других людей как раз такое уважение, какое желает заслужить. Он ведь требует только должного и вполне удовлетворяется таким требованием.
Гордый человек, как и тщеславный человек, напротив, никогда не бывает доволен. Одного тревожат и приводят в негодование несправедливые, по его мнению, преимущества, приписываемые себе прочими людьми. Другой находится в постоянном страхе перед позором, который грозит ему, когда люди узнают, как малоосновательны его притязания. Человек, который действительные свои достоинства сопровождает непомерными притязаниями, даже если последние и опирались бы на блистательные дарования, на высокие добродетели, может обмануть толпу, рукоплескания которой мало интересуют его, но не обманет благоразумного человека, одобрение которого только и дорого, а уважение только и желательно для него. Он подозревает, что благоразумный человек видит его насквозь и презирает его притязания. К своему несчастью, он становится сначала завистливым и тайным, а затем злым и открытым врагом тех людей, дружба которых была бы для него истинным счастьем, то есть единственным счастьем, которым можно было бы пользоваться без всякого подозрения.
Хотя отвращение наше к тщеславным и к гордым людям нередко побуждает нас ставить их скорее ниже, чем выше, того, что они действительно заслуживают, тем не менее, если только они не оскорбляют нас какой-либо личной дерзостью, мы редко поступаем с ними дурно. Мы даже почти всегда стараемся ради собственного спокойствия приноравливаться к их безрассудным притязаниям. Что же касается людей, уважающих себя меньше, чем следует, то мы относимся к ним с такою же несправедливостью, какую они сами себе выказывают, и даже переходим за эти границы, если только мы не одарены большей разборчивостью и великодушием, чем прочие люди. Поэтому человек, уважающий себя менее, чем следует, не только несчастнее человека гордого или тщеславного, но с ним еще и обращаются хуже, чем с прочими людьми. Вследствие этого почти всегда выгоднее быть чрезмерно гордым, чем чрезмерно скромным; а в собственном нашем мнении о самих себе некоторое излишество кажется менее неприятным, чем недостаток самолюбия как для самого человека, так и для беспристрастного наблюдателя.
В отношении гордости, как и в отношении других страстей и привычек, степень страсти, более всего приемлемая для беспристрастного наблюдателя, доставляет наибольшее удовольствие и человеку, испытывающему страсть; излишество же или искажение ее тем менее неприятны для последнего, чем менее оскорбляют первого.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ШЕСТОЙ ЧАСТИ
Наше собственное благополучие побуждает нас к благоразумию; благополучие наших ближних побуждает нас к справедливости и человеколюбию; справедливость отстраняет нас от всего, что может повредить счастью наших ближних, а человеколюбие побуждает нас к тому, что может содействовать ему. Первая из этих трех добродетелей изначально внушена нам любовью к самим себе, а другие две – нашим расположением к добру независимо от чувств других людей, от того, какими могут или какими должны быть они при известных обстоятельствах. Внимание, обращенное на эти чувства, впоследствии укрепляет три добродетели и дает им должное направление. Среди людей, постоянно поступающих – на протяжении ли всей своей жизни или только части ее – благоразумно и человеколюбиво, нет ни одного человека, который бы в поведении своем не предпочел главным образом те чувства, которые он может внушить предполагаемому беспристрастному наблюдателю, тайному свидетелю и верховному судье, живущему в глубине нашего сердца. Если в течение дня мы нарушили предписываемые им правила, если мы перешли за границы умеренности и человеколюбия или же не исполнили того, что внушается ими; если мы нарушили интересы или счастье ближнего из-за страсти или по оплошности; если мы пренебрегли случаем оказать ему услугу, то внутренний судья потребует от нас вечером отчета во всех ошибках и промахах, а упреки нередко пробуждают в нас тайный стыд за нерадение о собственном счастье и за чрезмерное равнодушие к счастью ближних.
Хотя такие добродетели, как благоразумие, справедливость и великодушие, в равной степени могут быть вызваны в нас обоими противоположными принципами, но добродетели, основывающиеся на самообладании, почти всегда вызываются одним только принципом, а именно чувством приличия, вниманием к голосу воображаемого беспристрастного наблюдателя. Без сдержанности, налагаемой на нас этим принципом, каждая страсть слепо направлялась бы к своему предмету: гнев выражался бы со всем свойственным ему неистовством, страх – крайними своими проявлениями. Тщеславию же вовсе не было бы необходимости ограничивать свои непомерные и дерзкие притязания какими бы то ни было условиями времени или места, а сладострастию вовсе не для чего было бы обуздывать или прикрывать себя. Уважение к чувствам других людей, к тому, чем они должны или могут быть, есть единственный принцип, который почти во всех обстоятельствах сдерживает эти беспокойные и мятежные страсти и принуждает их принять такое направление и выражение, которые могут быть одобрены беспристрастным наблюдателем.
Встречаются случаи, когда страсти эти сдерживаются не столько чувством их неприличия, сколько благоразумным взвешиванием пагубных последствий, которые будут вызваны ими, если мы отдадимся им. В таком случае хотя страсть и сдерживается, она не всегда побеждается и часто таится в глубине души со всем своим изначальным неистовством. Человек, сдерживающий свой гнев чувством страха, вовсе не побеждает его, а только откладывает до другой минуты его удовлетворение. Но человек, который, рассказывая о причиненной ему обиде, чувствует, что волновавшая его страсть охлаждается и успокаивается вследствие его симпатии к более умеренным чувствам слушателя, заканчивает тем, что принимает эти самые чувства и смотрит на свою обиду не со столь мрачной и злой точки зрения, с какой смотрел на нее прежде. Он не только сдерживает свой гнев, но и действительно побеждает его. Страсть его и в самом деле стала менее сильна, чем была вначале, и теперь менее способна побудить его к тому жестокому и кровавому мщению, которое было им задумано.
Страсти, сдерживаемые, таким образом, чувством приличия, почти все умеряются и подчиняются этому чувству, но страсти, сдерживаемые одними только доводами благоразумия, напротив, разгораются от усилий, которыми они обуздываются: иногда спустя долгое время после вызвавшей их обиды, когда менее всего ожидают того, они странным и неожиданным образом вспыхивают, оказываясь во много раз более неистовыми и жестокими.
Тем не менее гнев, как и прочие страсти, во многих случаях может быть в достаточной степени сдержан доводами благоразумия. Для такого рода победы необходимо известное мужество и самообладание. Победа эта может вызвать со стороны беспристрастного наблюдателя холодную оценку, какую мы даем всякому поступку, обусловленному обыкновенным благоразумием. Но эта победа никогда не возбудит такого внимания и восхищения, какие вызываются в нас страстью, сдержанной и побежденной чувством приличия, которое действительно может быть нам присуще. В первом случае мы тоже находим род приличия и, если хотите, даже добродетель, но это приличие и эта добродетель гораздо ниже тех, которые увлекают нас восхищением по отношению к самообладанию, основанному на более благородных побуждениях.
Благоразумие, справедливость и человеколюбие имеют в виду только приятные последствия; цель их состоит в привлечении к себе сначала действующего человека, а затем и беспристрастного наблюдателя. Когда мы одобряем поведение благоразумного человека, то мы с удовольствием останавливаемся на мысли о безопасности, которая должна окружать его, пока он будет исполнять требования мудрого и продуманного благоразумия. Одобряя поведение справедливого человека, мы смотрим с таким же удовольствием и на безопасность и спокойствие, доставляемые родным, друзьям, соседям его совестливой осторожностью не причинить им вреда или не обидеть их. Одобрение характера благодетельного человека тоже побуждает нас разделять признательность тех, на ком сосредоточивается деятельность его добродетелей; подобно им, мы живо ощущаем его достоинства и прекрасные свойства души. Поэтому, когда мы одобряем благоразумие, справедливость и человеколюбие, то осознание их приятных и полезных результатов как для человека, одаренного этими добродетелями, так и для тех, на кого обращены они, имеет большое значение и принимает весьма важное участие в нашем одобрении.
Но когда мы одобряем добродетели, основанные на самообладании, то оценка последствий их не принимает никакого или же принимает весьма слабое участие в нашем одобрении. Последствия эти могут быть приятны или неприятны, и хотя одобрение наше в первом случае будет сильнее, оно тем не менее не исчезает и во втором. Самая геройская храбрость может быть употреблена как на справедливое, так и на несправедливое дело; и хотя она вызывает у нас сильнейший интерес и восхищение в первом случае, но и во втором мы находим в ней нечто высокое и заслуживающее уважения. Об этой добродетели можно сказать то же, что и о прочих, основанных на самообладании: самые поразительные и блестящие качества в глазах людей те, реализация которых требует наибольшего душевного величия, наибольшей твердости, наиживейшего чувства приличия как для того, чтобы принять эти качества, так и для того, чтобы отвергнуть. На последствия же их редко обращается особенное внимание.
ЧАСТЬ VII
ОТДЕЛ I
ОТДЕЛ II
Введение
Можно привести три группы мнений, высказанных относительно природы добродетели или о состояниях души, обусловливающих превосходный характер, более всего заслуживающий похвалы. По мнению одних, состояние души, обусловливающее добродетель, состоит не в чувствах особого рода, а в руководстве и правильном направлении всех чувств, которые могут быть добродетельными или порочными в зависимости от предмета, имеющегося ими в виду, и силы, с которой они стремятся к нему. По мнению таких авторов, добродетель, стало быть, есть то, что прилично.
По мнению других, добродетель состоит в разумном преследовании наших интересов и личного благополучия или в обладании и достойном направлении личных чувств, имеющих в виду исключительно наше личное счастье. По мнению таких моралистов, добродетель состоит в благоразумии.
Есть еще авторы, согласно которым добродетель сводится к чувствам, направленным не на личное наше счастье, а на счастье наших ближних. Из этого следовало бы заключить, что одна только бескорыстная любовь может придать нашим действиям характер добродетели.
Очевидно, стало быть, что добродетельные свойства следует приписать или всем нашим чувствам, когда они сдерживаются и правильно направляются, или отдельному виду наших чувств. Чувства наши разделяют обыкновенно на эгоистические и благожелательные. Если оказывается невозможным приписать добродетельные свойства всем нашим чувствам, когда последние сдерживаются и правильно направляются, то их следует приписать отдельно или чувствам, направленным на наше личное счастье, или чувствам, направленным на счастье ближних. Если добродетель не состоит в приличии, то она должна, следовательно, состоять в благоразумии или в благожелательности – кроме трех приведенных определений добродетели нельзя придумать никакого другого. Ниже я покажу, что всякое иное определение, кажущееся отличным, может быть приведено к одному из перечисленных нами.
ОТДЕЛ III
О РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНЦИПА ОДОБРЕНИЯ
Введение
После исследования сущности добродетели самый важный вопрос нравственной философии состоит в определении принципа одобрения, то есть силы или способности души, благодаря которой мы находим некоторые характеры приятными или неприятными и отдаем предпочтение тому или иному поступку: смотрим на один как на предмет, достойный одобрения, уважения и награждения, а на другой – как на предмет, достойный осуждения, порицания и наказания.
Принцип одобрения объясняют тремя различными способами. По мнению одних, мы одобряем или не одобряем как свои собственные поступки, так и поступки прочих людей только из любви к самим себе в зависимости от их значения для нашей пользы или для нашего счастья. По мнению других, только разумом, то есть способностью, благодаря которой мы отличаем истину от заблуждения, можем мы постигнуть то, что прилично или неприлично в наших поступках или в наших чувствах. Некоторые полагают, наконец, что различение это есть непосредственный результат нашей чувствительности и возникает от удовольствия или отвращения, которое внушается нам известными чувствами или известными поступками. Итак, себялюбие, разум и чувство суть три различные причины, принимаемые за основание для нашего одобрения.
Прежде чем приступить к исследованию этих различных воззрений, я замечу, что решение вопроса о том, какая из трех систем ближе к истине, имеет большее значение для теоретических соображений, чем для практического их приложения. Вопрос об определении сущности добродетели, несомненно, важен для наших понятий о добре и зле в каждом частном случае, а вот вопрос об основании нашего одобрения может и не иметь такого значения. Исследование внутреннего механизма, который управляет этим одобрением, может быть любопытно только для философа.
ОТДЕЛ IV
Адам Смит
Теория нравственных чувств
Библиотека этической мысли –
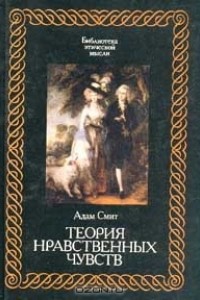
Gufo http://www.litmir.co
«Теория нравственных чувств»: Республика; Москва; 1997
ISBN 5-250-02564-1
Аннотация
Смит утверждает, что причина устремленности людей к богатству, причина честолюбия состоит не в том, что люди таким образом пытаются достичь материального благополучия, а в том, чтобы отличиться, обратить на себя внимание, вызвать одобрение, похвалу, сочувствие или получить сопровождающие их выводы. Основной целью человека, по мнению Смита. является тщеславие, а не благосостояние или удовольствие.Богатство выдвигает человека на первый план, превращая в центр всеобщего внимания. Бедность означает безвестность и забвение. Люди сопереживают радостям государей и богачей, считая, что их жизнь есть совершеннейшее счастье. Существование таких людей является необходимостью, так как они являются воплощение идеалов обычных людей. Отсюда происходит сопереживание и сочувствие ко всем их радостям и заботам
Адам Смит
Теория нравственных чувств
Или
Дата: 2019-02-02, просмотров: 384.